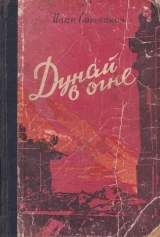
Текст книги "Дунай в огне. Прага зовет (Роман)"
Автор книги: Иван Сотников
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Союзнички! – возмущались солдаты.
3
– Был колодец в городе, все воду брали там, – рассказывал солдатам усач Франтишек Буржик – пожилой партизан Янчина. – Да, дорого та вода обходилась. В пещере у самого города поселился двенадцатиглавый дракон, и каждый день ему живую девушку на растерзание подавать нужно. А не отдашь – он воды не дает, тогда всем конец.
Буржик обвел солдат долгим пристальным взглядом.
Скажете, сказка, чего болтает старый, – продолжал он снова, – ан нет: вся жизнь такая, и кто ни пойдет против того дракона в одиночку – гибнет и только.
– У нас свой был дракой такой же, – заговорил Тарас, – а голов-то, может, и побольше было, да все поотрубали. И девушки живы, и вода наша, и город наш.
– То вовсе славно, – зачастил Буржик, – кто же теперь не знает о том и кто не хочет того же… Поглядите-ка вокруг, сколько партизан у нас, больше, чем деревьев вон в том лесу, – указал он на высокие нагорья, сплошь покрытые лесом, – и все они, партизаны то есть, на того дракона поднялись, да сил у нас маловато. А пришли вы – и конец тому дракону. Все знают – конец.
Буржику около пятидесяти, но выглядит он старше.
Половину жизни он провел, можно сказать, в роскоши: он отделывал богатые квартиры. Но роскошь была чужая, и благ ее он не вкусил ни разу. Сам он, впрочем, и не задумывался над этим: так уж было заведено – одни работают и ничего не имеют, другие ничего не делают, а всем владеют. Но вот услышал он о советской стране. Много тут грязных помоев выливали на эту страну, но Буржик усвоил одно: там все наоборот – кто ничего не делает, ничего и не получает, а рабочий – хозяин жизни. На сердце у Франтишека сделалось неспокойно. Вот командует им подрядчик, выжимает из него все соки, забирает часть его получки. А что делать? Воевать? И он долго не находил ответа. С каким бы удовольствием схватил он подрядчика за шиворот и отхлестал его по морде! Ну, хорошо, а дальше что? Да, дальше? Посадят его в тюрьму или, что самое меньшее, выкинут на улицу. Кто семью кормить будет? Франтишек сжимал зубы и беззвучно ругался, колотил по стене кулаком. Так бы его, мерзавца, так! Ах, если б не жена и не дети погибшего сына! Буржик давал волю воображению. Первым делом он схватил бы подрядчика, потом хозяина и с каким бы наслаждением стиснул им глотки, прижал бы к стене, и раз, раз, раз!.. А потом, потом тюрьма, голод семьи, может, смерть. Нет, думал, надо терпеть: жизни не изменишь. Так он буйствовал и смирялся, пока его не сманил к себе Батя. Может, еще есть счастье? А что если удастся разбогатеть? Есть же примеры. Да, упорство и смирение! Смирение! Но когда пришли гитлеровцы, и Батя, разорив его, выбросил на улицу, а семья еще больше натерпелась от голоду, он всем призрачным достоинствам терпения предпочел открытую ненависть. Так ушел он к партизанам Стефана Янчина.
Снарядом выворотило молодой граб, и лежит он, как воин, павший в бою.
– Айяя-яяй! – качал головой сухонький грибообразный старичок, присаживаясь у израненного комля погибшего граба. – И деревам жизнь не в жизнь, и их из земли с корнем.
Это – отец Франтишека. Он словоохотлив и с удовольствием рассказывает о своей жизни. Ярко горит вечерний костер, весело потрескивают в нем сучья, и беспокойные белые язычки пламени старательно лижут их, превращая в багрово-красный жар древесного угля. Бойцы с интересом слушают старика-словака, то и дело поглядывая на красавицу Марию, частую гостью у их вечерних костров.
Правда – нет ли, трудно сказать, но ему далеко за сто, хоть сомневаться в том едва ли есть причина: у него все высохло: и кожа на лице сморщенная, как у перепеченного яблока, и шея, столь тонкая, что удивительно, как держится на ней его седая голова, и руки, такие маленькие и плоские, будто их, как рыбу много лет вялили на солнце. Да и весь он так мал, сух, тонок, что кажется, как может еще теплиться жизнь в этом слабом и хилом теле. А меж тем, старик крепок: он помногу ходит, ездит верхом, а то и часами лежит на позиции и постреливает себе по немцам. Глаз у него еще остер и меток.
Отец его маляр-отходник, был завсегдатаем будапештских особняков, отделывая их своей кистью под все цвета радуги. А сам жил в маленькой мазанке в далекой-предалекой горной словацкой деревушке с поэтическим названием Бистричка. Подростка-сынишку он часто брал с собой в отход свет посмотреть, к делу обвыкнуть. Он, Стефаник, видел и знал больше отца, которому некогда было расхаживать по улицам венгерской столицы. А Стефаник слушал Петефи и Кошута, его чуть не задавили на большой площади, где шумели, как никогда, и все радовались какой-то революции. Потом подросший Стефан Буржик разобрался в этих вещах. Много он видел на своем веку разного рабочего люда, много стачек и забастовок в Чикаго и в Канаде, в Вене и в Париже, в Антверпене и Амстердаме. Немало судов бороздит моря и океаны, тех самых судов, на которых он работал со своей кистью. Сколько денег осело в чужие карманы при помощи его, Буржика, а он так и вернулся лет пятьдесят тому назад в свою нищую Бистричку, не скопив ни доллара, ни франка, ни гульдена, ни форинта, ни марки, ни пенга. Много видел Стефан рабочего люда, однако, никогда не видел, чтобы он был хозяином своей судьбы. Правда, вместе с антверпенскими рабочими он плясал от радости, когда услышал про Парижскую Коммуну. Но и ее удушили. И на кого он только не работал: и на Франца-Иосифа, и на бельгийского короля, и на голландскую королеву, и на Вильгельма, и на своего Батю. Пришлось бы и на Гитлера, да чаша уж переполнилась, переполнилась и пролилась. Никто не захотел покориться Гитлеру и его сподручным из шайки Тисо. Вся деревня подалась в партизаны. Только девки да бабы с ребятишками остались дома, но и они не сидели сложа руки, а кормили и одевали партизан.
А тут каратели. Переловили они всех баб с детьми, да на круг. Партизан требуют, грозят деревню сжечь. Только молчит деревня. Один дом подпалили с краю, второй подпалили. Вскрикнули бабы и замерли, оцепенели. А каратели с факелами стоят, окаянные, выдачи партизан требуют. Еще два дома запалили. Молчит деревня. Еще! Кричат, все спалим и вас всех в том огне пережарим: говорите, где партизаны! Сердце заледенело просто. Молчим однако. Вот и вся деревня полымем объята. Чего ж теперь взять с них? Они все отдали им, душегубам. Не все одначе. Вытащили меня, говорят, стар ты, убеди их, не то всем конец, пожалей матерей с детьми. Молчу я, прижимаю к себе внучат и молчу. А они, изверги, вырывают их, да за ноженки на дерево. Не скажешь, детей попалим живыми. Ахнули матери, визг – не передать. А они из автоматов рраз… рраз… Угомонили. Костер под детьми развели. Женщины глаза руками заслонили. Стоят, не шелохнутся. А дети кричат, душу переворачивают. Говори, старик, требуют. А как я скажу, как выговорю, рядом вот тут партизаны, близко совсем, нет у них еще оружия. Как скажу, сорок человек тут близехонько, всего час-другой ходьбы. Ведь вы их всех загубите, а в них вся совесть людская. Как скажу! Они же, мерзавцы, большой огонь распалили уж. Чую, конец моим хлопцам. Бабы, кричу им, что же стоим мы, они, ироды, всех тут погубят, души их, бабы! Ахнули, и пошла свалка. Пальба, гитлеровцы их прикладами крушат, они кольями, чем попало отбиваются. Да силы не равны. В лес бросились… Много полегло наших баб и девок, много детишек осталось там.
– То так было человече! – закончил старик, почему-то обращаясь лишь к Голеву, будто ему одному и рассказывал.
– Ой, как же тяжело! – вздохнул Тарас. – Как тяжело тут людям, и как понятно их теперешнее ожесточение. Что ж, и гитлеровцы, и тисовцы еще попомнят ту Бистричку. Пройдем вот, и попомнят!
4
Жаркий костер собрал большой круг партизан и солдат. Было очень тихо, и сладковатый буковый дым низко стлался по земле. Григорий Березин молча уставился на огонь и без конца раздумывал над тем, о чем весь вечер говорили партизаны с солдатами. Его словно гипнотизировало манящее пламя, хмелил пряный дым, радовали голоса людей. Все было близко и дорого, все связано с делом, которому они служат ревностно и самоотверженно, и которому отдано столько сил, крови, жизней. А как иначе? Не губить же самое лучшее, чего достиг человек?
Ох, люди, люди! Видно, не так просто постигнуть им смысл жизни. Сколько еще страданий, крови, смерти. Неужели нельзя без этого? Без Бабьего Яра и без Орадура, без Лидице и без Освенцима, без Бистрички? Сотни, тысячи лет живут люди. Они создали культуру, цивилизацию, которая могла бы стать их счастьем, гордостью. Они построили чудесные города, создали железные дороги, огромные пароходы, быстролетные аэропланы. Они построили храмы и дворцы, радующие глаз. Написали полотна картин, напечатали миллионы умнейших книг. Их фабрики и заводы могут создавать блага, достойные их упорного труда, их дерзновенной мысли, их горячего сердца. А кругом нужда и голод, кровь и смерть. Не за тем же, чтобы убивать, в поте лица трудилось поколение за поколением! И что же это за мир, который не живет без угнетения, без голода, без войн! И не оттого ли им так дорог свой советский мир, без которого нет на земле настоящей и достойной жизни. Не они начали эту войну. Ее привел к ним тот чужой мир, полный чудовищных насилий, с которым не может мириться человеческая совесть и разве не святой долг, не долг чести разрушать такой мир и строить другой, где человек человеку друг, товарищ, помощник!
У костра долго царило молчание, словно каждый задумался вдруг о своем, близком и далеком, что дороже всего на свете. Против Березина сидела Мария Янчина и тоже не сводила глаз с угасавшего пламени. О чем задумалась она? И чем заняты сейчас ее мысли и чувства? Молодая словачка с первой же встречи понравилась Березину. Красивая, умная, с огоньком в душе, она никого не оставляла равнодушным, и Григорию хотелось глядеть и глядеть на ее удивительно ясные лучистые глаза, слушать и слушать ее звонкий грудной голос и просто быть вместе, рядом, лишь бы ощущать ее присутствие. Уж не влюблен ли он в эту партизанку? За всю войну его не привлекла ни одна женщина. А сколько их было и красивых, и умных, и тоже с огоньком в душе! Увлеченность делом, страсть борьбы заполняли его жизнь, и в ней не было места ничему другому. Не потому, что он какой-то сухарь, ему не чуждо ничто человеческое: ни дружба, ни товарищество, ни сама любовь. Но дело осталось делом, и ему Григорий не изменил ни в чем. И вдруг Мария! Это живой огонек в его душе, яркий, горячий, даже обжигающий. Нет, она ничего не говорила ему про свои чувства, ничем не обнаруживала их, с ее стороны не было и намека. Она больше и чаще с другими, чем с ним, и у Григория порою нет-нет да и шевельнется в груди тоскливо-ревнивое чувство. Но какие же все-таки у него чувства к ней? Пройдет несколько дней, и они расстанутся, расстанутся навсегда. Мыслима ли в таком случае какая любовь? Пусть и немыслима, а его безотчетно влечет к этой женщине и – что удивительно – он готов во многом, если не во всем, уступить своим чувствам.
Хоть бы взглянула на него, что ли, хоть бы услышать ее диковинно чистый и звонкий голос. А не попросить ли ее спеть что-либо? Сдерживая свои чувства, он сказал непринужденно:
– Мария, спой еще про свое, словацкое?
– Спой, молодица, спой, – добавил старик, – повесели людиям душу. Вельме, добра молодица, – кивнул он в ее сторону, – вельме добра!
Мария запела. Голос у нее мягкий и звучный, он чарующе приятен и ласков. Чем-то милым, близким и домашним повеяло на солдат, что-то дрогнуло в душе и больно заныло. Каждый вспомнил и семью, и славное мирное время, и песни тех дней.
Ах, война, война, далеко ты завела солдата! Не скоро еще увидит он дом свой, родную землю. Ан нет вот! Скоро уж, возражает он самому себе. Скоро! Скоро! Недолго осталось шагать по военным дорогам, лежать под огнем на позиции, слушать грозную музыку смертного боя… Недолго!
А Мария пела дивную словацкую песню-легенду, и звучала в той песне и горечь жизни ее народа, и надежда на богатырей, которые придут на эту вот землю и освободят ее от насильников и палачей.
На одной из Шавницких гор, говорилось в песне, на вершине Ситна-горы живут заколдованные врагом солдаты, живут и не могут биться за свой народ. Враг-чародей заворожил их руки, заслепил их глаза, усыпил их буйную душу. Но придет время, – приди скорей желанное! – и те солдаты по мановению богатыря из-за гор должны воспрянуть и вместе с ним освободить свой народ от вековечной беды.
– Гей, человече! То так было, – сказал старик, – так было! – и он оглядел всех, скучившихся у костра, и снова обратился к Голеву: – И вот, человече, все так сполнилось, как народ молвил, и пришел он, тот богатырь-освободитель, расколдовал наших солдат, и вот сидят они вместе с вами, и вместе с вами против общего ворога бьются…
5
Дышать стало нечем, и Таня упала, уткнувшись в снег. Неужели все? Занемевшее тело стало бессильным и безвольным, уже неспособным ни к какому сопротивлению. Ею овладела вдруг необыкновенная жажда покоя. Казалось, легче умереть, чем двинуться дальше. Только ужасы пережитого, все эти часы погони, неотступно следовавшей за нею, мучительно жгли мозг: и веселье предпраздничной ночи, и смертный огонь, и нежданный плен, и побег с погоней. Бедная Надя. Как ужасна ее смерть! Уже лишенная сил бороться иначе, она кусалась и царапалась, когда ее вешали немцы, не сдаваясь до последней минуты. Мгновенное воспоминание вдруг придало Тане новые силы. «Нет, и я не дамся. Ни за что не дамся», – мысленно твердила она, снова упрямо карабкаясь в снежную гору с решимостью во что б ни стало уйти от погони. Но скоро силы ее иссякли вовсе, и она опять уткнулась в снег, жадно хватая ртом воздух.
– Дыши носом, слышишь, носом, – упав рядом с нею, заботливо напоминал Моисеев. – Легкие обморозишь.
Девушка не смогла ответить, но инстинктивно стиснула зубы. Над головами просвистела автоматная очередь. Трудно уйти, ой, трудно. Только ни ей, ни Моисееву и в голову не приходила мысль поднять руки. Ни за что! Майор молча осмотрел автомат. Последний магазин. А там хоть голыми руками бери. Нет, надо рискнуть. Иначе снова плен и неизбежная гибель.
– Беги, Танюша, кустарником, – тяжело задышал Моисеев. – А выбежишь в горку, обожди.
– Товарищ майор!
– Беги, говорю.
– С вами хочу…
Моисеев грозно нахмурил брови.
– Не перечь и беги, я знаю, что говорю.
Таня метнулась в гору, и по ней застрочили из автоматов. Моисеев с болью глядел вслед: проскочит иль не проскочит? Ох, как же трудно посылать человека на смерть. Не легче и оставаться. Однако пора, и он метнулся следом за девушкой. Добежав до кустов, он круто свернул в сторону и залег. Выждав, пока Таня выбралась в гору, Моисеев насторожился. Как он и думал, немцы продолжили погоню. Сейчас или смерть, или… Он не успел закончить мысли. Из пятерых осталось трое. Одного из преследователей он уложил в самом начале и сгоряча расстрелял целый магазин. Час спустя удалось подбить второго. Немцы легко ранили его в руку, пробили пулей ухо. Липкая густая кровь все еще сочится и, стекая по шее, мокрой холодящей массой липнет к плечу. Что ж, и трое против одного (Таня безоружна) – это немало. Двое из них ближе, третий отстал и движется сзади. Упорны однако. Пять часов безостановочной гонки в конец измотали преследуемых.
Из низины крадучись поднимались горные сумерки. В темноте легче уйти, скрыться. Впрочем, утешение невелико. Беспощадный татранский мороз страшнее гитлеровцев. Нужен иной выход, и Моисеев замер за кустом. Немцы приближались. Сейчас должно, наконец, решиться все. Вот до них уже и сто метров. Вот еще ближе. Он прицелился… дал очередь… потом еще и еще. Двое из преследователей уткнулись в снег. Третий схоронился за кустами. Моисеев с сожалением посмотрел на автомат. Магазин пуст. Но что это? Далеко-далеко, видно, в Витаново загорелся вдруг бой. Даже отсюда слышно, жаркий бой. Моисеев воспрянул духом. Приподняв из-за веток голову он с радостью увидел, как последний из трех его преследователей, бросив своих и прячась за кусты, ударился в бегство. Наконец-то! Моисеев начал осторожно спускаться вниз. Убил он их или не убил? Оба лежали не шевелясь. Он дважды скомандовал – «хэндэ хох», но ответа не было.
Тогда он смелее начал сближение, выставив перед собою уже незаряженный автомат. Однако стоило ему приблизиться ближе, как один из немцев быстро поднял голову и вскинул свой автомат. Трудно сказать, что помешало ему, только выстрелить он не успел. Моисеев в два прыжка оказался рядом и, выбив из его рук оружие, насел на противника.
– Таня, сюда! – успел он крикнуть, уже барахтаясь в снегу.
Схватка была ожесточенной. Немец вцепился рукою в лицо, расцарапал глаза, чуть не разорвал рот. Укусив его за руку, Моисеев ощутил вдруг тошнотворный привкус чужой крови и невольно чуть ослабил руки. Немец мигом воспользовался этим и опрокинул его навзничь. Насев на него, он надсадно бил кулаками в грудь, в шею, в лицо. Моисеев задыхался от боли и от злого бессилия справиться с немцем.
– Хэндэ хох! – вдруг раздался охрипший голос над ухом Моисеева и, остолбенев, он решил, что теперь все кончено. Видно, и второй немец тоже не был убит, и Моисеев, стремясь обмануть преследователей, сам попал в ловушку.
Озверевший толстяк замахнулся и со всей силой ударил его в лицо. Сразу вспыхнули огневые круги, и Моисеев перестал видеть, слышать, чувствовать…
6
Выстрел грохнул совсем близко, и слышно, побежал кто-то. Дозорные переглянулись: разведчики сзади, а выстрелы впереди. Так кто же и в кого стреляет? Затаились. Опять тихо. Осторожно продвинулись чуть вперед. Ух ты, смотри! В ста шагах закачались ветки молоденьких елок. Кто-то есть. Зубец вскинул, было, автомат, но Михась опустил на него руку. Тсс…
Из-за елок выглянул немец.
– Хэндэ хох! Ауфштеен! – крикнул Зубец.
– Выходи, стрелять будем! – щелкнул затвором Бровка.
Двое немцев потянули вверх руки.
– Михась, мы, не стреляй!..
Бойцы вздрогнули, и у них перехватило дыхание.
– Таня! Товарищ майор, вы!.. – рванулся Зубец на знакомый девичий голос. Но сердце его сразу же перевернулось в груди. Оба они – и Таня, и Моисеев едва держались на ногах. Их посиневшие и обмороженные лица сплошь в кровоподтеках, изодраны и исцарапаны, в лихорадочном блеске провалившиеся глаза.
Бойцы мигом скинули шинели, чтоб быстрее согреть окоченевших. Подошли разведчики и, смастерив носилки, обоих понесли в полк.
После витановских событий Жаров выслал в горы не один дозор, и бойцы сутками кружили по сугробам нагорий, пока сегодня не набрели, наконец, на Таню и Моисеева, чуть не закоченевших в татранских снегах.
В последней схватке Моисеев не рассчитал своих сил, и, если б не Таня, конец бы им обоим. На голос майора девушка бросилась вниз, молниеносно схватила автомат убитого немца и в упор расстреляла того, что насел на Моисеева.
Оставив Таню в санчасти, Зубец заспешил на пункт связи, но полк снова в движении, и позвонить Самохину невозможно. Правда, радист обещал разыскать его по рации, и пока он вызывал комбата, Семен успел просмотреть письма. Ему тоже есть. Полный нетерпения он разорвал конверт. Ну, конечно, от нее, от Василинки. Девушка писала с Верховины о лесах и горах, о людях, о своей учебе. Нет, она не останется в стороне от новой жизни. Пусть помнит Семен, у него верная и любящая подруга, которой он дороже всего на свете. Зубец так и загорелся ответить немедленно, сейчас же. Но связаться с Самохиным не удалось. Разве мыслимо, чтобы он не свиделся с Таней! Нет, нет и нет. Выпросив у помощника Моисеева верховую лошадь, он быстро заседлал ее и помчался вдогонку за комбатом.
Нагнал его он на узкой лесной дороге. К счастью, Леон оказался не в голове колонны, а в самом конце.
– Товарищ майор, – подскочил запыхавшийся Зубец, – товарищ майор – и склонившись к Самохину, так и обдал его горячим шепотом: – Таня, Таня жива… Только что нашли с Моисеевым:
– Где, где она? – чуть не задохнулся Леон.
– Езжайте скорее в санчасть, не то увезут ее в медсанбат. Берите мою конягу и летите туда.
Оставив за себя заместителя и взяв разрешение у Жарова, Леон помчался той же дорогой, по которой только что его догонял Зубец. Но как ни спешил он и как ни гнал лошади, Тани он не застал. Сменив коня, он помчался дальше. Застать бы хоть в медсанбате.
Женщина-врач категорически воспротивилась свиданию. Никаких волнений, абсолютный покой! Леон потерял всякое самообладание. Сказать бы хоть слово, только б взглянуть. Но доктор неумолима. Что за сердце у этих врачей! Леон знал, одно его прикосновение, один взгляд сейчас целебнее всяких лекарств. После всего пережитого Таня больше взволнована его отсутствием. Ей покажется бог знает что, если она не увидит Леона. Подумает, что ранен, что убит. Нет, свидеться во что б ни стало.
Не обращая внимания ни на какие запреты, уговоры и протесты, расталкивая сестер и санитарок, пытавшихся остановить его, не помня себя, он прорвался прямо в палату, с помощью раненых, видно, понявших его состояние, разыскал Таню и, не разглядев ее лица, молча упал ей на грудь.
Таня вспыхнула, загорелась, страшно обрадовалась и тут же испугалась, увидев, как налетели на Леона медсестры.
– Девушки, не надо, – тихо молила она, – прошу одну минуту, он уйдет сейчас.
Самая разъяренная из них вздернула плечами, чуть сердито хмыкнула и, сделав знак остальным, отступила. Другая, видимо, более сердобольная, молча скинула свой халат и, набросив его на плечи Самохина, последовала за подругами.
Таня молча ерошила черные густые волосы Леона и лежала, радостная и счастливая, с глазами, полными слез, сквозь которые уже ничего не различала вокруг.
– Хороший мой, как рада, что приехал! – тихо вымолвила девушка, с волнением ощущая, как Леон вздрагивает всем телом.
Наконец он с трудом поднял голову и ужаснулся. Таня и не Таня! Опухшее лицо исцарапано и иссечено, расчерчено зеленкой. Провалившиеся глаза полны и безмерной муки, и огромного счастья. Шея забинтована, в бинтах и руки. Бог мой, что они наделали с нею? Казалось, ни живинки в ее лице, всегда таком живом и одухотворенном. Но вглядевшись, он рассмотрел и самое родное, дорогое, ее взгляд – теплый, ласковый, любящий, он по-прежнему полон сил, уверенности превозмочь все что бы ни случилось.
– Помни, Танюша, где бы ни была ты, как бы ни сложилось все дальнейшее, ты одна у меня, одна на всем свете, и я разыщу тебя. А поправишься – езжай к моим родным, вот адрес, – вложил он ей в руку бумажку, – тебя как свою примут, я напишу…
– Никуда не поеду, в полк вернусь, к тебе… слышишь, к тебе…
Подошла женщина-врач. Молча постояла с минуту, улыбаясь и разводя руками, потом сказала умиротворенно:
– Ты что же, обманщик, просился взглянуть только, а теперь и уходить не хочешь.
– Простите его, доктор, он себя не помнит, – тихо заговорила Таня.
– Простите, доктор, не буду, большое спасибо, – встал и Леон. – Вылечите ее скорее.
– Ишь ты, вылечите ему скорее, – засмеялась женщина. – Беречь, голубчик надо, беречь лучше. Ладно, ступай. Будет жива и здорова твоя Таня. Будет, говорю. Вылечим скоро. Серьезных ран у нее нет. А что пообмерзла, не страшно. Все залечим, и следов не останется.
– До свидания, Танюша! До свидания, родная! Я еще приеду к тебе.
Радость встречи и горечь разлуки смешались у Тани и снова застилали ей глаза. Но и сквозь слезы она видела как уходил Леон. Слабый, точно больной, в коротком халате, неуклюжий и нерасторопный, каким никогда не был, и такой дорогой и любимый. Как же больно, когда вот так уходит родной человек, и куда уходит, – навстречу огню, где каждый день кровь и смерть. Нет, очень и и очень тяжко.






