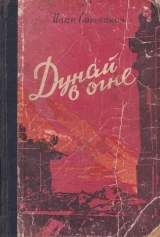
Текст книги "Дунай в огне. Прага зовет (Роман)"
Автор книги: Иван Сотников
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Наутро прибыли автобаты, и всю дивизию посадили на машины. Ее перебрасывают с левого фланга фронта на правый, вплотную к Первому Украинскому. Удивительный марш-маневр. На рассвете полки завтракают в Чехословакии, в полдень обедают в Польше, а чуть темнеет, и они ужинают в Германии.
По пути дважды пересекли Одер, который там, дальше внизу, еще совсем недавно был труднейшим из водных рубежей на берлинском направлении. А здесь в верховьях – это совсем небольшая речушка, которую, вероятно, всюду можно перейти вброд.
– Вот те и Одер! – удивился Зубец. – А я-то думал – река! Речушка просто! – и пренебрежительно сморщил лицо.
– А ты посмотри на карту, где течет-то она, – урезонивал его Голев. – Вон сколько вымахано. Вспомни-ка, в ней ведь еще Суворов коней поил. Вот-те и речушка! А вспомни, как сюда от Москвы да от Волги шагал. Вот-те и совсем большая! А?
– Ну, если так посмотреть, исторически, – осмотрелся Зубец, – тогда, действительно, река!
Все засмеялись.
– А раз из нее Александр Васильевич пил, так и я попью, и он живо соскочил с машины, остановившейся у реки.
– Да он не пил, а коней поил, – смеялись разведчики.
– Ну, тогда хоть умоюсь.
Вот полк за Одером, в Германии. А бойцы все сожалели, что и не доведется им повоевать на ее территории, посмотреть на ее города и селения, породившие мародеров и разбойников, развратившие душу своего солдата, так что его невзвидел весь свет.
Так вот она, Германия!
Машина еще с час мчалась через множество ее «бургов», «дорфов» и «штадтов». Черепица стрельчатых крыш, серые громады кирх над ними, дома со спущенными жалюзи на окнах и белые флаги, покорно и подобострастно приспущенные перед победителями, – все это никого не радовало. Однообразно геометрически унылый пейзаж лоскутных полей навевал скуку и тоску по родным просторам. Все тут чужое, неласковое…
Миновав маленькое озеро с серым старинным замком на дальнем берегу, где может века хозяйничали «рыцари», ходившие отсюда разбойничать на славянские земли, автоколонна полка втягивалась в открытое ущелье черепицы и камня, которое дорожные указатели именуют улицей Фридрихштрассе, так же, как и все другие, покорно склонившей белые флаги.
После ужина полк сменил части дивизии, подвинувшейся влево, и начал подготовку к утреннему наступлению. За маленькой безымянной речушкой перед ним лежала та же Германия, какую все видели и видят теперь повсюду вокруг. Вот оно, логово фашистского зверя, которое надо разрушить. Но как, думал Голев, всматриваясь в чужую землю, как? Поджечь вот эти дома? Разрушить вон те заводы? Перебить жителей сел и деревень, что виднеются за речушкой? Или, может, спалить вон тот большой город, который виднеется дальше? Он все может, Голев, у которого они угнали к себе в рабство его дочь. И Орлай тоже, у которого они убили отца. И Сабир, у которого сгубили всех родных и близких, четвертуя их римским и тевтонским способом! Они все могут! У них сила, за ними право возмездия. Так что же жечь, уничтожать, убивать! Нет, нет и нет! Тысячу раз нет! Эти мысли претили солдатской душе, честной и справедливой, нетерпимой ни к какому насилию и разбою!
Нет, он пойдет, Голев, они все пойдут, и Орлай, и Азатов, и все тысячи других, пострадавших, разоренных, пойдут по этим землям, уничтожая всякого, кто не сложит оружия. А остальные? Разве не виновны они? Нет, и они виновны во многом. Пусть их судит история. А он советский солдат, он принес сюда святое возмездие. Он разрушит это разбойничье государство. Он покарает его строителей и уничтожит разбойничью фашистскую партию, обманувшую и свой народ. Он сотрет с лица земли этот разбойничий правопорядок. Он скажет народу: живи, трудись, учись на ошибках и не вверяй власти разбойникам и извергам. Власть – большая сила, и она лишь тогда справедлива, если в руках народа. Бери ее. Живи мирно, не зарись на чужое. Будет так – вот тебе рука дружбы и помощи. Нет – пеняй на себя: взявшийся за меч, от меча и погибнет.
6
Вот он, до жути ненавистный дом, о котором дни и ночи помнил Сабир. Тогда он не знал адреса. Адрес ему прислали потом. Но знал он, есть в Германии этот дом, где вырос и откуда ушел на войну Вилли Мердер, убийца-садист.
После ранения за Днепром Азатов долго пролежал в госпитале. Голев и прислал ему сюда письма и фото Вилли Мердера, что разбойничал на Лысой горе в Бердичеве и в селе, где погибли родные Сабира.
На одном из фотоснимков длинный ряд кольев с человечьими головами. Их отрубили и насадили на эти колья. С одной из голов он подолгу не сводил взгляда. Открытые глаза его матери гневно смотрят на палачей-истязателей. На другом снимке кресты и кресты вдоль дороги с распятыми на них людьми. На следующем – беспомощный мальчонка на земле, за ножонки привязанный к двум танкам, и женщина, тут же, распластанная на снегу, с глазами, безумными от ужаса и бессилия спасти ребенка. Это его Маринка, жена и сын, растерзанные палачами-садистами.
Вот они, их римские и тевтонские казни!
Еще неоправившийся от ран, он безмолвно глядел и глядел на эти снимки, страшные документы чудовищных злодеяний, глядел и не стыдился слез, катившихся по щекам.
Эти фото мучили его, они терзали, они будили гнев и месть. Он был весь изранен, едва жив, он долго находился между жизнью и смертью, пока не победила жизнь. Нет, он должен был выжить, должен!
И все же ему почти с год пришлось пролежать в госпитале. Потом трудно было разыскать свой полк, еще труднее попасть туда. Он преодолел все. Шел май сорок пятого года, и дыхание весны, дыхание близкой победы окрыляло Сабира. Полк в Германии – значит, близко возмездие.
В полку его знали, ценили, помнили. Но как многое здесь изменилось. Из двух тысяч людей, с которыми он воевал под Корсунем, осталась едва сотня. Остальные погибли или выбыли ранеными, и их заменили другие. Тяжки рубежи войны. Вон какой ценой уплачено за путь от Днепра до Одера. Страшной ценой.
Азатов подолгу сидел с Голевым, слушая его рассказы, а в конце каждого дня все глядел и глядел на карту, вычерчивая по ней путь полка. Петлистая линия, по которой с боями продвигался полк, все ближе тянулась к темному кружку, обведенному красным. Это город Вилли Мердера. Здесь его дом, его семья, сюда он слал трофеи. Отсюда его поощряли на новые преступления.
И вот он, Сабир, у порога его дома.
На миг замявшись у двери, чтоб хоть немного унять вдруг закипевшее сердце, он рванул ее и шагнул за порог, шагнул и… остановился, широко расставив ноги и чуть полусогнув сжатые в кулаки руки. Чистый уют просторной комнаты раздражал и злил. Лица людей испуганы и отрешенны. Старый бюргер прижался к стене, еле удерживаясь на ногах. Его жена, уронив руки, нашла передник и теребила его за концы. Отец и мать Вилли. Они его растили, они дали ему мерзостную душу. Они писали ему, не жалеть русских. Что они думают теперь? Их невестка застыла у окна, не смея шевельнуться. Змея ненасытная! Ей все было мало, и она слала мужу заказ за заказом. Она не брезговала даже окровавленным детским бельем – «оцетон хорошо отмывает и кровяные пятна». Ее детишки прилипли к подолу старухи и молча уставились на русского. Азатов невольно пригляделся к мальчику. Его сынишка был бы теперь таким же. Был бы, а его разорвали танками. Он невольно скрипнул зубами. А кем вырастет этот? Не воспитают ли из него второго Вилли, который через десять-пятнадцать лет опять захочет разбойничать на чужих землях. Нет, не воспитают. У Сабира сегодня святое право уничтожить этих выкормышей вместе с воспитателями – всех до одного. Он может их просто убить, может поджечь, может разнести стены этого черного гнезда, где воспитали убийцу-садиста. Он все может. Его право мстить и наказывать. Чего же он медлит? Чего не убивает их? Не поджигает их разбойничьего гнезда?
Нет, он не хочет, чтоб они не знали, за что, и Сабир молча шагнул к столу.
– Идите сюда, все идите! – потребовал он по-немецки, с ненавистью вглядываясь в их страшно перепуганные лица. – Вот ваш Вилли, – указал он на снимок. – Вот он убил мать, жену мою, сына… Вот он мучил, измывался, убивал. Вот, смотрите…
Он глядел на их лица, сведенные от ужаса, на их глаза, округлившиеся и окаменевшие, на их руки, охваченные судорогой. Нет, ни права им, ни власти. Силу тем, кто хочет мира и дружбы. Лишь тем силу и право, власть и закон. Этим ничего. Они заслужили смерть!
Но руки почему-то не поднимались на автомат, и, оттягивая возмездие, он прошел к столику у стены. Фарфор, малахит, майолика. Где это награблено? Нет, не привлекла, а просто задержала его внимание безобидная безделушка – три обезьянки. Сколько он видел их в немецких квартирах. Уморительно корчась, одна закрыла руками глаза, другая зажала уши, третья прикрыла рот – не видеть, не слышать, не сказать бы дурного. Многие немцы так и делали. Они не хотели видеть, слышать, говорить. Они отгородились от жизни, и фашизм стал хозяйничать. А эти, и Сабир зло окинул их ненавидящим взглядом, эти и видели, и слышали, и говорили – только мерзкое. Лицемеры проклятые!
Нет, их мало убить, их надо казнить, безжалостно и страшно, казнить и казнить! У Сабира все так и закипело внутри, и руки невольно потянулись к автомату. Он мигом сдернул его и отвел предохранитель и, не сдерживаясь больше, дал предлинную очередь, направив автомат… в потолок. Не сделав этого, он разрядил бы его в хозяев ненавистного дома – так зашлось его сердце.
– Ладно, живите, черт с вами! – зло сплюнул он на пол. – Только помните, еще злодеяние, и пощады не будет!
Вытерев взмокший лоб, он круто повернулся, вышел на улицу.
За дивизионным оркестром шагала войсковая колонна. Музыканты играли Бетховена. Немцы стояли поодаль, сраженные музыкой, родившейся здесь, на их земле. Они привыкли видеть в его музыке человека наедине с своей тоской и своим горем. А сегодня они видели ее, слышали ее совсем иною, воспринимая как силу, способную поднять все лучшее, что еще осталось в их душах, и поражать врага, который исковеркал эти души. Они ощущали скорый конец победного похода, начавшегося далеко отсюда, у стен Москвы, у берегов Волги, и советские войска, пришедшие сюда с трубами Бетховена, еще непонятные и страшные, были многим близки этой неведомой музыкой свободы, шагавшей по исстрадавшейся и истерзанной земле.
Азатов долго не мог отдышаться, и внутри у него будто горело все жарким неостывающим огнем. Он глядел и глядел на этих людей, сделавших столько зла и еще не понимавших своей новой судьбы.
– Пусть живут! – уже ни к кому не обращаясь, еще раз сказал Сабир. – Рук марать не стану!
7
Проснулся Гитлер в холодном поту, порывисто скинул с себя легкий плед и мрачно уставился в темный угол спальни. Казалось, он все еще видит весь сонм апокалипсических видений, и слабый призрачный свет ночника просто бессилен рассеять ужасный кошмар. Уж не ополчились ли против него все духи преисподней?
Снилось, – ни земли, ни неба. Внизу – черная бездна, вверху – жуткое марево. Клубящаяся бездна как бы ощерилась сваями, и на них – его Германия. А меж сваями с пылающим факелом мечется злой демон, – подпаляющий опору за опорой.
Майн готт, это же он сам, Адольф Гитлер. Черный безумец с зловещим факелом. Все же сейчас рухнет, и безмолвная бездна станет его могилой.
Потом снилось, стоит он у зеркала, весь нагой и черный. Бог! Зачем он дал ему черные руки, черную голову, черную душу? Ах, вот что: черный гений. Гений зла! Что ж, он, фюрер, всю жизнь знал, добра нет. А что люди считают добром, ему зло. Он и ценит лишь зло. Ничего больше. Пусть вокруг бушует ненависть, ибо как быть великим, если нет врагов. Люди мечутся по земле, не видя высших целей. Всесилие власти – вот его цель! Без такой власти нельзя управлять людьми. Он шел к ней не по расчету, не по разуму – по наитию, провидя чудовищную необходимость попрать все, что встанет на пути к этой высшей цели. Тщету слабых, ищущих утешения в любви и добре, измену сильных, претендующих на свое место в истории, любое предательство с их стороны – все смести безжалостно. Он ни перед чем не останавливался и срубил головы даже лучшим друзьям и соратникам. Он распознавал в них своих противников раньше, чем сами они понимали, до чего могут дойти. Кто сможет утверждать, что он не умел искоренять самоволие умов.
Подземелье глухо вздрагивало. Сюда явственно доносились отзвуки русских бомб и снарядов, рвущихся на улицах Берлина. Его Берлина, где у могилы Фридриха великого он приносил клятву верности силе оружия. Что же будет теперь? Что готовит ему неумолимая судьба? Ему, Адольфу Гитлеру, который сам всегда всевластно повелевал ею?
Подумать только, русские штурмуют Берлин! Берлин, цитадель его власти, его величия. Сегодня, в день его рождения, когда ему праздновать бы свой юбилей, они поздравляют его разрывами бомб и снарядов, рвущихся прямо над головой. Неужели все рушится?
Злой и мрачный, он встал с кровати, лениво потянулся, уселся в глубокое кресло. Поглядел на часы. Уже утро. Наверно, взошло и солнце. Сколько он не видел его? Много недель сряду. Нет, ему ничего не хотелось видеть, ни солнца, ни истерзанного Берлина. Тяжко и без этого.
Одевшись, Гитлер прошел в кабинет. На столе стопка поздравительных телеграмм. Он прочитал их одну за другою. Все славословие. Лесть и лесть. Ни одного искреннего чувства. Сколько пожеланий многих лет жизни. А скорее всего, каждый с готовностью проводит его в могилу. Мало он рубил им головы. Мало!
Гитлер машинально пересчитал телеграммы и вздрогнул от неожиданности. Тринадцать. Роковое число. Он всю жизнь боялся тринадцати. Судьба обрекла его тринадцать лет добиваться власти и тринадцать лет устрашать ею всю Германию, весь мир. Не потому ли и через тринадцать лет русские снаряды рвутся над его головой.
И все же его никто не оспорит, силу власти можно отстаивать лишь силой, и он может жить, либо владея всем, либо не жить вовсе. Истинно, aut vincere aut mori – победить или умереть, и никак иначе!
Что ж, еще не все потеряно. Может, русские и американцы столкнутся на Эльбе, с которой он стягивает все войска к Берлину? Может, вместе с англосаксами он еще опрокинет русских? Ведь у него есть силы. В одном Берлине пятьсот тысяч. Миллион войск у него в Чехословакии и южной Германии. Есть и другие армии.
Воспрянув духом, он весь день принимал поздравления, все еще настороженно прислушиваясь к гулу русской канонады.
Изо дня в день шли совещания, слушались доклады генералов, отдавались бесконечные приказы, выполнять которые становилось все невозможнее и невозможнее. На улицах Берлина и на всех фронтах командовали только русские офицеры и генералы. И Гитлеру стало вдруг ясно, что он похож теперь на безвластного властелина, которого еще боятся, но уже не слушают.
В глубоком подземелье имперской канцелярии царила зловещая тишина. Даже монотонное гудение вентиляторов казалось гнетущим и мертвящим. В воздухе стоял удушливый запах сырости и плесени. Сотни раскормленных эсэсовцев по-прежнему несли службу охраны, проверяли пропуска, производили обыски, но и на их лицах давно уже ощутимо выражение неотвратимой обреченности и неизбежной покорности судьбе.
Пусть в Берлин стянуты огромные силы, мобилизованы фольксштурмисты, вервольф, гитлеровская молодежь, пусть гибнут там наверху и пятнадцатилетние мальчишки, и шестидесятилетние старики – Германию уже ничто не выручит и ничто не спасет. Катастрофа неизбежна.
Отчаявшись в своем назначении, на очередное совещание Гитлер заявился особенно подавленным и угрюмым. Он вошел согнувшийся, сильно постаревший. Глаза у него потухшие и все лицо как-то обмякшее. Ни силы в нем, ни воли – просто отчаяние.
Желтолицый Геббельс сразу стал белее снега. Тучный заносчивый Борман раскраснелся, тараща глаза на фюрера. Сухопарый Кребс с полураскрытым ртом застыл на месте. Гитлер никому не протянул руки, ни с кем не заговорил, не сделал ни одного жеста, чтобы хоть сколько-нибудь разрядить обстановку. Он окинул их холодным рассеянным взглядом еще более потухших глаз и во всеуслышание впервые за все время признал себя побежденным. Война проиграна, и он покончит с собой.
Генералы содрогнулись. А что их фюрер готовит им, и не потянет ли он их с собой в могилу? Кребс сжал тонкие губы и словно постарел на десять лет. Задыхаясь, запыхтел Борман. Геббельс машинально расправил ворот. Молчание оставалось тягостным и жутким. Что же все-таки значат слова фюрера? Ведь только вчера состоялся ничем не объяснимый обряд его венчания с Евой Браун, с которой все эти годы он прожил вне брака. А сегодня он прочит себе смерть. Что же он прочит им, его генералам и офицерам?
Гитлер сказал далее, что сам он останется здесь, в убежище имперской канцелярии, и не будет переносить свою ставку на запад. Вместе с ним, своим фюрером, останутся Геббельс, Кребс и Борман.
Кребсу показалось, будто он проглотил огонь. Весь он сразу обмяк и закашлялся. Борман страшно таращил глаза. Лишь Геббельс, облизав сухие губы, вроде остался равнодушным к своей судьбе. Он лучше всех понимал, что падает жертвой своей же собственной пропаганды. Раньше она губила других, теперь его самого.
Не обращая ни на кого внимания, Гитлер направился к выходу и ушел совсем больным изможденным стариком, у которого беспомощно обвисли щеки, плечи, руки, вовсе угасли глаза. Он прошел через приемную в свой кабинет, упал в глубокое кресло и несколько часов просидел молча. Самое страшное теперь – объясниться с Евой. Но сил у него не было, и объяснение пришлось отложить. С трудом поднялся с места и прошел в комнату, где помещалась любимая овчарка с четырьмя щенятами. Миззи уткнулась ему в колени, и он ласково поерошил ей шерсть. «Эх, Миззи, Миззи! Все они мертвецы, лишь притворяются живыми. Никем ничего не достигнуто, ничего не завоевано. Бездарная мразь. Вши, поедающие покойника. С ними ли было замышлять завоевание мира! Чудовищная утопия! Понимаешь, Миззи, мираж, иллюзия, жалкая тень!» Он посидел еще с минуту молча, прижался щекой к собачьей морде, и, распрощавшись таким образом, возвратился к себе.
Прошел к столу с крупномасштабной картой, иссеченной коричневым и черным. Черные линии советских войск окольцевали весь Берлин. Черные стрелы безжалостно рвали коричневую вязь немецкой обороны и вонзались чуть не в самое сердце столицы. От разрывов русских снарядов глухо гудел потолок. Там его Берлин, раздираемый заживо. Ну, и пусть. Чувства онемели. Линии и стрелы на картах, бесконечные совещания и решения. Есть от чего сойти с ума, потерять всякое ощущение времени и не знать уже, дни ли текут или часы с минутами. Взрыв за взрывом!
Злорадствуя, он представил себе за стеной кабинета сухую словно надломленную фигуру Кребса, наверное, уже распрощавшегося с жизнью, натужного с бычьей шеей Бормана, ядовитую физиономию Геббельса. Пусть заглянут они в глаза смерти. Он помолчит еще день-два, прежде чем откроет им свои истинные планы. Не такой он дурак, чтобы добровольно сойти в могилу. Ничто не сломит его воли. Нет, его черный гений не смыкает глаз. Бдит и бдит, полный исступленных дерзаний, подсказанных его даймоном. Как бешеных псов, стравить русских и англосаксов. Пусть они перегрызут друг другу горло. Пусть раздерут на части хоть всю Германию. Авось, что-нибудь да уцелеет. Не могут же англосаксы не заплатить ему за поражение и гибель русских!
А что если все иллюзия, мираж? Тогда смерть. Смерть! Только нет, он все рассчитал. Он давно начал тайные переговоры с Западом. Теперь же пошлет Кребса на переговоры и с русскими. Каждой из сторон он даст доказательства возможности сепаратного мира. Он посеет рознь и подозрения, возбудит ненависть. Бесспорно, ему не поверят. Что ж, он назначит за себя гроссадмирала Деница, а сам мнимо умрет. Умрет, чтобы воскреснуть потом, едва англосаксы и немцы, объединив свои силы, всерьез схватятся с русскими. Тогда снова триумф его гения!
Но русские, русские! Какой бешеный напор. Пришлось в тот же день посвятить в свой план Кребса, Бормана, Геббельса. Они вместе в деталях обсудили весь замысел. Пусть Дениц! Сам фюрер останется здесь же в имперской канцелярии и по-прежнему будет руководить всем. Но знать об этом будут немногие. Гиммлера и Геринга, пустившихся на тайный сговор с Западом, он лишит всех прав и рангов, объявит предателями. Кребс доставит русским его посмертное завещание, письма, предложение нового правительства о перемирии. Во что б ни стало добиться прекращения огня, начала переговоров. Выторговать время! Сталин поверит, что Черчилль и Трумэн без него заключат перемирие. Они перестанут доверять друг другу, и тогда их столкновение неизбежно.
Сам Гитлер не сомневался в успехе. Борман горячо одобрил его замысел. Кребс осторожно выразил сомнение. Геббельс согласился молчаливо. Все же, надежда. А Гитлеру даже показалось, что его ближайшие сподвижники воспрянули духом. Впрочем, в глазах их он заметил и что-то зловещее. Не так ли вспыхивают и глаза у голодных волков, готовых разорвать друг друга? За ними смотри и смотри. Ведь у них теперь его предсмертное завещание. Какой соблазн развязать себе руки и его смертью купить себе политическую индульгенцию на отпущение всех грехов. Останавливаться, однако, поздно. Теперь все в руках провидения.
Вооружившись белым флагом, Кребс отправился к русским. Борман и Геббельс ушли к себе. Гитлер угрюмо уставился в потолок. Что же будет теперь? Казалось, его неумолимо поглощала черная клубящаяся пучина. Неужели конец и уже не вынырнуть? На карту поставлена судьба Германии и его судьба. Смерть или спасение? Все решится очень скоро, может быть, сегодня же. Его одолел вдруг чудовищный страх, страх ответственности за содеянное, страх смерти…
Часы ожидания были просто изнурительны. Что же Кребс? Неужели не будет даже ответа? Но ответ пришел, грозный, неотвратимый. Русские непреклонны. Они требуют безоговорочной капитуляции. Кребс раскис и ни на что не надеется. Борман и Геббельс уставились друг на друга. В их глазах застыла зловещая решимость. Гитлер содрогнулся даже. Смерть, безжалостная, неумолимая смерть костлявыми пальцами тянется к его горлу.
Значит все! Нужно сходить к Еве и объясниться. С трудом передвигая занемевшие ноги, он шагнул за порог кабинета, еще сам не зная, где и сколько раз его покинет всякая решимость, как он станет метаться, цепляясь за жизнь и как умрет все же, быть может, от руки тех, с кем делил свою власть и кому не успел вовремя срубить голову, умрет, никому не нужный, ненавидимый и отвергаемый всеми, властолюбивый маньяк, ничего, кроме страшных страданий, не давший ни своему народу, ни человечеству и оставивший лишь имя, проклинаемое всем светом.








