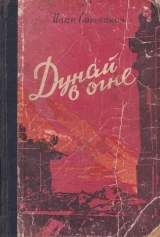
Текст книги "Дунай в огне. Прага зовет (Роман)"
Автор книги: Иван Сотников
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Как бы стряхнув с себя эти раздумья, Максим сел за стол и снова принялся за очерк для фронтовой газеты. Писал он о гуцулах. Материал просто давил его и не вмещался ни в какие рамки. Это видно оттого, что в один очерк он пытался вместить невместимое, и события, сами по себе интересные и важные, заслоняли людей.
Максим заново просмотрел все написанное и решил написать не один, а два очерка: один про Павло Орлая, другой – про Матвея и Олену Козарь. Работа спорилась, и он писал час за часом. Но едва он закончил первый очерк, как пришла сама Олена и, смущаясь, заговорила с Максимом. Пришла не одна, а с девушками-горянками. У бойцов еще дневка, и все свободны. Они сразу обступили девушек. Гости пришли правду шукать, и им захотелось поговорить хоть с одной из военных девушек. Кого же позвать им? Веру Высоцкую? Нет, лучше всех трех, решил Якорев, – и Веру, и Таню, и Олю.
– Можно сбегаю? – сорвался с места Ярослав Бедовой.
– Зови всем экипажем, – взмахнул Максим рукою.
Горянки, окружив советских девушек, радостно расшумелись. Потом расселись в тени на лужайке. Олена пристроилась рядом с Верой. Матвей Козарь уходит в армию, а Олену не берут. Почему? Ведь она давно воюет, партизанка. Вера объяснила. Нет, почему? – настаивала Олена, и своевольные губы ее складывались огорченно, хотя женское очарование по-прежнему проглядывает и в улыбке, и в блеске лучистых глаз, и в мягком певучем голосе. Зубцу вспомнилось, как еще сегодня утром она плясала с ним на площади. Вся огонь. Даже Ярослав, такой скупой на похвалы, и то обронил тогда: «Такую не забудешь». Да и все девушки в своих вышиванках с монистами на ошейках сорочек, румянощекие, с милым задором в слове, в шутке, во взгляде – все очень славные и хорошие, на русские березки похожие. В глаза им не заглядывай – море глубоченное, не выберешься.
Максим с болью посматривал на полковых девушек, посматривал и сравнивал. Сними с них гимнастерки и солдатские сапоги, одень их во все легкое, девичье, и они ни в чем не уступят этим горянкам-красавицам. Вон Вера, сколько в ней благородной чистоты. Или Таня, как покоряюще прелестна ее строгая сдержанность. Да и Оля с ее живым задором ни в чем никому не уступит.
А горянки меж тем без устали расспрашивали русских девушек:
– А чи вирно, що у вас жинки фермами управляють?
– А чи вирно, що воны бувають головиише чоловикив?
– А чи вирно… – и они перечисляли множество дел и профессий, обычных и повседневных в советском быту и столь удивительных всем закарпатским жителям.
Потом гуцулки долго пели свои песни. Бойцы пели свои. Под конец Семен еще сплясал с Оленой. «Вот пара!» – подумал Максим.
Стемнело, и девушки стали собираться.
– Чого ж вы йдете, – засмеялся Зубец, – по-нашему расцелуваться полагается…
– В горах нас шукайте, оттам и расцелуемся, – отшучивались горянки. А Олена подошла вдруг и сказала Зубцу:
– Ну, цилуй крипше.
Семен растерялся, а бойцы с девушками в хохот.
– От бачишь, не вмиешь ще, – засмеялась Олена.
Провожать семерых ушли чуть не взводом.
Максим остался у калитки и, облокотившись на изгородь, долго смотрел вслед. Девушки громко смеялись, и Максим ясно различал звонкий голос Веры. Обернется она или нет? Вера не обернулась. Обернулась Оля и помахала Максиму рукой. Якорев тоже поднял руку. Славная веселая девушка, подумал он об Оле. А глядел на Веру, и хотел того Максим или не хотел, а сердце у него щемило.
Глава вторая
НИКОГДА И НИКОМУ
1
За кряжистым уступом, поросшим серебристым от росы кустарником, высился старый кедр. Оля так и прильнула к его шершавой коре, дивясь чудесному осеннему утру. Просто не верилось, что сотню-другую лет кедр простоял тут, не двигаясь с места. Скорее, казалось, он только что вышел поразмять застуженные в зиму кости и внезапно остановился среди соплеменников, почтительно расступившихся перед своим патриархом.
Запрокинув голову, Оля с удивлением взглянула на распростертые над ней могучие ветви. Зачем он такой величаво степенный? Пусть бы отечески взял ее и, прижав к груди, шагал бы себе по зеленым склонам, ниспадающим прямо с неба, и нес бы ее с кручи на кручу, к самому солнцу, что невидимо поднималось за гребнем, опороченным косматым лесом. Сизый вдали, он на глазах становился радужным и веселым.
Оля ненасытно глядела на дальний лес, что сбегал вниз с горных полонии, на чистое небо, до блеска промытое ночным ветром, и ей хотелось уже бежать, карабкаться вверх, жадно вдыхать густой прозрачный воздух, терпко настоенный на пряных травах, подержаться за край лохматого облака, бессильного оторваться от бурой скалы, без конца слушать немолчный щебет и гомон давно проснувшихся птиц, просто обнять все и всем существом своим ощутить пульс этого леса, этих гор, этой ясной и свежей чистоты, что с такой силой пробуждала в душе любовь ко всему живому.
А кругом все нарастал и нарастал ровный протяжный шум пробуждающегося утра. Оля вдруг встрепенулась, прислушиваясь. Что такое? Песня, хорошая песня! Она лилась откуда-то из лесу и словно просилась в любящее сердце:
В тумане скрылась милая Одесса —
Золотые огоньки.
Не горюйте, ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки.
Оля обрадовалась. Он, Максим. Как он похож на Пашина. Такой же красивый и гордый. И поет, как Пашин.
В свое время Оля не очень боялась прослыть нескромной. Могла кому угодно вскружить голову, легко и бездумно отдаваясь увлечениям. Так было до Пашина. А он ей всю душу перевернул, и кто знает, может, навсегда отучил от легких забав. Не люблю, говорил, которые непостоянны, которые цены себе не знают. Как она полюбила тогда Пашина! Тот умел во всю силу жить и ее обещал научить. Не успел только. После его гибели Оле никто не нравился. Никто не мог сравниться с ее Пашиным. И вот Максим. С ним очень хорошо, и она всей душой потянулась к нему. Только вот беда – у него уже есть девушка. Оля все равно не отступит. Где она, та девушка? Даже не пишет. Нет, Максима Оля никому не уступит. Никому! Она будет такой, какой ее хотел видеть Пашин, и тогда она не может не понравиться Максиму. Сейчас же, завидев Якорева, она сказала нарочито громко и поспешно прикрыла рот рукою, готовая прыснуть со смеху:
– А я думаю, кто такой распевает, морская пехота.
– А, резвушка-хохотушка, – засмеялся Максим, только что выбравшийся из-за кустов, – так вот же тебе, насмешнице, и наказание, – и он схватил ее, легко вскинул на руки, взмахнул вверх над головой. Девушка успела только вскрикнуть и замерла в страхе. А он, закружившись на месте и держа ее высоко над собою, как ни в чем не бывало, продолжал песню:
Недаром в наш веселый шумный кубрик
Старшина гармонь принес.
И поет про замечательные кудри
Черноморский удалой матрос.
– Как там, разбойница, на верхней палубе, а? – захохотал он, останавливаясь, не выпуская, однако, девушки. – Ты готова в поход?
– Ой, пусти! – заболтала она ногами. – Конечно, готова.
– Знаешь, Оленька, – не обращая внимания на ее просьбы, продолжал Максим, – не люби я своей Ларисы – ни на кого б тебя не сменял.
– Боже борони, как говорят гуцулки, – засмеялась Оля. – Так я и пошла за такого медведя.
– Ах, не пошла б… Берегись тогда, – и он бешено закружил ее над собою.
– Ох, Максим, Максим, – остановившись, покачал головой Жаров, – она теперь и ходить не сможет.
Оторопев, Якорев чуть не уронил девушку.
– Виноват, товарищ подполковник, – и озорно вытянулся в струнку.
Сильный и ловкий, он походил на вышколенного спортсмена, избалованного успехами и победами. Говорил чистым басом, приятным и звонким, чем еще более располагал к себе.
Но Оля вдруг рассердилась. Похвалил бы сейчас ее Пашин за эту карусель! Автоматически одернув гимнастерку, она метнула на Максима сердитый взгляд и молчком ушла прочь.
Жаров одобрительно поглядел на девушку, потом перевел взгляд на Якорева.
– А тебя ждут уже.
– У меня все готово, и, как приказано, выступаем в срок.
– Хорошо изучил маршрут?
– Курс ясен, товарищ подполковник, – можно и отчаливать.
– Так иди завтракай – и ко мне.
Максим зашагал размашисто, продолжая песню:
Напрасно девушки о нас гадают
Вечерком в родном краю.
Моряки своих подруг не забывают,
Как отчизну милую свою…
Полку предстоял путь через высокогорное село, и Максим с большой группой разведчиков ушел вперед. Роты внизу ждали радиосигнала сверху. Войдя в село, разведчики немало подивились – кругом пусто и безлюдно: ни человека, ни приветливого дымка, ни журавлиного скрипа у колодца. В какую хату ни войдут – все на месте, и нигде – никого. Наконец, им удалось разыскать древнего старца, похожего на схимника или отшельника, покинувшего свет. Он даже разговаривал с трудом и почти не передвигался, а сраженный радостным изумлением, и вовсе потерял дар речи.
– Где же люди, отец? – спросил Максим.
– Люди на землю сошли, – наконец опомнившись, ответил он так, словно сам обитал на небе. – Ось туды пишлы, – указывал старик в сторону долины, – Червону армаду шукать пишлы. Туточки тилько мы с Ганной.
– Кто такая, почему осталась? – подивился Якорев.
– Вона у нас сама по соби, – уклончиво ответил старик.
Оля передала радиосигнал, что путь свободен, и разведчики, поджидая отделение, которое Павло Орлай повел другой дорогой, захотели поближе познакомиться с женщиной, столь равнодушной ко всему на свете.
Ее муж Василь давно уехал в Америку, оставив в горах молодую жену. Ему на редкость повезло. Через несколько лет он вернулся домой, привез денег, построил просторную хату. Он был красивый и сильный, ее Василь, Ганна не могла налюбоваться мужем. Деньги соблазняли, и он снова уехал, оставив ее с сыном. Ожидая мужа, Ганна устраивала хозяйство. Она не сидела сложа руки и много работала. Вышила себе новые рубашки, купила чудесную кровать, завалила ее горой подушек. Заботливо растила родившуюся без него дочь, которую в честь мужа назвала Василинкой, а сына, когда подрос, послала учиться в город. Василь велел. А сам не ехал и не ехал. Ожидала сперва терпеливо, потом с беспокойством, все более горьким и омрачающим. Мучительно долго бежали годы. Началась война. Женщина состарилась: поблекли глаза, поседели волосы, на гладком лице пролегли морщины. Горькое беспокойство сменилось тупым равнодушием. Так минуло семнадцать лет. Сын попал в тюрьму. Была одна радость – красавица дочь. Но пришли каратели и неизвестно куда угнали ее Василинку. И кто знает, жива ли?
– Погоди, Ганна, придет срок – и Василинку найдем, – успокаивал Якорев. – Ее мужу не надо будет ехать за счастьем в Америку: оно само придет сюда в горы.
– Дай, боже! – вздыхала женщина.
Но ни в голосе, ни в глазах ее, будто отрешенных от жизни, нет веры и убежденности. Максим невольно ужаснулся. Разве можно жить без надежды на лучшее.
Рассевшись на чисто вымытом полу, разведчики молча сочувствовали горю матери. Вдруг с силой распахнулась дверь, и на пороге появился Павло Орлай, запыхавшийся и раскрасневшийся. Почуяв что-то недоброе, разведчики вмиг повскакали с полу и бросились навстречу. А он, не обращая ни на кого внимания, раздвинул их руками и шагнул к женщине:
– Мамо!
– Сынку, Павло! – вскочила Ганна, бросившись к нему. – Ридны мий! – разрыдалась она у него на груди: – Нема бильше нашей Василинки, угнали каины.
– Знаю, мамо, людей повстречал, сказали.
Разведчики молча вышли из комнаты.
2
Передний край немцев вдруг вспыхнул выстрелами, и все увидели, как человек, выскочивший из вражеской траншеи, стремительно понесся к советским окопам. Несколько раз он валился на землю, отстреливался, вскакивал и бежал снова. По нему били из пулеметов и автоматов, но ему удалось все же проскочить узкую открытую полоску и скрыться в высоких травах на «ничейной земле». Немцы били теперь наугад, и все с нетерпением ждали появления перебежчика.
Прошло немного времени, он выполз и окровавленный свалился в траншею прямо на руки Максима Якорева. Но собравшись с силами, тут же встрепенулся и, бросившись к брустверу, застрочил из своего автомата в сторону противника. Минуту спустя он с сожалением посмотрел на пустой магазин и огорченно покачал головой.
– Шкипетар!.. Шкипетар!.. – были его первые слова.
Что это значит? Как понять этот чужой незнакомый язык.
– Шкипери… Шкипери… – твердил он в отчаянии и, ударяя себя в грудь, вновь повторял: – Шкипетар, шкипетар.
– Ох, ты, шкипер мой, – горестно вздыхал Якорев, – дай хоть перевяжу тебя.
– Шкипери, шкипери… – подумав, что его понимают, опять повторял перебежчик.
Это молодой солдат, с живыми острыми глазами, гордой головой, очень подвижный и беспокойный. Со лба у него струйками стекала кровь. Красным пятном взмокло плечо. Но лицо его светилось от радостного ощущения успеха.
Его перенесли на медпункт, перевязали. Он всем понравился, и каждый старался сделать ему что-нибудь приятное. Несмотря на недовольные взгляды полкового врача, разведчики наперебой предлагали раненому то закурить, то воды, то что-нибудь из съестного. Своего автомата черноволосый солдат не выпускал из рук. Как ни уговаривали и ни просили его, он не отдавал оружия. Увидев на стене карту, он как бы вспыхнул от радости. Карту сняли и поднесли раненому. Он восторженно по казал на Албанию и почти закричал:
– Шкипери!.. Шкипери!..
Наконец его поняли: он албанец.
– Энвер Ходжа, – обрадованно повторял он. – Шум мир[7]7
Шум мир (по-алб.) – очень хорошо.
[Закрыть].
Вот он кто: партизан Энвера Ходжа.
Али Крайя, так звали албанца, лечили в медсанбате дивизии. Он оказался на редкость смышленым парнем и за короткий срок сносно научился объясняться по-русски. Он сражался в горах Албании в одном из партизанских отрядов. Потом попал в плен, оказался в обозе немецкой части в глубоком тылу Германии. А когда эта часть отправилась на фронт, его поставили в строй. Чуть не в первом же бою горячий по натуре молодой албанец бросился к русским друзьям.
3
На легком ветру костер разгорался все ярче и ярче. Пригревшись, бойцы притихли и слегка загрустили. Голев обнял свои колени и положил на них голову. Якорев улегся на скрещенные под головою руки, и его взгляд блуждал где-то очень далеко, на Млечном пути. Зубец уставился на огонь и тоже задумался. А Закиров, опершись щекою на гармонь, молча перебирал лады и тихо выводил: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!..»
Спой, Максим, – попросил вдруг Голев. – Повесели душу.
Якорев не шевельнулся, но упрашивать его не к чему.
Вниз по матушке по Волге,
По широкому раздолью,
По широкому раздолью
Поднималась бурь-погода.
Услышишь русскую песню и просторами чистых полей, свежестью родных берегов и далью неведомых дорог повеет на тебя от ее дивной музыки. А Максим умел спеть. Запоет, и он командир твоему сердцу: оно послушно ему, как дисциплинированный солдат, готовый замереть с руками по швам, или отдыхать и веселиться, если дано время, или же, сжимая в руках оружие, стремительно нестись в атаку. Ибо, как никто, умел он вывести хватающие за душу слова, нужно – вспорхнуть на невозможную высоту и, постепенно стихая, замереть, как ветерок на море, падающий в штиль. Слушаешь, и холодок бежит к сердцу…
Когда смолк Якорев, никто не шевельнулся.
– Возьми любую песню – все о жизни, – сказал наконец Голев, блуждая взглядом в бездонной синеве звездного неба.
Да что песня, вставая, подумал Максим, каждый шаг твой, каждый выстрел, любое слово, что принес ты сюда на горы и за горы – все песнь о жизни…
У штаба Максим столкнулся с Олей, и неожиданная встреча как-то смутила его. Потупившись, недоверчиво взглянула на него и девушка.
– Помочь? – участливо спросил он, указывая на рацию.
– Донесу: не в первой же… – небрежно отмахнулась она.
Разговор казался оконченным. Но Максим удивился. Что с нею? Пока Оля поправляла упаковку, он присел на ту же скамейку у окна, где расположилась девушка. Однако она демонстративно отодвинулась, и Максим обидчиво встал.
– Не дыми! – сказала она повелительно и чуть усмехнулась, увидев, как Максим замахал руками, разгоняя дым.
– Не строжись, Оля, – тихо сказал он. – Чего ты?
Оля искоса посмотрела на него и сдержанно улыбнулась. Максим сразу оживился. Как она обаятельна вот такой своей девичьей строгостью.
– И к чему хмуришься? Теперь бы в лес за грибами – одно удовольствие. А ты ссору затеваешь.
Оля метнула сердитый взгляд и снова нахмурилась.
– Дай папиросу.
Якорев поспешно полез в карман.
– Нет, ту, что куришь.
Он послушно уступил ей. Девушка внезапно наклонилась к нему, как бы пытаясь прижечь папиросой лоб. Максим даже отпрянул.
– Ты что?
– Не нравится? – усмехнулась Оля, еще не совсем веря, что он испугался всерьез.
– Сумасшедшая.
– Вот видишь, и мне не нравится, когда меня ночью в лес зовут, за грибами… – и, забрав рацию, зашагала прочь.
– Оля, так я ж… – зачастил было Максим, шагнув за нею, но тут столкнулся вдруг с парторгом Голевым, взявшимся нивесть откуда.
– Ты что, батенька, к девушке пристаешь, а? уставился на него Тарас Григорьевич. – Мне смотри, чтоб никакой дурости, понял?
– Да я…
– Не оправдывайся, а слушай, что парторг говорит, – рассердился старик, покручивая ус. – А то, ей-бо, по-своему расправлюсь.
Максим только руками развел.
А несколько дней спустя он повстречался с нею у горной речушки. Девушка сидела на берегу и любовалась золотыми рыбками.
– Это что, форель? – тоже склонился Максим над водою.
– Хочешь, подарю, не простую, золотую?.. – с задором ответила она на вопрос вопросом.
– Как в пушкинской сказке? – переспросил Максим.
– И то, как в сказке.
Усевшись рядом, Максим закурил. Оля радостно поглядела на задумчивый лес, на бездонное небо, опрокинутое в реке, и солнце, расплескавшееся в чистой воде, и развеселилась еще больше. А правда, хорошо? А прав да, у каждого свое счастье? А правда?.. Максим не успевал отвечать. Пашин говорил, счастье – это жить во всю силу. Правда, хорошо? Ведь если каждый станет все делать в два-три раза лучше и быстрее, что получится? Вместо одной две-три жизни прожить можно. Правда, замечательно? А что, хорошая дружба поможет человеку жить лучше, красивее. Правда? А у нас с тобой может быть хорошая дружба? Нет, не такая, как у тебя с Ларисой, а просто дружба? По-твоему, может. Тогда давай дружить так? Хорошо. Только будем много требовать друг от друга. Согласен? Ладно, и Оля хитро улыбнулась.
– Я начну теперь же, – сказала она. – Дай папиросу.
– Ты что?
– Дай, говорю.
Он несмело протянул ей дымящуюся папиросу и вроде даже наклонился, будто готовый теперь принять незаслуженное наказание. Оля чуть не рассмеялась: «Он же подумал, я и впрямь лоб ему жечь стану, вот дурной!» Сейчас она взяла и бросила папиросу в сторону..
– Больше не курить чтоб!
– Да ты что? – оторопел Максим.
– Закуришь – не подходи!..
С чего начинается истинная любовь, с прав или с обязанностей? И кто знает, в чем они состоят, эти права и обязанности? Только одно можно сказать, чем сложнее и интереснее они, тем сильнее любовь. Максим же, молча шагая с Олей, еще никак не мог осознать ни своих прав, ни тем более своих обязанностей. Но и избегать их ему не хотелось.
А вечером был бой. Черный фашистский танк проскочил взводную цепь и помчался на окоп Максима. Оля как раз находилась у рации неподалеку сзади. Не помня себя, она чуть не выползла на бруствер траншеи, и мускулы лица ее свело от ужаса. На виду у всех Максим приподнялся из окопа и метнул в танк гранату. Ударившись о лобовую броню, она взорвалась оглушительно, но не остановила машины, мчавшейся прямо на него. Оля вскрикнула и, инстинктивно сорвав с себя наушники, бросилась туда, в бой, под огонь. Жаров, находившийся тут же, не успел опомниться, как она уже мчалась по полю. Ясно, это один из порывов души, который ничем не остановить. Задыхаясь, Оля бессознательно летела на танк, и, когда он проскочил над окопом Максима, у нее разом подкосились ноги, и тупая боль пронизала все тело. Превозмогая себя, Оля не останавливалась. Но прежде чем она добежала, артиллеристы двумя выстрелами в упор покончили с танком, и трое бойцов, оказавшихся поблизости, были у окопа, в котором засыпало их командира. Когда Оля подбежала, они успели уже откопать Максима. На счастье, грунт оказался твердым, и это спасло Якорева. Помятый и поцарапанный, он выбрался из-под земли живым и даже способным продолжать бой. Оли он не заметил.
К себе в траншею, на полковой наблюдательный пункт, она возвратилась совсем обессилевшая, но радостно возбужденная и счастливая. Казалось, любое наказание, какое бесспорно ожидает ее за этот побег от рации, было сейчас бессильным испортить ей настроение. У рации она застала Жарова и сразу остолбенела. Подполковник разговаривал с Черезовым. Ох, и получит она сейчас на всю катушку.
– Ну, жив наш Якорев? – снимая наушники и протягивая их девушке, мирно спросил Жаров.
У Оли сразу запылали щеки.
– Помяло его, а жив, товарищ подполковник, совсем жив.
– Вот и хорошо, а бегать все же не к чему…
– Простите, товарищ подполковник, больше не буду…
– Смотри, не то привязывать стану, – пошутил Жаров. – Вызывай Думбадзе.
4
В Солотвине у Павло Орлая много друзей и знакомых. Здесь он не раз бывал у Михайло Бабича, которого называл своим старым другом и учителем.
– Ну, який же я вчитель, – приседая, застеснялся пожилой рабочий. – Мыни самому треба вчитесь, – и так смущенно посмотрел на всех, что взгляд его говорил как бы, скажут же такое про простого человека. Он невысок ростом, худощав, морщинистое лицо измождено и устало, а глаза полны задору и праздничной бодрости.
– Нет, учитель, – упорствовал Павло. – Кто меня просвещал политически? Тут ведь до двадцати разных партий было. Разберись попробуй. А он просто разъяснял: эти, мол, пыль в глаза – и только. Обведут вокруг твоего же дома, а скажут: ого, куда ушли. А вот коммунистическая – той доверяй: она самая правильная. Говорил ведь?
Ну, и говорив, що ж с цього, це ж правда.
– Да разве тебя переубедишь, – засмеялся Орлай, – тебя одна жинка убедить может.
– Ох, уж и жинку приплив, – опять приседая, развел руками Бабич.
– А знаете, кто ему «образование» дал? – обратился Павло к разведчикам. – Сам граф Шенборн. Чего ты плечами пожимаешь? – повернулся он к рабочему. – Сколько он платил тебе раньше?
– Четыре пенга на день.
– А вот теперь?
– До останнего дня – по два пенга.
– Это два фунта плохой кукурузной муки, – перевел Павло дневной заработок на его товарную стоимость. – А плати он тебе тысячу пенгов – разве ты воевал бы с ним?
– Тысячу… – ухмыльнулся Бабич, хлопая себя по коленям и чуть приседая, – та добав вин хоть пять пенгов на день – и то давно б лопнул вид жадности. А то тысячу!..
От Шенборна Бабичу пришлось уйти в Солотвино, на разработки каменной соли. Ее копали тут еще в бронзовом веке, добывали в римские времена, а позже для защиты солекопален построили Хустский замок. Но время потом стерло из памяти людей даже место, где добывалась в те поры соль. Нынешние шахты сравнительно молоды: их заложили лет полтораста тому назад.
Бабич пригласил Максима и его разведчиков осмотреть соляные копи.
Спуск недолог, и они на глубине в двести метров. Идут узким коридором, и вдруг перед глазами громаднейший зал, похожий на рисунки из детских хрестоматий. Где-то вверху Максим не увидел, а скорее угадал недосягаемые карнизы, еле различимые своды арок, тонущих в клубящемся мраке. Солотвинские разработки похожи на пещеры и коридоры, а порою на сказочные хоромы с колоннадами, выломанными внутри земли. Все искрится в мерцающем свете фонарей, хотя общий колорит этих хором скорее серый и тускло-желтый. Михайло Бабич рассказывал, как добывается соль. Тяжелый и упорный труд, от которого меркнет сказочный блеск первых впечатлений. Взрывчатка не применяется, и соль выкапывается вручную большими семитонными призмами.
– Эх, – вздохнул Бабич, – сюда б витбийный молоток, або врубовку з ваших шахт! У нас тут здорозо про них наслухались.
– Станете хозяевами – и отбойники, и моторы – все будет, – сказал Максим.
Среди рабочих солекопален немало румын и мадьяр. Некоторые из них тоже спустились в шахту, но держатся они более робко и несколько отчужденно, особенно венгры. Один из них споткнулся и упал, и кто-то озорно наподдал его ногою. Со стороны послышался недобрый смешок. Даже Павло Орлай, что более всего удивило Максима, как-то нехорошо ухмыльнулся.
– Чого путаешься тут? – набросился на венгра один из рабочих. – На чужое добро не надывывся?
– Он кто? – обратился Максим к гуцулу, указывая на венгра, юркнувшего в сторону.
– Та робитник, рокив три як силь тут рубае.
– Что ж, враг он?
– Який ворог, робитник просто, – вздернул плечами рабочий.
– А раз трудится вместе с вами – друг он, и национальность тут не при чем, – и Максим повел речь о дружбе народов, о рабочей солидарности. – А работы всем достанет, – закончил командир, – и не след обижать румын с мадьярами: зла вам они не хотят.
– Та мы тилько бояр, баронов терпите не можемо, – сказал Бабич, – а мадьярьские иль румыньские робитники – наши братья, хиба нам их давать в обиду.
– От це добре! – по-украински отозвался Максим. – Файно сказано. Чи так?
– Айно, айно! – откликнулись все разом.
– По-стахановски будемо працювать! – убежденно сказал Бабич, тоже обращаясь к рабочим. – Це мы от ваших партизанив знаемо – довго повоювалы вмести, – расставаясь, пояснил Михайло Бабич.
5
Еще с утра Голев увидел конический холм, еле различимый в сизо-фиолетовой дали.
– То Хустский палакок, – сказал Павло Орлай, и всю дорогу рассказывал про Хуст.
Он стоит на остроконечной горе, на самой грани Закарпатья, Трансильвании и коренной Венгрии, и его легендам о битвах за вольность несть числа. Сказывают тут о богатырях, каждый из которых под стать Микуле Селяниновичу или Илье Муромцу. Бойницы замка видели татар, которые безуспешно штурмовали его стены. Были тут турки и венгры, поляки и немцы, не раз дотла разорявшие горно-долинное Закарпатье. И кто знает, как бы сложилась судьба края, если б двести с лишним лет назад паланок не сгорел от молнии, ударившей в его пороховую башню. А сейчас маленькие белые домики Хуста, сбившиеся у руин замка, Голеву напоминали овечью отару вокруг пастуха на Верховине.
На коротком привале бойцов окружили высоченные хустичане с вислыми усами, в смушковых шапках и широченных шароварах, скроенных из белого полотна, шириною с Тиссу.
Окружив Голева, хустичане расспрашивали его о Москве и мичуринцах, о челябинских тракторах. А зашла речь об урожаях – Тарас рассказал про Амосова и его ленинку, достал вещевой мешок Фомича и показал пшеницу. Они без конца пересыпали ее с ладони на ладонь.
– Сам-сорок дае, а! – изумленно посматривали они друг на друга. – А на горбах у нас сам-два, а то и сам-на-сам.
Заговорили о посевах, и Голев отсыпал людям несколько пригоршен фомичевской ленинки.
– Пусть и тут растет на память о воине-герое.
Павло Орлай поспешил рассказать усачам о самом Голеве, и их богатая фантазия в тысячу раз превознесла все заслуги рядового воина. Как же, семь танков одолел. Москва ему Золотую Звезду прислала, и каждому из них захотелось своими руками потрогать звезду героя.
Смущенный неожиданным осмотром, Голев быстро оправился и, чтоб покончить с их интересом к его персоне, стал рассказывать о своем Урале.
– Эх, як побачиты це? – размечтался пожилой хустичанин.
– Ступай, кто остановит! – подзадоривал Голев.
– А можлыво це?
– В родной семье все можно.
– 3 вашею пидмогою мы и тут ище Урал зробимо: копны це горы – тут и нефть, и зализо, и вугиль найдутся – всего богацко. На тысячу рокив хватить.
– И то на тысячу, – согласился Тарас.
Дальше полк двигался уже по равнинной земле, где лишь местами одиноко возвышались круглоголовые горы. Эти невысокие горы-одиночки недалеко убежали от строгих родителей и, как малыши в семье, день и ночь остаются под их присмотром.
Шагая обочиной дороги вместе с Павло, Ярослав с любопытством прислушивался к его забавным рассказам.
– Много бедных крестьян жило на горе Капун, – повествовал молодой гуцул. – Красна гора и всем богата, а нет удобной земли. Судили-рядили, как быть, – потешно развел ом руками, так что Ярослав улыбнулся. – И к черту обратились. – Бери, говорят, – наши души, дай только землю, и чтоб тут вот, на том же месте. – Черт жаден был и согласился, конечно. Взвалил гору на плечи – и к Тиссе! А гора-то тяжела была. Чуешь почему? Слезами бедняков пропитана. Придавила она черта, и погиб он. Но место однако ж высвободил. И возникло на том месте село, спокон веков Русским полем зовется. Только захватчики все его «Урмезово» называли – панское поле, значит. Но, может, то и правильнее было: все земли-то вокруг в самом деле панам принадлежали.
– Ой, нет! – откликнулся Голев. – Что б ни было украдено, вору то не принадлежит. Нет, не принадлежит!..
Разведчики вошли в большое Закарпатское село с традиционными тополями на въезде и белыми выкрашенными по окна голубой краской домиками. На улице черные свиные туши: животных в бессильной ярости перебили гитлеровцы. И тут же еще перепуганные сородичи перебитых. Они покрыты черной курчавой шерстью.
– Их стригут здесь, как баранов, – пояснил Орлай.
– Свиней! – удивился Бедовой.
Весь следующий день бои с венгро-немецкими заслонами шли вдоль широкого и прекрасного шоссе, обсаженного черешнями и абрикосами. Всюду чудесная природа, чем-то напоминающая Южный Крым. Нет только моря, его бескрайних просторов, неугомонного прибоя волн. Впрочем, бурунная Тисса и здесь еще по-своему неумолчна.
Мукачевский паланок Голев увидел за много километров. Он возвышался над плоской равниной с сиреневыми горами вдали. Высокий холм, на котором построен замок, говорят, народ насыпал чуть ли не шапками, и Голев с интересом всматривался в древний закарпатский город, бившийся еще с ордами Батыя. Сейчас он шумен и многолюден. Красные флаги, как символ только что обретенной свободы, гордо реют над зданием ратуши. Всюду праздник. Самый большой и радостный. Приветственные возгласы. Над толпами жителей тучи листовок. На любой из улиц, по которым, не останавливаясь, проходят колонны, – льются звучные песни-коломыйки, родившиеся тут же в ликующем сердце:
Славься довична, дружба священна,
Скриплена кровью в жорстких боях!
Голев поглядел на солдат. Их лица торжественны и просветлены, а сердца полны гордости за этот радостный праздник великой дружбы народов, который они принесли сюда вместе с собою. И они знают, никому и никогда не разрушить этой дружбы. Никому и никогда.
6
С каждым днем Максиму все больше нравилось Закарпатье. Дивная земля, дивный народ. Истинно кровные братья! Полк с утра на суточном отдыхе, и есть время поразмыслить о виденном и пережитом.
В доме, где разместились разведчики, живут полировщики по дереву. Искусные мастера! Их изделия отполированы до зеркального блеска. А труд сам по себе утомительно однообразен, и весь процесс полировки весьма несложен. Дорогой шеллак наливают на комочек мягкого волоса. Обернув его чистой тряпочкой, без устали протирают поверхность бука или тиса. Медлительные движения рук заученны и размеренны. Кусок древесины, впитавший первую порцию шеллака, сохнет сутки. Потом все повторяется раз за разом, пока в дверце шкафа или в спинке кровати не покажется ясный отсвет дня.






