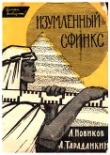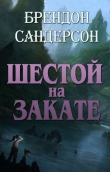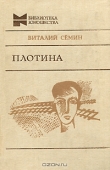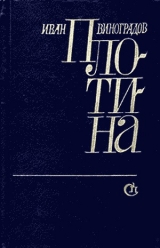
Текст книги "Плотина"
Автор книги: Иван Виноградов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Дождь прибавил, и Женя ловким прыжком перескочила на берег, поближе к Николаю Васильевичу.
– Придется удирать, – сказала она. И побежала под березки, неся в одной руке удочку, в другой – прозрачный мешочек с несколькими хариусами. – Пойдемте у меня переждем, я тут близко живу! – крикнула она, не оглядываясь.
– Я знаю, – сказал Николай Васильевич.
Еще бы не знать ему! Сколько ходил по начальству, выбивая для Жени эту однокомнатную квартирку! Потом подкатывался к Михаилу Михайловичу, чтобы тот помог Жене, матери-одиночке, устроить в детский сад ее девочку. До этого Женя жила со своей матерью в маленькой деревне на берегу Реки, километрах в четырех от поселка, и ей приходилось вставать в пять утра, чтобы успеть в дневную смену. А бывают ведь еще и вечерняя, которая заканчивается в двенадцать ночи, и ночная, которая в двенадцать начинается.
Он помнил все эти свои хлопоты (хотя Женя вроде как забыла уже) и помнил также, что они были ему тогда приятны, нисколько его не обременяли. Он тогда-то и почувствовал, что эта молодая женщина не безразлична ему. И чем больше заботился о ней, тем она ближе становилась… Теперь вот не о чем стало хлопотать – и вроде как незачем встречаться.
Они вбежали в пустой подъезд, Женя позвонила в дверь средней, прямо на площадку выходившей квартиры и немного подождала. Потом достала из брючного кармана свой ключ и открыла дверь.
– Бегает непоседа! – без осуждения сказала о дочери.
В квартире было не так чтоб очень уютно, но чистенько и просторно из-за малого количества мебели.
– Давайте ваш пиджак, – первым делом распорядилась хозяйка. – Повесим его на плечики – он и подсохнет. И не сомнется. А то попадет вам от жены.
– Мне уже давно не попадает, – все равно как пожаловался Николай Васильевич.
– Тогда вам хорошо живется.
Женя взяла из шкафа халатик и ушла в ванную и оттуда вернулась уже не в матросском, а в чисто женском домашнем обличье. Даже успела причесаться и чуть мазнуть губы помадой.
– Ну что же, чайку согреть, пока дождь идет? – предложила она.
– Не стоит беспокоиться, – отозвался Николай Васильевич.
– Да какое же это беспокойство!
Она опять ушла, теперь уже на кухню, а он остался слушать дождь, хорошо к этому времени расшумевшийся.
Чаю он все-таки выпил, и чай был хороший, крепкий, он и согрел и подбодрил Николая Васильевича. Но, как видно, не развеселил.
– Что это вы такой печальный сегодня? – спросила Женя, посмотрев ему в глаза.
– А мне-то думалось, что я радуюсь, – ответил он, чуть заметно улыбаясь.
– Конечно, надо радоваться. Я вот бобылкой живу, и то не тужу.
– Ты – молодая. К молодым тоска не пристает.
– Не скажите, Николай Васильевич! Еще как пристает-то!.. Теперь я, правда, хорошо живу – спасибо вам! – все-таки вспомнила она его хлопоты.
– Ну что там!
– Нет, все-таки что-то вас угнетает, – опять пожалела его Женя. – Может, расскажете, как я вам про свое рассказывала?
Да, был у нее такой исповедальный час, когда она, то ли в порыве благодарности, то ли от тоски, разговорилась, разоткровенничалась и рассказала про свою молодую жизнь и про то, как она вдвоем с дочкой осталась. «Это же такая любовь была, Николай Васильевич, что теперь даже самой не верится. Расскажи мне кто-нибудь про такое, я теперь просто рассмеюсь. А тогда – было. Даже своего залетного сокола так закрутила-запутала своей любовью, что он, бедняга, тоже поверил: „Да-да, это судьба, мы созданы друг для друга…“ Ему пора уже домой возвращаться, а он все гостит и гостит в нашей деревушке. Сено тогда косили, запах в пойме стоял – не надышишься! Вы знаете, как свежее сено пахнет? А тут еще любовь. Обалдеть можно… Уезжал мой залетка – чуть не плакал, а я – ничего. „Ты, – говорю, – только свистни меня – и я тут… как сивка-бурка“. Тогда и он: „Приезжай, – говорит, – ко мне, и мы там поженимся“. Ну а мне что? У меня же крылышки за спиной. Подпрыгнула, поднялась и полетела через всю Сибирь, через Урал, только в Москве и приземлилась, Потом до его города – золотого Звенигорода – добралась. Вот где красота-то старинная, неописуемая, Николай Васильевич! У нас тут природа, реки, тайга, а там – церкви, купола, позолота – и Россия! Ой, какая она!.. Словом, опять был у меня праздник на весь мой отпуск. Только не свадьба!.. Раньше я всем говорила, что свадьба была, что, мол, все по закону строилось, а на самом-то деле ничего такого не было. Просто сокол мой оказался гусем…»
Этот прорыв откровенности случился с Женей в день ее новоселья, в этой вот квартирке. Гости уже расходились, когда Николай Васильевич заглянул поздравить ее, и Женя оставила его, угостила вином, а сама села напротив, облокотилась на стол, подперла голову руками и все говорила, говорила. Может, и не первый раз она откровенничала, но перед мужчиной, скорей всего, – первый, а в этом у них особая печаль и сладость – когда о своем, о женском, – перед мужчиной.
«Вернулась я домой уже без крылышек, – продолжала она в тот вечер, – опять бегаю на плотину – я тогда в бригаде Ливенкова бетонщицей работала – и все жду и жду чего-то, как будто вот-вот, не сегодня, так завтра, не в этот час, так в следующий, что-то обязательно случится, сдеется – ну, как дурочка ходила! И дождалась дочечки своей… вон она у меня какая хозяюшка самостоятельная, сама спать ложится, сама в детский садик ходит. Зажили мы втроем – три женщины на берегу реки. Мама, правда, состарилась от этой моей любви и сюда из деревни переезжать не хочет – стыдно ей, оказывается. А я – ничего. Я теперь никогда одна не буду – доча у меня есть. И квартирка теперь своя собственная… Дайте я вас поцелую за нее, Николай Васильевич!»
Она и в самом деле поцеловала его, и он едва сдержал тогда свои руки, которые сами потянулись к ней, к ее молодости. И горько, и грустно было потом вспоминать ему эту минуту. И потом, и сегодня…
«Ты еще найдешь себе хорошего человека», – проговорил он тогда, глядя на Женину дочку, которая уже угнездилась в своей постельке и смотрела оттуда на чужого дядю чуть ревниво и выжидающе.
«Где я теперь найду? – отвечала на его слова Женя. – Мои ровесники давно переженились, молоденькие ребята нынешние меня пенсионеркой кличут и такого приданого, – она кивнула в сторону дочки, – не желают, побаиваются. Да мне и самой слишком молодого боязно брать, если уж по-честному. Ну какой это муж, если я старше его и опытнее? Командовать начну. Появится в доме еще один взрослый ребенок, а мне двоих многовато… Вот какие дела, Николай Васильевич!»
«А что, если бы я предложил ей взрослого мужа?» – вдруг подумалось теперь Николаю Васильевичу под мирный шум летнего дождя. И он усмехнулся про себя, посмотрел на Женю.
– Так не хотите рассказать про свои заботы-печали? – напомнила ему Женя.
«Может, теперь сказать?» – подумалось ему.
И он сказал:
– Слишком много смелости надо.
– Перед бабой-то?
– Перед тобой-то особенно.
– Интересно – почему же?
– А ты не догадываешься? Не чувствуешь?
– Вот, чтоб с места не сойти!
– Тогда о чем говорить?
Он понял, что все-таки проговорился, и решил поскорее прикрыть правду шуткой:
– Видишь, прибежал за молодой женщиной. Может быть, ухаживать собрался.
– От такого ухажера никто не откажется, – улыбнулась Женя. И добавила: – Только мне-то ведь жених нужен, Николай Васильевич.
– Это верно, – тут же согласился он. – Нельзя в такие годы на себе крест ставить.
Он понял, что все у него тут закончилось, и тоскливо посмотрел в окно: как там дождь?
Дождь затихал, становилось светлее под светлеющим небом – и яснее в душе. Яснее – до боли. Попроси его Женя о каком-нибудь самом невероятном одолжении – ну, например, «похлопотать» насчет жениха для нее (как раньше хлопотал насчет квартиры), – и то было бы лучше, чем эта законченная ясность.
Он встал, снял с плечиков свой пиджак с пестрой радугой орденских планок, надел его и сказал как мог спокойнее:
– Ты, Женя, не обижайся на мои неуместные шутки. Мы ведь старые друзья.
– Ну ясно же, Николай Васильевич! – с легкостью, а может, и с облегчением откликнулась она.
13
Ни на другой день, ни через неделю после собрания партактива каких-то особенных перемен на стройке не замечалось. Все шло по-заведенному. Как и прежде, поворачивались над плотиной краны, ревя сиренами и бережно перенося над головами бетонщиков восьмикубовые бадьи, как и прежде, круглосуточно действовала своеобразная поточная линия бетоновозов по элементарно простой схеме «завод – плотина», как и прежде, случались на этой линии заминки и перебои. По-прежнему бушевал на летучках статный и страстный Варламов, и все его понимали, все ему сочувствовали, в том числе и кровный враг его – Богиня огня.
Здесь же и шутили, и кого-то разыгрывали, переходя с веселого на серьезное.
Однажды Острогорцев поднял начальника бетонного завода и доверительно сообщил ему:
– Только, для вас, Сергей Владимирович: на следующей неделе ожидаем министра.
– Так это вам положено встречать его, Борис Игнатьевич, – не растерялся бетонодел.
– Я встречу. Но вы постарайтесь, чтобы завод работал так же, как во время пребывания у нас замминистра. Вы тогда отлично показали себя.
– Постараемся, – отвечал польщенный бетонодел.
– Очень прошу вас. Очень! – Острогорцев набирал тембр. – И в следующую неделю, и в следующий месяц постарайтесь, пожалуйста, продолжить эту великолепную показуху. Вы не думайте, что я кого-то разыгрываю или шуткую, я даю вам прямое указание: продолжайте показуху еще месяц, два, три, а еще лучше – весь предстоящий год, когда мы должны выйти на рубеж двух миллионов кубов… Черт бы нас всех побрал! – уже откровенно закипел начальник Всея. – Ведь можем, оказывается! Целую неделю работаем без единого сбоя, наблюдаем почти образцовую стройку… Не наводит это на какие-нибудь интересные мысли?
Острогорцев выдержал паузу, как хороший актер, хотя и не собирался актерствовать. Он ждал ответа, реакции – и не дождался. Участникам летучки, вероятно, хотелось услышать дальнейшее развитие его мыслей от него самого.
– Ну что ж, – продолжал он. – Если ни у кого не хватает смелости, я сформулирую сам. Не хватает нам элементарного самоуважения – вот в чем все дело! Нам обязательно нужно высочайшее присутствие – и тогда мы подтянемся, мобилизуемся, продемонстрируем. А как же сами-то перед собой – не хотим выглядеть красиво?.. Опять молчим, товарищи школьники? Ладно, идем дальше. Скажите откровенно: очень перенапряглись вы в эту неделю? Конечно, не очень! Просто держали себя в хорошем рабочем режиме. Давайте же так и дальше! Не перед начальством, а перед своей родной совестью. Перед своим родным делом… Ну а если кому-то необходимо постоянное внимание начальства, я постараюсь его обеспечивать… Летучка закончена! – неожиданно объявил Острогорцев, даже не сделав необходимой паузы.
Никто, однако, не сдвинулся с места, потому что никто не поверил: летучка еще только начиналась. И стоял в ожидании продолжения начальник бетонного завода.
– Я сказал: летучка закончена! – повторил Острогорцев. – Идите на объекты и продолжайте в прежнем духе. Следующая летучка – в среду. И так впредь: два раза в неделю – и в темпе!
Он вышел из-за стола и направился к дверям своего здешнего кабинета.
Начали подниматься и переглядываться, пока что без слов, и остальные. Кто-то, помоложе других, улыбчиво провозгласил:
– Да здравствует реформа!
Другой сказал:
– Мужики, кажется, что-то начинается…
Начальники расходились в некотором недоумении, но без обиды. В управлениях и на объектах каждого ждали свои дела, и это совсем неплохо, что летучка закончилась так быстро. Не худо, пожалуй, и то, что теперь она будет проводиться всего два раза в неделю. Вот он, неожиданный резерв командирского времени! Конечно, каждый день могут возникнуть у начальников какие-то вопросы к руководству, но для этого есть штаб, есть телефоны, есть ноги, наконец.
Начальники спускались с главкомовской горки в котлован, шли к плотине, и все, что видели вокруг и перед собой, было для них в высшей степени привычно и вроде бы неизменно. То есть они знали, что плотина ежедневно подрастает на столько-то кубов, но на глаз это уже не определялось, только лишь по отметкам. Плотины растут, как дети, – незаметно и медленно, и не зря рост тех и других фиксируется отметками: геодезическими или на дверном косяке.
Еще труднее было бы заметить и проследить перемены в умонастроении многотысячного коллектива. Нет таких отметок, нет такой аппаратуры, и мало кто из людей наделен способностью улавливать эти перемены. Их легко увидеть в часы перекрытия реки или пуска станции, а в обычные дни люди ведут себя буднично и обычно.
И все-таки, все-таки изменения происходили! Не всегда заметные, даже не всегда чисто положительные, но происходили – и в общем направлении положительном. Они происходили в сознании и психологии людей. В самом организме стройки. В ее клетках. В ее темпах. И настал день – это было первое августа, – когда вечернюю смену встретил в котловане новый большой плакат: «Есть 100 тысяч!»
На следующий день большой щит появился и при въезде в поселок, неподалеку от автобусного «пятачка». На нем был нарисован красивый бетонщик в аккуратной защитного цвета робе и в красной каске. Одной рукой он вытирал вспотевший лоб (Николаю Васильевичу это напомнило известный военный плакат «Дошли!»), другой – придерживал вибратор, только что вытащенный из сырой массы бетона. Плакат и здесь сообщал: «Есть 100 тысяч!»
Это было уже событие. Его могли не заметить и не понять посторонние люди, но строителям все было ясно. Дело в том, что сто тысяч кубов бетона в месяц – это как раз та желанная цифра, которая необходима для задуманного ускорения. Это была живая реальность уже начавшегося ускорения. От этой реальности исходила и новая уверенность: «А ведь действительно можем, черт бы нас взял!..» Что же касается скептиков, то они теперь замолчали, а это очень важный показатель и хорошая примета. Когда умолкают скептики, значит, машина идет на подъем.
Николай Васильевич провел в эти дни во всех бригадах свои собственные летучки или собрания, а точнее сказать – беседы, поскольку не устанавливалось на них ни регламента, ни порядка выступлений, не выбирался президиум и никто не вел протокола. Говорили когда кому хотелось, а завершал беседу во всех бригадах и сменах один и тот же неторопливый оратор, который под конец как будто совсем забывал о производстве и переходил на свободные темы.
– Вот вы, бывает, жалуетесь на сегодняшние трудности-сложности, – говорил он. – Одному долго не дают квартиру, у другого она, с пополнением семейства, маловата стала, ну и так далее. А я вот вспоминаю теперь свою неустроенную молодость – и горжусь! Знаю, знаю, что не нравится вам, когда старики поучают: мы, дескать, вон как жили и то не тужили! Знаю и не собираюсь равнять вашу молодость с нашей: вы дети своего времени, мы – своего. Я ведь о чем толкую? О том, что гордимся мы честно пережитыми трудностями, и это у нас сегодня, может быть, самые дорогие воспоминания. Так что не надо бояться смолоду трудностей, не надо лишать себя самых хороших воспоминаний… Ну а то, что касается недостатков и недоработок, которые тут отмечались, – будем их преодолевать все вместе. Вот сидят с нами наши старшие прорабы, ученые люди, хорошо вам известные и тоже молодые, – они, я надеюсь, тоже что-то придумают дельное. Главное – теперь уже всем ясно, что мы можем хорошо работать, а если можем, то, значит, и обязаны…
Уходя из бригадного домика вместе с Юрой или один, он еще продолжал некоторое время думать о том, что сказал и хорошо ли сказал.
В эти дни он еще чаще стал возвращаться к тем своим молодым годам, о которых рассказывал ребятам, и тогда уж непременно «просматривал» какие-нибудь отрывочные кадры из своей многосерийной эпопеи жизни. То вдруг переносился на берег далекой фронтовой речки и стоял над ней в размышлении, как получше организовать на рассвете переправу пехоты, а то вдруг вспоминалась и сама переправа, с ее приглушенной нервной суматохой, первыми всплесками воды и первыми пугающими выстрелами с того берега или из глубины обороны, когда после каждого отдаленного хлопка вырастает на реке близкое черное дерево. Одно, другое, третье… Черные стволы и стеклянистые развесистые кроны. И много белобрюхих рыбин, плывущих вниз по реке. И чья-то вздувшаяся на спине гимнастерка, плывущая вниз по реке… Хорошо еще, не было на тех реках плотин, а то собирались бы перед ними жуткие скопления утопленников.
Почему-то все чаще вспоминалась теперь и Чукотка, где не было и не намечалось никакой войны, но, как выясняется, много было такого, что помнилось! И вот чудо! Как бы в ответ на его неоднократные прорывы к чукотским уголкам памяти пришло вдруг письмо от тогдашнего замполита Глеба Тихомолова, с которым они начали вместе служить еще в Германии. Густова назначили тогда командиром батальона, а Глеб Тихомолов, сотрудник военной газеты, пришел замполитом. Новый комбат и новый замполит. Но если комбат был старым сапером, то замполит выглядел человеком неясным. В самом деле, зачем журналисту идти в батальон? А журналист, оказывается, сам попросился. Ему, оказывается, надо было получше узнать русского солдата, чтобы затем написать о нем выдающуюся книгу. Почти все вечера он проводил тогда в ротах, в казарме и все, что слышал, записывал, накапливал в своих самодельных записных книжках: солдатские судьбы, анекдоты, присказки, поговорки. Когда часть переехала из Германии в Крым, Глеб встретился там с настоящим писателем Петром Андреевичем Павленко, показал ему свои первые опыты – и снова что-то писал, корпел, сомневался. Саперы там разминировали знойные Сиваши, а затем были брошены на трудовой марафон по восстановлению «Запорожстали», где командир и замполит встречались, кстати сказать, с будущим главой государства и даже что-то у него требовали. Он просил, они требовали. Он просил ускорить, они требовали обеспечить. Был такой памятный контакт на высшем уровне… Затем Густову и Тихомолову выпала честь поехать на Дальний Восток, в Южно-Сахалинск. Но вместо Сахалина угодили они на Чукотку – и опять было там много такого, о чем можно вспоминать теперь с гордостью, то есть, по нынешним меркам, непостижимо трудного. И возникла крепкая дружба, когда не было между командиром и замполитом ни тайн, ни обид, ни тем более недомолвок. Все было открытое и общее – что твое, что мое.
Расставшись не по своей воле, они долго переписывались, но это дело пошло уже с явным затуханием. Однажды и совсем затухло – не поймешь, почему. Оборвался где-то в незаметном месте проводок – и не нашлось расторопного связиста, чтобы тут же срастить его. Первое время Николай Васильевич все надеялся увидеть фамилию друга на книжной обложке, поскольку это было заветной мечтой Глеба, но время шло, а книги все не было. Еще в Дивногорске Николай Васильевич спрашивал в книжном магазине, нет ли книги такого-то писателя, но ему всякий раз отвечали, что нет и не слышали о таком. Здесь, в Сиреневом логу, он уже и не спрашивал.
А теперь вот письмо:
«Прочитал на днях очерк о твоей стройке, в котором сразу двое Густовых упомянуты, принес газету домой и прочитал уже вслух, перед всем своим немногочисленным, в отличие от густовского, семейством. И потекли рекой воспоминания. А у Лены – и слезы. До сих пор не может она спокойно вспоминать тогдашнюю нашу дорогу, особенно по морю, а потом рождение сына, всякие невзгоды… Но и другое тоже! Обычно у нее так бывает: погорюет немного, подумает, потом скажет: „А все-таки это было у нас, может быть, самое счастливое время!“ Вполне может быть…
А ты, я чувствую, врос в свое дело, как плотина в берега. Мне этот образ из очерка – о „корневой системе“ плотины – очень понравился, и я позавидовал очеркисту. Заодно и тебе, поскольку понял, как вы там изощренно ведете свое дело, как оно, должно быть, интересно для вас…»
Николай Васильевич довольно усмехнулся. Дело красивое – не будем скромничать! Люди со стороны даже не представляют себе, что не только вся плотина в целом, но и каждый отдельный блок ее – целое хозяйство, жизнеспособная клетка, вроде бы отделенная от других, но и навечно спаянная со всеми другими. Настоящий большой организм, хотя и бетонный и кому-то видится мертвым. А плотина живет, дышит, греется и остывает, потеет, работает всей своей мускулатурой, всем стальным костяком своим, упираясь в берега и сдерживая напор воды… Может быть, и мы сами перенимаем кое-что от нее, упираемся тут против Реки и стихии и действительно врастаем корнями в свое дело.
Насчет «корневой системы» плотины тот настырный парень действительно неплохо написал, но это не он придумал. У нас так давно говорится. И действительно очень похоже это на корни, когда смотришь в проекте, хотя и называется «завесой». Цементационной завесой. А это вот что такое, старый дружище. Дно реки и скалистые берега ее пронизаны, прошиты сквозь бетон плотины (из внутренних галерей) сотнями скважин, в которые нагнетается под большим давлением цементный раствор высочайшей марки. Он заполняет не только саму скважину, но и всякую пустотность, любую трещинку и щелочку в скале, попавшуюся на пути. И становится скважина стержнем, стволом корня, а все заполненные пустоты – ветвями его и щупальцами, и перекрывается таким образом всякая возможность для фильтрации воды. Воде нельзя оставить даже игольчатого отверстия… Недавно вышла книжка главного строителя Красноярской ГЭС Андрея Ефимовича Бочкина под таким названием: «С водой, как с огнем». Так вот: точнее не скажешь!
О себе Глеб Тихомолов писал:
«В газету я так и не вернулся – состарился. Дослужил на политработе до положенного срока и уволился в запас. Посидел годик над своими блокнотами, кое-что насочинял, но, видимо, неудачно – не приняли. Зато предложили поработать в журнале, и я согласился. Корплю теперь над чужими рукописями и все готовлюсь к чему-то серьезному в своей жизни, а время уходит и уходит. Накопил я всякого материала достаточно, только об одном не подумал: хватит ли времени, чтобы реализовать эти накопления? Пока что собрал лишь первую свою книгу (надеюсь, она скоро выйдет в свет, и тогда я пришлю ее тебе). Теперь же самое время приступать ко второй, то есть к „Повести о несостоявшемся писателе“. Материала для нее хватит с лихвой».
«Сын мой единственный, на Чукотке рожденный, – писал Глеб дальше, – отцовской судьбы не пожелал и пошел в естественные науки. Впрочем, ты это знаешь – не целый же век прошел с тех пор, как оборвалась наша переписка! Сейчас он работает в Центральной лаборатории по охране природы и окружающей среды, довольно самостоятелен и отчасти угрюм. Прочитав, то бишь прослушав в моем исполнении очерк о вашей стройке, природе и Реке, засобирался к вам. Так что может случиться – встретитесь… Надо бы и мне проветриться от прокуренных редакционных комнат и коридоров, но теперь я, подобно Скупому рыцарю, дрожу над каждым часом своего рабочего времени. Вот уж действительно нет ничего в мире более дорогого и более дефицитного, чем время!».
Николай Васильевич как будто въяве услышал взволнованный голос Глеба, но это был давнишний молодой голос, он не соответствовал грустным словам нынешнего письма, и потому он звучал недолго. Только прорезался и пропал. И сам Глеб, его облик, ненадолго обозначившись, тоже исчез, растворился, стушевался. Не стало в нем былой отчетливости. Все куда-то с годами отступает, уходит… Или это мы сами постепенно уходим, и начинается уход с того, что затухает молодая дружба? Или же просто идет, идет время, появляются новые друзья, возникают новые интересы – и постоянно сопровождает тебя, перестраивая на свой лад, госпожа Работа. На плотине она ведется в три смены, и пока ты не выбьешься в начальники, так и вкалываешь: неделю в утро, неделю – в день, неделю – в ночь. А когда выбьешься, то вкалываешь в среднем по полторы смены в сутки.
Насчет новых друзей… Появлялись они на каждой новой стройке. С некоторыми так вместе и переезжали с одной на другую – как вот с Мих-Михом и Григорием Павловичем. А если оказывались на разных, то переманивали друг друга к себе, соблазняли красотой природы, потрясающей рыбалкой и охотой, обещали хлопотать – и хлопотали! – о жилье. Не было ко времени приезда готового жилья – брали к себе на квартиру, ясно, что не получая от этого дополнительных удобств. На Красноярской у них с Зоей уже двое сыновей было, когда приехал на стройку и оказался без крыши над головой Василий Сергеевич, старый дружок по Иркутской плотине. Что делать – взяли к себе, благо, только что получили трехкомнатную квартиру. Выделили гостям (детей у Василия Сергеевича тогда еще не было) лучшую комнату и зажили коммуной. И неплохо жили. Но как-то пришли мужчины с работы, а на кухне обыкновенная для коммуналки бабья ссора – просто не узнать вчерашних подружек! Спросили, в чем дело, – молчат, только каждая на своего поглядывает. Тогда Василий Сергеевич, тоже не говоря худого слова, берет свою за шиворот или, культурнее сказать, за воротничок, ведет в отведенную им на двоих комнату – и читает мораль с погремушками: «Как же ты посмела, такая-сякая, расхорошая? Люди тебя приютили, себя стеснили, а ты…» Николай Васильевич, чтобы Зоя не слушала этих речей, тоже уводит ее в комнату и тоже мораль: «Люди у тебя в гостях, они и так-то стесняются лишний раз на кухню выйти, а ты…» Приказ у обоих мужиков был одинаковый, прямо как сговорились: быстро, милые, в магазин за водкой – за ужином мириться будете! Ну и верно, вышли хозяйки на кухню к совместному ужину, и одна ставит бутылку, другая тоже. Мирились весь вечер, по-российски – с печальными и веселыми рассказами о военной и послевоенной жизни, с песнями про Ермака и про Катюшу, со слезой очистительной… И мир наступил после этого долгий, и дружба не пострадала. Ни одного праздника или семейного события одна семья без другой не отметила. Ни печали, ни радости не оставались неразделенными. Потом разъехались – один сюда, другой на Зею… А дружба – вроде как в третью сторону. То есть в первые годы, как водится, писали друг другу и не то в шутку, не то всерьез звали один другого к себе на стройку, но прошли эти первые годы, каждого захватила своя новая жизнь – и опять повторялась та же история, как с Глебом Тихомоловым…
Николай Васильевич разгладил лежавшее на журнальном столике письмо Глеба и полюбовался им. Написано оно было на хорошей, чуть голубоватой бумаге (неужели еще с тех давних лет трофейную сохранил?), с широкими «писательскими» полями и очень ровными строчками, хотя бумага была нелинованной. И очень красивым почерком. Когда, бывало, заходила речь о будущем его писательстве, Глеб шутил: «Одно у меня сомнение: слишком почерк хороший! У всех великих почерк трудный, торопливый, а у меня – как у писаря».
Николай Васильевич начал искать в Зоиных закромах бумагу, поскольку сам уже давно не держал ее ни в тетрадках, ни отдельными листами. Сам он обходился теперь небольшой записной книжкой, чтобы заносить в нее номера и объемы забетонированных блоков и дату бетонирования. И хватает ему для всей этой обстоятельной летописи три-четыре странички на целый год.
Бумага у Зои нашлась, но одновременно попался на глаза и ее самодельный словарик. Почему-то ей нравилось самой выписывать немецкие слова, хотя были у нее и настоящие, типографские словари. Тоже любила, как Глеб, накапливать свои запасы… И тоже, если подумать, «не состоялась» у нее судьба. Ей так хотелось переводить книги! Те немногие учебные часы, которые она имела в школе, ее уже не удовлетворяли, ей хотелось дела потруднее и поинтереснее. Как-то, еще в Дивногорске, Николай Васильевич увидел у главного инженера УОС немецкий гидротехнический журнал и попросил его на пару дней. Зоя перевела несколько статей, в том числе одну о плотинах. Николай Васильевич прочитал статью с интересом и показывал потом другим прорабам, неизменно упоминая, что это жена перевела. Как-то потом дал ему Юра почитать переводной английский роман, и Николай Васильевич чуть ли не первый раз в жизни обратил внимание на фамилию переводчика. Там было напечатано: «Перевела С. Руперт-Соловьева». И он подумал тогда, что сложись как-то иначе обстоятельства, и могла бы появляться на книгах такая подпись: «Перевела 3. Густова». Не обязательно же иметь сложную составную фамилию, чтобы стать переводчицей. Скорей всего – не обязательно…
Он взял бумагу, ручку и подсел к журнальному столику. Но писать так, согнувшись, было неудобно, и он перешел в бывшую Надину, а теперь Юрину, комнату, где стоял настоящий письменный стол. Самого Юры не было, Зоя ушла на «любовное свидание» к внуку, так что обстановка для писания писем получилась самая подходящая.
«Дорогой ты мой Глеб! – начал он. – Прежде всего большое тебе спасибо за письмо, за то, что помнишь старую дружбу, а затем сразу хочу посоветовать: не думай ты о годах своих – они сами о себе, когда надо, напомнят. Ведь мы с тобой даже среднего всесоюзного возраста еще не достигли. Вот когда этой отметки достигнем, тогда можно будет и оглядеться по сторонам, прикинуть, много ли осталось впереди. А пока пиши новые свои книги. Только не „Повесть о несостоявшемся писателе“, а роман толкового писателя о нашем поколении. Главное – не поддаваться. У нас тут один наш ровесник так говорит: „Пока у тебя все в порядке по мужскому ведомству и пока не утратил чувства юмора, ты еще не старик“. Если действительно соберешься к нам приехать, гарантирую тебе хорошие впечатления, красивую тайгу и красивых людей. В самом деле – соберись! Ведь ты Сибири пока что не знаешь – только дважды проехал по ней из конца в конец. А это такая земля, которая может заменить даже родную, то есть ту, где родился. По себе чувствую…»
Письмо получилось на четырех тетрадочных страницах – таких длинных уже давно не писал. А главное – разохотился. Не сходя с места, написал и Василию Сергеевичу, на Зейскую стройку. Это письмо получилось покороче.
Тут он просто напомнил о себе, слегка пожурил старого приятеля за то, что давненько не подает вестей, рассказал о своих последних новостях, главным образом семейных, а под конец, неожиданно для самого себя, предпринял такую разведку: «Напиши, кто там у вас из наших общих знакомых в управлении работает и как у вас относятся к людям пенсионного возраста – не выгоняют насильно на заслуженный отдых? Не подумай, что я о себе беспокоюсь, – тут же подзамел следы, – просто мне хочется знать, какое где отношение».
На этом он и поставил точку.
Как раз и Зоя вернулась со своего свидания, прошлась по пустым комнатам, даже, можно сказать, бегом пробежалась и начала громко звать: