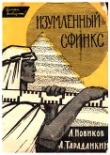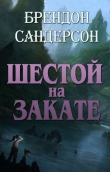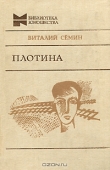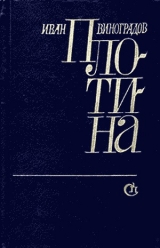
Текст книги "Плотина"
Автор книги: Иван Виноградов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Вот так задумаешься да пораскинешь карты перед собой, так в пору и лекарство глотать.
Лекарство еще и тем хорошо, что после него засыпаешь и смотришь приятные сны. То красивая рыбалка приснится, то город заграничный в белых флагах, а то еще – просто смех! – женщина молодая. Вот тебе и пенсионер, вот и ветеран! Можете посмеяться, кому охота.
Бывали сны и посложнее.
Однажды он превратился во сне в плотину. Сначала просто стоял на блоке и смотрел, как набегает сверху вода, поднимаясь все выше, к свежим блокам, и грозя перелиться через верх. А ему нельзя было допустить этого. И вот он стал спиной к воде и начал разрастаться в плечах, загораживая собою реку. Разросся до такой непомерной ширины, что уперся плечами в берега, выгнул спину навстречу водяному напору и так замер, бычась от натуги. Оглянуться и посмотреть, что там за его спиной делается, он не мог, но чувствовал, помимо напора, еще и приближение чего-то особенно страшного, такого же чудовищно страшного, как война. И уже слышал военные звуки, военные крики («Прорыв! Танки! Обходят!»), слышал нарастающую стрельбу. Становилось не просто страшно, а предельно, панически страшно: сумею ли устоять? Все люди куда-то пропали, остался он один перед всем этим нарастающим ужасом. Плечи его уже срослись с берегом, руки и пальцы рук, одеревенев, «проросли» в скалу. «Надо!» – говорил он себе, имея в виду, что надо устоять, сдержать все это, и повторял: «Надо!» Почувствовал болезненный удар в спину, под лопатку, понял, что ранен, но силы у него еще оставались, и он продолжал сдерживать напор, и еще поднапрягся, чтобы не пошатнуться: плотина ведь может «покачнуться» в своей верхней части лишь на какие-то сантиметры – не более. Потом он все же позвал сына: «Юра, подмогни!» Тот оказался поблизости. Появился веселый, беззаботный, будто не понимающий того, что здесь происходит. «Ты что, шеф?» – спрашивает. «А ты не видишь?» – «Сам виноват, – отвечает. – Все на себя берешь». И поучительно добавляет: «Сдержи себя!»
Тут Николай Васильевич проснулся и действительно увидел у кровати Юру.
– Позови-ка мать, – попросил.
Зоя пришла тотчас же, встревоженно спросила:
– Как ты?
– Все равно как противотанковую болванку под лопатку всадили, – пожаловался он. – Но ты, Юра, не уходи! – остановил он сына, который, посчитав себя ненужным здесь, направился к двери.
Зоя накапала капель, дала таблетку, и Николай Васильевич успокоился, уверенный в том, что теперь все пройдет.
– Вот и боли дождался, – усмехнулся он. – А то они все спрашивали: не болит ли тут, не ноет ли там? Теперь придет, так порадую: заболело, доктор!
– Не шутил бы ты этим, Коля, – грустно посоветовала Зоя Сергеевна. – Подлечиться всегда не вредно.
– А сама? – напомнил Николай Васильевич.
Еще летом врач сказал Зое Сергеевне, что у нее, скорее всего, тромбофлебит и что надо бы проконсультироваться у специалиста, а то и полежать в городской больнице, но после прописанных той же докторшей таблеток стало Зое Сергеевне полегче, и ни о какой больнице теперь разговора не возникало.
– Мы, женщины, крепче вас, – ответила она мужу.
– Ну и ладно, если так. Я не возражаю… Как там у нас на участке? – спросил Николай Васильевич сына.
– Все в порядке, шеф! – доложил Юра.
– Новая бригада не сильно тянет назад?
– Панчатов по две смены на блоках топчется. Бригадка у него, конечно, еще хилая, но план сделаем. Это мы тебе обещаем.
– Сам в выгородку полезешь?
– Теперь некогда, – усмехнулся Юра какой-то простецкой мальчишеской усмешкой, через которую глянул на Николая Васильевича довоенный Колька Рустов, мечтавший стать строителем и ставший военным курсантом… Где он теперь, этот давнишний Колька? Как соединяется его время с нынешним?
– Принеси-ка мне мою книжку, – попросил Николай Васильевич сына.
Юра сразу понял, о чем идет речь, и вышел в прихожую, где отдыхал в стенном шкафу бессменный рабочий пиджак отца. Уже износился, вытерся пиджак-ветеран, залоснился на локтях, но менять его хозяин никак не хотел. «Дыр еще нету, а я привык к нему», – объяснял он свою приверженность.
С хорошо знакомой и тоже поистрепавшейся книжицей Юра вернулся к отцу. Он знал, что последует дальше.
– Ты все помнишь по новым блокам? – с некоторым сомнением спросил Николай Васильевич.
– Как дважды два.
– Тогда продиктуй.
Он сел на койке, нащупал ногами шлепанцы, попросил у Юры шариковую ручку и приготовился записывать. Юра начал диктовать – номер блока, отметка, объем…
– Объем точно помнишь, не переврешь?
– Я их уже по пять раз переписал и по десять раз повторил по телефону.
– А я вот уже не могу удержать в памяти много цифр, – пожаловался Николай Васильевич.
– Можешь, не прибедняйся. Все ты еще можешь.
– Значит, тридцать девятая секция так и будет у нас отставать? – понял по цифрам Николай Васильевич.
– Растянулся же участок. В одном месте подтянешь, в другом отстанешь. А там кран забарахлил снова.
– Вот наградили нас морокой героические машиностроители! Превратили стройку в испытательный полигон… Ладно, диктуй дальше. Да смотри, чтобы точно! В этой книжке еще ни одной ошибки не было.
Вписывая цифры, Николай Васильевич, подобно школьнику, повторял их вслух, после каждого блока выводил нарастающий, за месяц и за квартал, итог, и в его голосе все определеннее звучали нотки душевного довольства и благополучия.
– Ну что ж, – заключил он бодро, – если и дальше так пойдет, месяц у нас действительно неплохой будет, хотя и без Ливенкова. Молодцы, ребята! И руководители молодые – тоже на уровне.
– У кого учились-то! – не остался Юра в долгу.
– Льстить начальству я тебя не учил, – заметил «шеф».
– А если я уважаю начальство?
– Его хорошей работой уважать надо.
– Так ведь тоже стараемся.
– Ну вот, сошлись кукушка и петух, – проворчал Николай Васильевич. А по лицу видно было: доволен! И еще заметно было: прошла, отпустила его за приятным разговором и недавняя боль. Он снова улегся в постель и смотрел на сына и жену не как больной, а как отдыхающий после работы человек. Деланно рассердился:
– Ну чего собрались? Идите по своим делам, а я тут на свободе подумаю да почитаю.
На стуле у койки лежала у него книга – «Воспоминания и размышления». Автор – маршал Жуков.
18
Провернув все свои неотложные утренние дела, Юра позвонил в техинспекцию. Трубку взяла Саша Кичеева и сразу же спросила: «Тебе Наташу?» – «Наташе – привет! – ответил Юра. – А просьба ко всем, кто будет в конторе при окончании летучки, – брякнуть мне: Юра, летучка кончилась!» – «Ой, как таинственно!.. Ну я все-таки дам тебе Наташу». Юра и Наташе повторил то же самое – и ничего больше. Никаких других слов по служебному телефону он говорить не хотел.
Потом позвонили ему самому с просьбой (понимай – с приказанием) выделить людей в совхоз на капусту.
– Не могу я слышать этого слова – «выделить!», – сразу взорвался мирный и благодушный до этого Юра. – Мне самому людей не хватает! Вы что, не слышали о новых цифрах по бетону, не знаете, что от нас лучшую бригаду забрали?.. Ну, разговаривайте с Сапожниковым, а я не дам… Гера, возьми трубку! – крикнул он в дверь серединной, проходной комнатушки, в которой всегда задерживался Сапожников. Он там что-то бубнил Любе и, наверно, не слышал, как Юра отфутболил «просителя» к нему. Сняв трубку, Гера спокойно все выслушал, потом начал тянуть слова:
– Ну, это я не знаю, это надо к Юре Густову, он у нас замещает начальника… Да не мог он на меня… Юра! – крикнул ответно Сапожников. – Это к тебе!
И сам вошел к Юре, стал слушать, ухмыляясь.
Людей все равно пришлось выделить: совхоз снабжал капустой и стройку, и тут четко действовал принцип «дашь на дашь». Пришлось «перетрясти все тылы», как говорит в таких случаях Николай Васильевич, перебрать всех, не связанных с бетоном, чтобы наскрести непременных трех человек. Ради шутки Юра предложил включить в это число и Любу, но Гера нашел чем пригрозить в ответ: «Тогда ты сам будешь закрывать наряды».
Юра посмотрел на приятеля и вдруг заметил, что все его натопыренные ежики как-то улеглись, или укоротились, или же просто были сегодня причесаны, – кто их там разберет!
– Гера! – сказал он. – В твоей жизни, я вижу, происходят благотворные перемены.
– По-моему, и в твоей тоже, – прежним ежиком глянул Сапожников.
– Не слышно на участке крепкого сибирского мата, – продолжал Юра.
– Сейчас услышишь! – пообещал Сапожников, направляясь к двери, чтобы прикрыть ее.
– Нет, стой! – остановил его Юра. – Все должно быть при открытых дверях. – Люба! – позвал он нормировщицу.
И Люба – вот она! Как будто стояла за простенком и ждала, пока позовут.
– Ты не слышала, о чем мы тут толковали? – спросил Юра.
– Насчет капусты? – проговорила Люба.
– Насчет свадьбы!
– Вы собрались жениться? – невозмутимо спросила Люба. И Юра оказался в своем собственном капкане.
– Да не я, а вы! – все-таки не сдавался он. – Гера, ты что, еще не говорил Любе?
– Юрка, ты сейчас получишь! – погрозил Сапожников.
– Ну, ребята, нельзя так затягивать дело, – продолжал Юра уже по какой-то приданной самому себе инерции. – Если дело за мной, так я тоже готов. Давайте сразу две! Ну?
Тут и Гера посмотрел на Любу из-под своих козырьков-бровей с вопросом и ожиданием. А Люба наклонила голову к плечу, улыбнулась и сказала:
– А чо?
– Заметано, ребята!
Юра тут же убежал на новые блоки – посмотреть, как там идет подготовка, – и по дороге уже всерьез обдумывал то, что наболтал в порыве непонятного шутовства. Ну, Гера с Любой, кажется, не очень удивились и не слишком растерялись, а вот сам-то он с чего так расхрабрился, у самого-то откуда взялась такая нахальная уверенность? Наташе он все еще так и не сказал тех главных слов, после которых могла бы начаться для них совершенно новая жизнь. Наедине с собой он уже мечтал об этой жизни, а встречаясь с Наташей, хотел одного: не расставаться, не расходиться по разным квартирам, все время быть вместе. Видеть ее как можно чаще – хотя бы мельком, в автобусе или на блоке, стало для него потребностью и необходимостью. Повидался – значит, все хорошо, не встретился – даже дела на участке идут хуже. Он уже понимал, чувствовал, что Наташа – его судьба, думал о ней не только радостно, но и серьезно, рисуя в воображении картины их будущей совместной жизни. Он уже видел свою семью и даже пытался обдумывать что-то практическое: как быть с жильем, с чего начать устройство… Это были, конечно, наивные и малореальные проекты: они всегда наивны и нереальны, пока составляются в одиночку. Он понимал это. Однако вовлечь в свои замыслы и мечтания Наташу, сказать ей все до конца пока еще не решался. Может – боялся. Не уходила из памяти ее фраза: «Значит, все это было у тебя очень всерьез». За нею как будто следовало такое продолжение: «Если у тебя уже было серьезное сильное чувство, значит, оно уже не повторится. Во второй раз такого не будет».
Мысленно Юра убеждал ее, что ничего здесь и не должно повторяться. Чувство приходит вновь и новое. Оно уже пришло – и такое, какого он не знал никогда. И, может быть, только теперь он способен вполне оценить новизну своего чувства и предстоящие радости семейной жизни. Он способен и оценить и дорожить всем этим. Как раз потому, что он уже не мальчик и пережил серьезное…
Он поднимался на плотину в недавно смонтированном, прилепившемся к бетону полуоткрытом лифте, жидком и шатком на вид, с дребезжащими стойками, но, как видно, надежном. В кабине он оказался наедине с девушкой-лифтершей, молоденькой, недавно приехавшей на стройку. Спросил, не надоедает ли ей кататься вверх-вниз и не страшно ли. «А чего бояться-то? – задорно и смело отвечала девчонка. – Вас, что ли?»
Щелкнули громко контакты, звякнул звонок – лифт остановился на верхней площадке.
Юра не выходил.
– Дальше не едем. Выше только небо, – сказала задорная.
– А мне опять захотелось на землю.
В кабину вошло несколько ребят, и лифт пошел вниз, дребезжа свою унылую песенку.
Как только кабина остановилась и парни подняли дверцу-заслонку, Юра вышел и быстрым шагом направился на штабную горку.
Глядя в лифте на девушку, он вспомнил Наташу и почувствовал, что должен сейчас же, немедленно идти к ней. Что он скажет, о чем спросит при встрече, он сейчас не думал – просто ему необходимо было увидеть ее. Если он не застанет Наташу в техинспекции – пойдет разыскивать ее на блоки или в потерну; если не вышла на работу – пойдет к Варламову… нет, пойдет к ней домой; если не застанет дома – пойдет по всему поселку, но уже не остановится и не успокоится, пока не увидит, не поговорит, не посмотрит ей в глаза. Все дела были забыты, все мысли соединились на одном: Наташа!
И все же, переступив через знакомый порожек техинспекции, о который многие с непривычки запинались, войдя в знакомую до мелких подробностей комнату и охватив одним взглядом всех присутствующих – и Наташу, и Валерию-начальницу, и своего «побратима», с которым несколько лет назад поменялся должностями, – он не мог подойти прямо к Наташе и заговорил, обращаясь сразу ко всем:
– Привет технической милиции! Как у вас на фронте борьбы с нарушителями технологии?.. А это любопытно! – остановился он у стола своего «побратима» и стал читать плакатик на стене, писанный славянской вязью: – «Указ Петра I от 11 генваря 1723 года. Параграф первый. Повелеваю хозяина Тульской оружейной фабрики Корнилу Белоглазова бить кнутом и сослать на работу в монастырь, понеже он, подлец…» Понятно: за срыв качества! – заключил Юра.
И только после этого подошел к Наташе.
– Садись, – показала она на стул.
Он сел, но так, что сразу видно было: не надолго. Бочком, без основательности.
– Я звонила, звонила, – сказала Наташа, напоминая о его просьбе, – но все на Сапожникова или на Любу попадала. Летучка кончилась, как видишь.
– Спасибо, я понял… Я к Острогорцеву собрался, но это потом…
Он все еще сидел и смотрел на нее, хотя ясно видно было: не сидится ему!
– Ты можешь на минутку? – Он кивнул на дверь.
– Конечно.
Прямо с крыльца он позвал ее за угол домика, на узкую «смотровую» площадку, с которой открывался вид на всю плотину, от берега до берега, уже не разорванную проездом на две половины, а соединенную и выросшую до высоты многоэтажного современного дома. Над нею колдовали, шевелились, ревели сиренами огромные членистоногие-подъемные краны. Под левобережной скалой, на месте будущего здания ГЭС, уже обозначились массивным бетоном и ажурным плетением арматуры круглые основания под первые гидроагрегаты. На них работала теперь бригада Ливенкова…
– Наташа, – начал Юра, – мне надо было обязательно увидеть тебя.
– Что-то случилось? – забеспокоилась девушка.
– Случилось уже давно, только я хожу, как дурак, и все жду чего-то. Понимаешь, я не могу без тебя, я знаю, что мы должны быть вместе.
– Юрочка, милый… – Наташа смущенно оглянулась.
– Это ничего! – понял Юра. – Здесь у нас проходит половина жизни, здесь мы и встретились, если помнишь… Я был тогда не совсем…
– И сейчас тоже, Юра! – улыбнулась Наташа.
– Не в себе, что ли?
– Нет. Я не знаю, как сказать, но как-то…
Ей трудно было найти точное и не обидное слово, но она видела, что Юра и впрямь как не в себе сейчас. Он непонятно торопился куда-то. Вернее – слишком торопился сказать, словно боясь передумать. Вот что промелькнуло в сознании Наташи. А Юра вдруг увидел в ее лице, в сосредоточенном прищуре глаз что-то от Евы, которой тоже всегда хотелось найти более точное слово. И вот уже сама Ева проглянула сквозь непохожее лицо Наташи, как если бы одно изображение наложилось на другое.
Он растерялся и ненадолго замер в недоумении и словно бы отдалился от девушки на большое расстояние.
– Юра! – позвала его Наташа.
– Я здесь, – опомнился он.
– Да нет, Юра, не здесь! Не здесь! – что-то почувствовала и поняла Наташа. – Ты же меня не видишь.
– Да что ты, Наташа!
– Ты не меня видишь!
Она закрыла лицо руками и отступила, спряталась за Юру, чтобы никто не увидел ее со штабного крылечка, редко пустовавшего. Некоторое время они так и стояли спиной друг к другу. Юра настолько был потрясен внезапной прозорливостью Наташи, что уже окончательно потерял способность говорить. Ему надо было возражать ей, уверять ее, и она в конце концов, возможно, поверила бы, но он не мог возразить против той правды, которую так удивительно, так прозорливо угадала Наташа. Наконец он просто не мог опомниться и растерял всю свою сообразительность и уверенность. Все, что здесь произошло, было непостижимо и непонятно: и то, что вдруг напомнила о себе почти совсем забытая теперь Ева, и еще более то, что Наташа тоже как бы увидела, почувствовала ее присутствие.
– Уйди, Юра, – тихо попросила Наташа.
– Ну ладно, ну… – Юра страдал вместе с нею, но особенно больно было ему оттого, что больно ей. Он попытался приласкать, пожалеть ее, но девушка отстранилась и съежилась от его прикосновения, как от чего-то неприятного. Он тогда повернулся и медленно, понуро, как никогда не хаживал прежде, начал спускаться по дорожке в котлован. Он мало что видел и мало что слышал, и остался как будто совсем один в этом шумливом и людном, знакомом и родном, но сегодня до непонятности странном мире. Опять один…
19
Острогорцев заканчивал очередной трудный разговор с главным механиком стройки.
– Я хочу понять, – говорил он, – почему с участков все время идут жалобы на работу механизмов и механизаторов? У вас не хватает единиц или механизмы слишком быстро выходят из строя? Не справляются ремонтные мастерские или еще что-нибудь?
Сорокапуд почти на все вопросы отвечал одинаково: «И это есть… И это тоже». Потом вспоминал что-то свое и даже радовался новому козырю:
– Кадры механизаторов не всегда на уровне.
– Так учите их!
– Все по сменам расписаны, учить некогда.
– А я вот и работаю и без отдыха учусь постигать своих ближайших помощников. – Острогорцев не скрывал, что и сейчас он стремится постичь кое-что.
– Запчастей не хватает, – вспоминал между тем главный механик свои беды.
– Запаситесь, если не хватает! Впереди еще не один год напряженной работы. Кто вам будет приносить их?
– Вот если бы вы в министерстве…
– Александра Ивановна! – крикнул Острогорцев в полуоткрытую дверь. Дело происходило в управлении стройки под конец дня, когда в приемной уже не могло быть много народу. – Александра Ивановна, заготовьте, пожалуйста, Сорокапуду командировку в Москву – он вам скажет, в какое министерство.
Грузный Сорокапуд растерянно поднялся с маленького для него стула, и стул обрадованно крякнул.
– А если я зря прокатаюсь?
– Подготовьте все свои претензии, все заявки, все раскладки – и бейтесь там на всех уровнях, – наказывал Острогорцев.
– Но вы же знаете, что не всегда…
– Знаю, но езжу и добиваюсь. С богом, как говорится! А через месяц мы направим на вас «Комсомольский прожектор» и высветим все темные уголки – можете не сомневаться…
Сорокапуд вышел, но Острогорцев еще с минуту сидел в боевой позе спорщика, готовый продолжать схватку. Потом несколько расслабился и повернулся к главному инженеру, который добрых полчаса сидел у его стола и ждал. Худой, за все лето почти не загоревший, с болезненно увеличенными подглазьями, он сидел терпеливо и незаметно, не вмешиваясь в разговоры и никак не высказывая своего к ним отношения. Разве что по выражению его немолодых и чаще всего невеселых глаз можно было бы угадать, чьи речи он одобряет, чьи не одобряет. Так же незаметно и тихо он умел сидеть и на совещаниях, летучках, приемах. Если необходимо было высказаться, он говорил чаще всего в совещательной форме: «Не стоит ли нам обратить внимание… Не пора ли подумать… Мне кажется, есть смысл заняться…» Обычно он высказывал дельные и актуальные вещи, но сама эта полувопросительная, не мобилизующая интонация как-то невольно снижала и своевременность и важность его соображений. Почти всегда требовалось, чтобы их услышал и поддержал своим уверенным тоном Острогорцев, и тогда уж все обретало силу закона.
– На что сегодня направлена инженерная мысль? – спросил Острогорцев, немного отдохнув от беседы с Сорокапудом.
– На плотину, Борис Игнатьевич, – отвечал главный. – Не пора ли нам подумать о ее конфигурации?
– О плотине нам всегда полагается думать, Павел Ильич, – проговорил Острогорцев, настраиваясь на спокойную, тихую беседу. Надо же когда-то и просто поговорить, не споря и не уличая, не требуя и не нажимая. Весь этот день был особенно напряженным и горячим. Тут и машина может раскалиться, и даже ей потребуется время на охлаждение.
– Я это к тому, Борис Игнатьевич, – продолжал главный инженер, – что если мы не подровняем ее до паводка…
– Хорошо хоть проезд закрыли. – Острогорцеву все еще не хотелось слишком серьезно вникать в новую проблему.
– Я думаю, есть смысл поговорить с начальниками участков, особенно – второго и третьего, где наметилось отставание.
– Они идут на пределе возможного… А потом – сколько еще до паводка?
– По календарю – много, по состоянию нашей плотины – просто в обрез.
– Успеем, Павел Ильич. Нам бы пока что с сегодняшними печалями разделаться. Одним махом! И лечь спать без хомута на шее.
– Сегодняшние не могут кончиться, пока не начнутся завтрашние, – философски заметил Павел Ильич. – Непрерывность заполненного времени.
– Я бы назвал это деспотизмом текучки… Кто там у нас еще, Александра Ивановна? – крикнул Острогорцев в полуприкрытую дверь.
– Кажется, все прошли…
Александра Ивановна появилась в дверях с этой доброй вестью весьма довольная. Время было позднее. «Все прошли и все разошлись – не пора ли и нам по домам?»– говорила ее добродушная улыбка. Настраивала на завершение дел и тишина управленческих коридоров. Только на первом этаже в диспетчерской кто-то кричал в телефон, еще больше подчеркивая общую тишину.
Острогорцев отогнул широкий рукав своей просторной куртки и, глядя на часы, стал вспоминать:
– Я еще обещал навестить старшего Густова, а в восемь – к ленинградцам. В девять тридцать – встреча со своим домашним коллективом по вопросу о двойке, полученной молодым Острогорцевым… Александра Ивановна, завтра в десять проверьте отправку «рафика» в аэропорт едут новые гости. Когда приедут – позвоните мне в штаб. Заниматься ими будет Мих-Мих… Я загляну сюда в пятнадцать ноль, но никого принимать не буду – разговор с отделом НОТ. Потом еду на гравийный.
Все это время он посматривал на часы, как будто на их циферблате были записаны все его сегодняшние и завтрашние «печали». На самом же деле он не пользовался даже записной книжкой – все держал в памяти. Она была у него редкостной. Он помнил все, что ему предстояло, что у него было намечено сделать, на неделю вперед. Держал в голове сотни лиц, фамилий, множество телефонных номеров, помнил не только тех людей, с которыми работал и часто встречался, но и случайных попутчиков по самолету, и когда-то донимавших его журналистов, и второстепенных служащих министерств и главков, ближних и дальних смежников. Мог назвать все крупные механизмы, задействованные сейчас на стройке и номера блоков, находившихся в работе. В любой день мог сказать, сколько на сегодня уложено в плотину бетона или сколько осталось до конца года неосвоенных денег. Если он сказал кому-то: «Через неделю доложить» или «Через три дня проверю», – можно было не сомневаться, что в положенный срок он все вспомнит. Конечно, он не забывал ни об одной назначенной встрече ни об одном обещании.
Некоторые называли его память феноменальной, однако сам он считал ее нормальной рабочей памятью руководителя. Если ее не имеешь, нельзя и соглашаться на подобную работу, как нельзя, к примеру, заике быть командиром пожарной дружины. Руководителю крупного объекта вообще полагалось иметь определенный набор личных качеств, в числе которых у Острогорцева значились и цепкая память, и широкая осведомленность, и быстрая (без опрометчивости и суеты) реакция, и незлобивый характер, и даже отсутствие художественных наклонностей. Последнее часто вызывало возражения. Ему говорили, к примеру, что один высокий руководитель играл в свободное время на скрипке. «А что этот человек построил?» – спрашивал Острогорцев. Ему говорили о зодчих Возрождения. «Не путайте эпохи! – возражал он. – Тогда было время универсалов, сегодня – узких специалистов. „Никто не обнимет необъятного“ – утверждал Козьма Петрович Прутков».
Рабочий день Острогорцева начинался с утренней летучки, на которой нередко определялись и дальнейшие его занятия. Вдруг где-то требовалось непременное его участие, и он шел или ехал на объект. Там возникало еще что-то новое – начиналась цепная реакция. Всем казалось, что при любой заминке надо обращаться к высшему начальству, обо всякой мелочи докладывать ему же и ждать его решения. Нередко, рассердившись, он отсылал руководителей-просителей… к самим себе. «Вы зачем поставлены на свой пост? Докладывать о неполадках и трудностях или руководить делом и преодолевать трудности?» Но тут же, конечно, во все встревал, всем «возникшим» занимался, а если уж в чем-то лично поучаствовал, то и потом не забывал поинтересоваться, как же там идут, как продолжаются дела…
– До паводка нам, Павел Ильич, предстоит еще пуск первого агрегата, – не забыл он и о прервавшейся теме разговора с главным инженером. – А при зубчатой плотине мы не наберем нужного для пуска объема водохранилища. Так что конфигурацией плотины действительно – с вашей помощью! – надо будет заняться. Что еще?
– Я не могу сказать, что это уже все, но на сегодня пора и честь знать, – проговорил Павел Ильич.
– А противопаводковые меры начинайте разрабатывать вместе с Проворовым. – Острогорцев впервые за все это время улыбнулся. – Он как начальник УОС, а также как наш постоянный критик должен лишний раз почувствовать и свою личную ответственность за свою родную плотину.
– Он вообще-то болеет за нее…
– А кто не болеет?.. Александра Ивановна, посмотрите-ка там в своем «колдуне» номер квартиры Николая Васильевича Густова. Дом помню, что пятый этаж – помню, а квартиру не помню.
Александра Ивановна тут же сообщила, даже, пожалуй, не заглядывая в свой справочник.
Острогорцев уже стоял у двери.
– До завтра! – попрощался он.
На улице он не отметил никаких особенных перемен в своем настроении или состоянии, не «вдохнул жадно свежего воздуха», как пишется иногда в книгах, – у него ведь просто продолжалась работа. А где она продолжается – в штабе или на плотине, в рыскающем по объектам «газике» или на заседании парткома, – это для него практически не имело значения. Сейчас он готовился к встрече с Густовым и думал о нем. Вспомнил в общих чертах его биографию и какая у него семья. Все вспомнил! И то, что Густов на фронте был сапером, и что второй его сын работает в управлении механизации газосварщиком, а жена преподает в школе немецкий, вспомнил и все «гэсы», на которых раньше работал Густов, и по значению тех строек произвел определенную коррекцию значительности самого этого человека, руководствуясь таким соображением: «Скажи мне, что ты строил, и я скажу, кто ты». Даже про «Запорожец», приспособленный для зимней рыбалки, вспомнилось Борису Игнатьевичу, хотя он и не видел этой машины, а только слышал о ней от кого-то. И что-то доходило до его слуха насчет дочери Густовых, не то разведенной, не то брошенной.
Разумеется, он не собирал специально сведения о Густове, но они накопились исподволь в его натренированной памяти и теперь, в нужный момент, вспоминались, выстраивались в определенный ряд.
«Запоминающее устройство» Острогорцева выдало ему и, так сказать, негативную информацию о старшем Густове: ведь это же он наговорил столичному журналисту много лишнего и неприятного для начальника стройки. После той публикации уже звонили из министерства и требовали отреагировать на выступление печати. Придется сочинять ответ. А что в нем напишешь? Как отреагируешь? Отменишь необходимые и неизбежные на врезке взрывы или, может быть, перенесешь здание ГЭС в другое место? Одно только можно сообщить с удовлетворением: после статьи (только не из-за нее, конечно) вышел на полную мощность бетонный завод, большой бетонный завод, и наконец-то решилась одна из главных проблем стройки. Теперь бы побольше народу на бетон!.. В ответе редакции стоит написать и насчет неотлаженных кранов-«тысячников» – пусть напечатают и это! Пусть прочитают на заводе – может, кое-кому икнется. Пусть везде думают о необходимости сочетать трудносочетаемое: сроки и качество!
Надо сказать, что такого правила – навещать больных – у Острогорцева заведено не было: он и времени лишнего не имел, и не считал это обязательным. Его интересовали прежде всего те люди, которые находились в данный момент на объектах. Он и сегодня не пошел бы, не появись у него в штабном кабинете, что-то около двенадцати, Густов-младший. Сам Острогорцев разговаривал с приехавшими ленинградцами – с Металлического завода и «Электросилы», но молодого Густова заметил. Видел, как он вошел, видел, как его остановил дежурный инженер («Борис Игнатьевич занят!»), видел, как легко и непринужденно прошел Юра эту заставу. Тут уже пришлось заинтересоваться: что там стряслось? Человек с плотины в неурочное время и без вызова – это уже тревожно. Пришлось извиниться перед гостями и подозвать парня к себе.
– Я насчет отца, Борис Игнатьевич, – сказал Юра, становясь так, чтобы отгородить своей широкой спиной остальных собеседников.
– А что с ним?
– Болеет он.
– Да, я слышал. Но не тяжело?
– Переживает он сильно.
– Больные все переживают.
Наверно, тут надо бы проявить побольше сочувствия, но все предшествующие разговоры, начиная с летучки, велись динамично и деловито, и этот диалог с Юрой, как бы по инерции, начался в том же стиле.
– Вы не могли бы навестить его? – не стал больше тянуть и Юра. – Это было бы для него очень полезно. В смысле морального состояния.
Тут пришлось призадуматься. Внешне это могло выглядеть как прикидка времени визита, поиски подходящего «окна» в жестком регламенте начальника стройки, но на самом-то деле именно тогда впервые подумалось: «Мог бы догадаться и сам, товарищ начальник!»
– Ты заходи ко мне в половине шестого – вместе и поедем, – сказал Юре, вспомнив, что от шести до восьми вечера он свободен.
Но у парня были еще и свои соображения.
– Вообще-то лучше бы без меня, Борис Игнатьевич, – сказал он. – А то отец сразу поймет, что это я… организовал.
– Все продумал!
– Так полагается, когда идешь к начальству.
– Хорошо, ждите меня вечерком, от семи до восьми. На водку не траться – пить не буду…
И вот он шел теперь к Густовым.

Открыла ему хозяйка – Зоя Сергеевна. В прихожей он увидел удочки и спиннинг, и этим определился первый вопрос к больному: