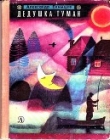Текст книги "Охотники за сказками"
Автор книги: Иван Симонов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Мужской разговор
Степан Осипов посмеивается в жиденькую бородку над басовитым голосом Васька.
– Как же вы его поймали?
– Так и поймали!
– И крючок не оборвал?
– Оборви, попробуй! Леска-то в девять волос сплетена.
– А если бы сам в ней запутался?
– «Если бы…» – густо хмыкает Васек. – А зачем это? Запутываться-то?
У Степана больше нет вопросов. Зато у Васька находятся.
– Какая пара у вас ближнюю полосу на лесосеке подваливает? – спросил Степана.
– А ты и лесом интересуешься? – напускным тоном подивился Осипов. – Дотошный сторожонок. Выходит, на все руки мастер?
– Чай, в лесу живем, – нехотя объяснил Васек, уловив поддельную веселость пожилого лесоруба. – Кто же на этой полосе работает?
– Должно быть, нужны они тебе? – подтравливает паренька, упрямится с ответом Осипов.
– Поговорить надо.
– Если надо, чего же не поговорить! Давай потолкуем на сон грядущий, – снисходительно соглашается пильщик, чуть заметно поводя глазом на стороны.
Гуляев, подмостив под голову затасканный пиджак, после сытного обеда горло дымом прочищает, загибистую самокрутку палит. Сергей Зинцов посуду перемывать мне помогает. Никифор Данилович, прикорнув на любимом пеньке, носом в землю клюет.
– Значит, ваша полоса вдоль сосновой крепи идет? – сообразил «сторожонок».
– Пожалуй, так и есть. Чего тебе наша полоса поглянулась? За брусникой, что ли, прийти собираешься?
– Пни там высокие оставлены, – угнув голову, исподлобья глянул на Степана Васек.
– А что за беда, – по-старому в шутку над малышом оборачивает разговор насмешливый Осипов. – Где не перешагнешь, там перепрыгнуть можно.
Гуляев ворочается неловко на шишковатой постели, подкашливает понимающе, подбадривает напарника. «Валяй, мол, и дальше в том же духе».
Мы с Ленькой еще не догадываемся, что к чему, а Васек неробко насмешливому Степану замечание делает:
– Срезать их надо!
– Пеньки-то срезать?
Осипов и животиком подтряхивает, и головой забавно крутит, будто очень смешное и несуразное услышал. Гуляев со стороны ехидно подхихикивает.
– Ему чурочки для бабки нужны. Печку растоплять понадобились.
– Чего, чего? – встряхнувшись, поднял голову придремнувший Никифор Данилович. Тихий Вовка испуганно таращит из-за его спины большие, навыкате, глаза.
– Вишь ты, какие штуки удумываешь. Слышь, вместо деревьев он пеньки на делянке приглаживать заставляет, – вместо Осипова Гуляев берется сбить парнишку с толку.
– Не все пеньки! Только те надо срезать, которые высокие, – не поддается Васек. – По ближнему краю они, вдоль сосняка торчат.
Степаны на пару и ну Васька просмеивать, и бабку его туда же прихватили. Она, мол, старая, чего в лесном деле понимает? Ничего не понимает! На делянке, слышь, все по правилам сделано, комар носу не подточит.
– Вот так, сторожонок! – мотнул длинной шеей Ваську Гуляев и снова повалился набок, давая понять, что разговор окончен.
Нам с Ленькой за приятеля обидно. Он серьезно про дело спрашивает, а ему шуточки подстраивают. «Разве можно так с гостями обращаться?»
Ленька Зинцов сердитую губу покусывает, и меня на Степанов зло разбирает. Сказал бы словцо, да со старшими спорить не положено. Тяну Васька к себе за рукав.
– Не связывайся с ними.
– Подожди, – высвобождает он рукав. И бас становится таким спокойным, таким уверенным, что низенький паренек на наших глазах будто сразу в мужчину вырастает. И развеселившиеся поначалу Степаны перестают над ним потешаться, как над мальчиком. Вот когда солидный бас лесному пареньку к делу пригодился! Не ровесник мой Васек, с которым недавно на шатком плоту по озеру катались, загаданного окуня добывали – стоит между двумя Степанами знающий свое дело строгий лесник, Василий Кознов.
– Нет, не так! – отвечает он Гуляеву. – А бабка не ошибается. Бабка до сотни считать умеет. Восемьдесят три пенька вам срезать надо. Они по торцу углем помечены, на каждом черный крестик поставлен. Не срежете – деньги за работу не получите.
– Это так. Тут ничего не попишешь. Лесник сообщит – не выдадут, – подтверждает дедушка, внимательно осматривая Васька. «Этот умеет за дело постоять!»
Как ни брыкались Степаны, как ни старались зубы заговаривать, а пришлось с бабушкиным помощником согласиться.
– Ладно, спилим, где крестиками помечено, – буркнул Осипов. – Только пользы от этого никакой не получится.
– Как же не получится! – ухватился Васек. – Дров для фабрики еще две сажени будет. Другие деревья не надо трогать, пусть растут. И без того весь лес проредили. Бабушка говорит: деревья так надо спиливать, чтобы оставшиеся пеньки под полозьями саней проскальзывали, до нащепов не доставали. Она по этой мерке делянки принимать научена.
Увлекшись разговором о лесе, Васек и не замечает, что целую лекцию для лесорубов читает. Оказывается, что и вершинки надо до самого конца на дрова распиливать, а не отбрасывать их в сторону, чтобы разные вредители в них заводились. И толстые сучья, если не пилой пилить, тогда топором рубить, в поленницы укладывать. Остатки побыстрее в большие кучи собирать, да сжигать, пока дожди не нагрянули.
И уже никто на рассудительные слова лесного паренька не улыбается, признают в нем настоящего лесного хозяина. И я, пристроившись сбочку серьезного приятеля, начинаю взрослее себя чувствовать.
– Никифор Данилович, – на прощанье обратился Васек к дедушке, – бабушка просила тебе передать, чтобы ты сам за порядком на делянке приглянул.
– Пригляну, Василий, обязательно пригляну! Скажи Нениле Макаровне, что порядок наведем настоящий, пусть она не беспокоится.
Ближняя быль
Степаны расстроены случившимся. Подрезать пеньки на делянке – четыре сажени в день не нашаркаешь. Четыре сажени в день – эту норму они себе за обязательное положили. Бывает, и пятую сажень «ребятишкам на молочишко» прихватывают. А тут: на тебе! По меньшей мере день потерять придется. По шести рублей на брата недобор получится. Не послушаться – можно больше потерять. И так, и этак прикидывают, пересчитывают на разные лады: куда ни кинь – все клин, недочет в деньгах получается.
– Черт его подсунул не вовремя! – вслух сердает Гуляев, забыв, какая вкусная была уха. – Еще неделька – все бы шито-крыто. Деньги в карман – и погуливай по базару. Пусть вместе со своей бабкой до зимы пеньки бы подрезали.
– А ты сразу делай, чтобы второй раз не переделывать, – замечает Сергей Зинцов. – Как ни ловчи, всех денег никогда не загребешь!
– Всех не загребешь, – соглашается Гуляев, – а побольше ухватить все-таки надо. Я, ведь, Сергей Егорович, беспартейнай, – с показной неуклюжестью выковыривает он словцо. – Беспартийным простительно. Твое дело – тут надо образец показывать! А в сельсовет работать-то не пошел. Вот и образец!
– Там и Сашуха Кулагин неплохо управляется. Он из пулеметчиков-то без ноги вернулся. Ему податься некуда. А я и с пилой могу. Березовиньких, сухих зимой на фабрику подбросим! – озорно подмигнул Леньке.
– Думаешь обеспечить? – усомнился Гуляев.
– Помогу, сколько сможется.
– Разве в партию для того вступают, чтобы дрова пилить? А я думал, чтобы с портфелем ходить, ответственный паек получать, – язвит Гуляев, изображая придурковатость.
– Несытому Фоме все кисель на уме, – поеживаясь от надвигающейся вечерней свежести, словно сам с собой разговаривает дедушка Дружков, подбрасывая в потухающий костер мелкие сучья. Костер вспыхивает на минуту, мигает по сторонам синевато-красными отблесками, и снова подергивается серым пеплом.
Приклонившись головами друг к другу, сидим с Ленькой на моховом купыре, перешептываемся потихоньку, ждем, какими словами будет Сергей отвечать. Про карьеристов, пробравшихся в начальники, про жирные ответственные пайки, про старые ботинки в служебных портфелях мы не раз слыхали, если какой спор затеется. А Сергей – бывший моряк, коммунистом в партии состоит. Его даже на председателя сельского совета выдвигали, а он за Кулагина стал голосовать. Сергей – правильный коммунисг, мы с Ленькой это хорошо знаем. Потому и не терпится услышать, что он Гуляеву будет отвечать. А Сергей только будто рассердился немножко и спрашивает Гуляева:
– Деньги любишь?
– Хо! Кто их не любил?! За деньги отца родного продадут! Хорошо, что его у меня нет. А то бы… чем черт не шутит, пока бог спит!
И замотал головой на вихляющейся тонкой шее, заерзал беспокойно, будто неудобное чего под сиденье попало.
– Да я-то что! – спохватился. – Я кожаный портфель не ношу, парадом не командую.
– И не надо, – согласился Сергей. – От этого большой беды не случится. А карьеристы, любители красного портфеля да сладкого пайка, – это еще не коммунисты. Их не жнут, не сеют – сами из земли вылезают. Выпалывать придется. Только не на них, Степан Иваныч, свет держится. Кому-кому, а тебе на сей счет разъяснений не требуется. Верно я говорю, Степан Иваныч?
Тут уж и хотел бы вывернуться, чтобы при своем интересе остаться, да податься некуда. Пришлось крякнуть и согласиться нехотя:
– С этой стороны верно.
– А с другой стороны, – улучил момент приумолкший на время трудного спора Осипов, – пойдем, значит, завтра пораньше делянку подчищать, пеньки убирать.
Нам с Ленькой любо. Рады за Сергея, что он задористого Гуляева спокойненько утихомирил, все его нарядные слова и побасенки по полочкам разложил.
«Нам бы так научиться!» – завидую.
– Завтра опять на плоту за окунями? – шепчет Ленька.
И пускай себе шепчет. Скоро под одно одеяло заберемся, успеем наговориться.
А Ленька никак вести себя не умеет. Размахнулся, кокнул мне в голову своим железным затылком.
– Слышишь, чего спрашиваю?!
«На голове, наверно, шишка вскочит», – ощупываю пальцами.
– Какое тебе дело, поедем или не поедем!
– Фу, какие телячьи нежности! Посторонись, не дотронись до него!.. Бабка Ненила сердитая?
– Не видал!
Я правду сказал, а Ленька думает, что обиделся, отвечать ему не желаю. Отодвигается от меня подальше, а своего все-таки добивается.
– Дедушка Никифор, – спрашивает почтительно и громко, – сторожиха здешняя сердитая?
– Язва первостатейная! – заместо деда отозвался Гуляев. И пошел, пошел и бабушке, и внуку косточки перемывать! Заглазно-то, да без помехи, оно просторно получается. Гуляеву поверить, так сторожиха на Лосьем и злыдня большеглазая, каких свет не видал, и длинный нос сует, где ее не спрашивают, и сплетнями вместо дела занимается, и еще мало ли чего другого под горячую руку можно наговорить.
– А ты ее, Ненилу Макаровну-то, знаешь, что ли? – нахмурил дедушка кустистые брови. – Вот то-то и оно, что не знаешь! Если бы знал, тогда язык-то понапрасну бы не распускал.
Распетушившийся Гуляев на полуслове осекся – не ожидал такого оборота. Есть, значит, люди, которые и о посторонних не забывают, не дают болтливым языкам напраслину взводить.
– Ты, наверно, в чьей землянке-то спать ложишься – и того не знаешь? – осудительно замечает дедушка.
Озадаченный Гуляев в недоумении только белые волоски пощипывает на том месте, где у мужиков борода растет, а у Степана и под сорок лет лишь пушинки пробиваются.
– И зачем она здесь, в бездорожной глуши, поставлена – тоже не ведаешь. Если бы знал, насчет длинного языка бы помолчал.
Степан Иваныч помалкивает, и ухом не ведет, а меня на дедушкины слова интерес разбирает. На жилье от костра поглядываю.
Землянка как землянка. Низенькая, тесная. Кто в крышу головой стукнет – песок струйками осыпается. А по дедушкиным намекам – есть в ней что-то необычное, памятное.
– Правда, зачем ее здесь поставили? – спросил я.
– Подожди, послушаем.
Отгрудив назад свисающие волосы, Никифор Данилович высвобождает левое ухо и, нарастив его широкой изогнутой ладонью, чутко прислушивается.
Вдалеке, приглушенные расстоянием и немолчным гудением бора, будто медные трубы гудят беспокойно и раскатисто. Между труб мычание слышится. Изредка доносится звук тяжелого шлепания по мягкому, словно кто Сердитый деревянной лопатой непослушную грядку охлапывает.
– Ямы бьют, – замечает дедушка. – Лосиный рев начинается. Теперь, брат, с ними не балуй, не пугай из-за куста для забавы, чтобы взапятки посмотреть, быстро ли они бегают. Понятно вам? – обводит глазами троих молодых, встряхивает свободной рукой задремавшего внука. – Рассердишь – сразу сомнет, под копытами и пикнуть не успеешь!
– А я пугнул, – признается Ленька. – Вчера прямо на делянке к нам вышел. Рожищи – во! – на полной высоте закруглил над головой приподнятые руки. – Убежал!
– Смотри, парень, с твоей удалью беды бы не случилось! Уж больно ты дотошный до всякой всячины.
– Так уж получается, – передернув плечами, виноватит себя Ленька. – Где бы чего не надо, а хочется.
– Не забыл, как гороховую кашу едят? – прищурил дедушка смеющиеся серые глаза.
– В точности помню! – обрадовался Ленька. Мотнул головой, как тогда, когда за дедушкиной рукой по кругу бегал. – Я и Коську выучу! – пригрозил. Пошел распространяться, будто кому слушать интересно.
Проверив по Вовке, не поздновато ли долгий рассказ начинать, не пора ли на жердяные нары забираться, решил в мою пользу.
– Рыбачок здесь жил. Так и звали его: «Рыбачок» да «Рыбачок»… И ты, Степан Иваныч, послушай, – оборотился к Гуляеву. Глядишь, Ненилу Макаровну лучше будешь знать. Напраслину-то взводить постесняешься… Рыбачок, значит, его звали. Незадолго перед войной, году, этак, в двенадцатом… Точно в двенадцатом. Тогда градобой был сильный. Все хлеба еще зелеными повалило. Так в землю и втолчило – не поднялись. Четыре овцы в стаде градом насмерть заколотило.
– Я в этом году родился, – похвалился Ленька.
– Ну, этого, окромя отца с матерью, никто не приметил, – отговорился дедушка. – Разве вот он еще помнит, – указал на Сергея, – какого неугомонного вынянчивал.
– Вскоре после градобития он и заявился, Рыбачок-то. Под вечер дело было, на воскресный день. Парни по улице с тальянкой ходят, приговорки горланят на все три порядка. А он стоит у крайней избы, где теперь кузнец построился, а тогда Дарьи Гореловой маленький домишко топырился, в окно к ней стучится. «Пустите, говорит, ночле-щика. Заночевал бы в лугах, да спина заболела, ломит невтерпеж». Сам длинный, худой, голос глуховатый такой. На ногах штиблетишки изорванные. И все покашливает в кулак.
Дарья – баба одинокая, мужика в дом пустить побоялась. Мало ли чего в ночную пору бывает!
«Поди, говорит, лучше в баню, она нынче натоплена. В бане и переспишь до утра».
А ночью мимо Дарьиной избенки наш староста деревенский, Семен Гуреев – будь он неладен на том свете! – на тарантасе в город прокатил. На обратном пути за ним повозка с полицейским подъехала.
Сразу к бане лошадей подворачивают.
– Открывай!
А дверь в предбанник изнутри на крючок заложена. Грох, грох кулаками в стену.
– Не откроешь – с косяками вышибем! – кричат. Староста похитрее. Староста не раз в переплет мужикам попадался. Он кулаками в стенку не колотит, а прилепился с суковатой палкой возле оконца, следит, чтобы ночной посетитель на улицу не выпрыгнул.
У предбанника дверь выломали, а другая – в баню – тоже накрепко заперта. Ее принялись кто топором, кто шашкой ковырять.
«Врешь, мол, не уйдешь! Все равно мы до тебя доберемся. Гром на всю деревню подняли – хоть святых выноси.
Староста вдруг и заприметь от оконца, что над озером под ивами кто-то в луга уходит, торопится. Шумнул полицейским, и ну вдогон. Настичь-то настигли, только не того, кого искали. Это парень с девушкой по лугам-то провожались. Наши деревенские.
Пришлось вторую дверь в бане доламывать. Заскочили – а там ни единой живой души. И оконце настежь распахнуто, поскрипывает на ветру ржавыми петлями.
Да, разные случаи бывали. Бывало, что и мужикам от полиции попадало, бывало, что и она от мужиков по задворкам пряталась. На этот раз вместе со старостой в дураках осталась.
Если человек не вор, не грабитель какой, да за ним полиция гоняется – тому в нашей деревне всегда приют давали, уважение оказывали. И прохожего этого после много раз то в лугах, то на озерах видали. Хлебом, табачком иногда угостят – не отказывался. Про городскую жизнь с ним разговаривают, интересуются, что в газетах пишут, а назвать его не знают как. Без имени, без отчества обойтись никак нельзя.
«Хоть для близиру сказали бы, как называть вас следует», – попросит кто. А он скажет: «Рыбачком меня зовут. Хожу с удочками, вот и Рыбачок».
Засмеется, закашляется. Так предупреждает: «Если кто в полиции захочет поинтересоваться – тоже не разберется, только запутается в бумагах. Там у меня разных имен и фамилий не перечесть. А уж если без имени, без отечества обойтись нельзя – зовите Иван Петрович».
Долго его полиция искала. И в деревню много раз наведывалась. Все, видать, ей узнать хотелось, не скрывает ли Рыбачка кто-то из наших мужиков.
– С тобой, ведь тоже, помнится, был деловой разговор по душам? – повернулся дедушка к Степану Осипову.
– Был. Доискивались, где я его видел последний раз, – подтвердил Осипов. – А я всего-то один раз с ним повстречался. Теперь признаться можно. Тогда не сказал.
– А он коммунист был, Рыбачок-то? – осенило Леньку.
– Кто его знает. Может, и коммунист. Об этом его никогда не спрашивали, и сам он не заикался. Думается, что коммунист. За кем же другим, если не за коммунистом, так гоняться бы стали! Как дум'аешь, Сергей – коммунист он был. Рыбачок-то? Чего молчишь, будто в рот воды набрал? – Тебе-то он, может быть, сказывал?
– Да, – оторвавшись от какого-то раздумья, негромко сказал Сергей. Помолчал, разглядывая присохшие мозоли на ладонях, уверенно добавил – Коммунист. Член коммунистической партии. Сюда его послали место подыскать, где можно листки печатать. Так и мне говорил, когда я к нему в Перелетную рощу бегал.
– И не боялся, что в тюрьму могут засадить? – подивился Осипов.
– Боялся ли, это ему знать. А беспокоился. Предупреждал меня: «В случае чего, не поленись, в Марьинку сбегай, там Гришаеву сообщи, что меня здесь нет. Больше ничего не надо. Он знает, куда передать следует».
– Значит, не ты первый коммунист, который эту землянку обживает, – определил дедушка последовательность. – Он, Рыбачок, был здесь первым. Не пойму только, почему он и от ищеек скрывался, и от своих тоже прятался.
– Партия-то в России запретной была, – нащупывает дорожку для объяснения Сергей. – Время такое. И себя уберечь надо, и других чтобы не подводить. В книжках о коммунистах-подпольщиках только теперь свободно стали рассказывать. И как они под чужими фамилиями жили, и где скрывались, и какие листовки печатали – все известно.
– И Рыбачок из наших-то лугов тоже вот сюда перебрался, – указал Никифор Данилович на землянку. – Над Лосьим озером целую осень и зиму прожил. Ненила, сторожиха, тогда в силе была. Землянку эту соорудить ему помогала, печурку железную притащила. Нет поблизости чужих людей – ив сторожку обогреться приглашала. Удобства большого хотя и нет, зато в лесу спокойнее. А Нениле он, как самому себе, верил. У нее в избушке с товарищами встречался. Ну, и с питанием, само собой, здесь надежнее. Ненила ничего не жалела, ни за что денег не спрашивала. Станет предлагать – разругает его. По весне в город отправлялся – попрощаться зашел.
– Может, жив?! – вздохнул Сергей. – Посмотреть бы нынче на старого знакомого! Перелетную рощу припомнить. Не узнает, – сказал с сомнением. – Тогда я, наверно, не больше Коськи был… Нет, не больше. Про Лосье-то озеро сказать он мне не доверил.
– Здесь находился, – подтвердил дедушка. – Может, жив еще. Лет через семь после ухода Нениле перевод прислал. «От постояльца на корову» написано. И письмо коротенькое. Оно и сейчас там хранится, – головой мотнул дедушка в сторону, где должна стоять сторожка.
– Так что сторожиха-то свое дело знает, умеет, когда надо, язык за зубами держать, – напомнил Гуляеву. – И тебе пора бы ее получше знать, не городить про нее чепуху.
Никто дедушке не возражал, на его упрек не сердился.
А я ночью видел Рыбачка. Собирает над озером сухой хворост. Греет ноги в сырых носках возле раскаленной железной печки. На столике, сколоченном из двух сосновых досок, пишет, пишет какие-то бумаги, которые где-то очень нужны и следует поскорее их по назначению отправить.
А сверху, чуть заденет головой, осыпается мелкий песок, набивается за ворот рубахи, присыпает тонким слоем написанное на бумаге.
Бабка Ненила, веселая, в новом синем платье, с белым горошком, в белом платке, повязанном под узелок, зовет нетерпеливо, машет легкой рукой через озеро: «Хватит, хватит тебе в промозглой землянке мерзнуть! Иди обсушись, обогрейся у нас в сторожке. Там в гости к тебе товарищи понаехали».
«Я спать ложился. Снится мне это», – доказываю сам себе.
И снова вижу железную печку, раскаленную докрасна, склоненную над самодельным столом худую спину Рыбачка. Лица не видно.