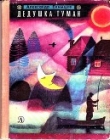Текст книги "Охотники за сказками"
Автор книги: Иван Симонов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Похохотали мы и над Павкой, и над Костей, и над «королевой». А местами поменялись – они над нами смеялись.
И не только смеялись. Научились мы в этот день визирку лесом вести. Научились вешки выверять и ставить, чтобы одна за другой словно по струнке вытягивались. Длинный железный зонд из разборных колен на пять, на восемь метров в болото загоняли, из глубины земли в закрывающемся желобке пробы почв вынимали. Не только Дмитрий Слепов, и мы видели в этот день землю «на три сажени в глубину» и даже дальше. Где торф кончается и серый песок начинается, узнавали; говоря словами геодезиста – почву зондировали.
До конца дня мы с визировщиками и болотным учителем не расставались. И Надежда Григорьевна, шагая вместе с нами по хлюпкой топи, все расспрашивала Слепова, где находятся землянки, которые он видел и о которых только лесным жителям известно. Давно ли эти землянки существуют, какими ходами между собой сообщаются и как к ним пробраться можно.
И угадывали мы в расспросах учительницы замысел на новый поход. Жалели, что времени мало остается.
Уже близились к концу три недели – срок, который нам дали родные. Пора было деду Савелу после Павкиной болезни показаться, да и домой возвращаться.
«На муромской дорожке»
Что, кажись, тут особенного: встретились, расстались – и продолжай каждый идти своей дорогой. И все-таки, чувствуем, грустно нам расставаться с Тумановым, с Максимы-чем, с бабкой Васеной – со всем лесным поселком. Хотелось перед уходом с Белояра и школу посмотреть, в которой будут учиться Нина и Боря Королевы.
С пробежки от дома лесного инженера до нового здания школы и началось утро следующего дня.
«Королева» не побежала. Она шагом пошла следом за нами вместе с Надеждой Григорьевной, и мы первыми распахнули новенькую, покрашенную желтой краской дверь в коридор.
Я первым догадался пробежать вдоль всего коридора от двери до широкого переплетчатого окна на противоположном конце.
– Нинка, мы обновили вашу школу! – забывая, что вместе с ней идет и Надежда Григорьевна, крикнул я, лишь «королева» приотворила дверь.
Учительница, заметив, что я и сам уже спохватился, на этот раз оставила без замечания мое «неуважительное обращение к девочке».
Школа была точно такая же, как и наша – зеленодольская, только новенькая. Две высокие двери направо – это классы. Не заглядывая в них, можно увидеть, что в каждом сложена печка, потому что кирпичная кладка вровень со стенкой выведена. Налево три двери поменьше – это кухня, комната для «технички» и квартира учительницы.
В коридоре нет еще ни часов, ни плакатов, но я представляю все в точности, как это расположено в нашей школе. Вот здесь, думается, будут висеть часы с двумя большими гирьками на медных цепочках. Здесь плакат: «Ученье – свет, неученье – тьма». Здесь впервые накануне праздника повесят красное полотнище: «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!» Потом на нем, немножно полинявшем, будет написано: «Да здравствует 1 Мая!» Здесь в рамочке за стеклом будут выписаны фамилии первых учеников школы и среди них наших друзей – двоих Королевых.
Приятно так думать.
В классах – географические карты и картины. Черные, покрытые лаком парты расставлены в три ряда. Интересно, за которыми будут сидеть Боря и Нина? У меня – рядом с печкой, третья в первом ряду.
«Обязательно нужно сказать Боре, чтобы он нам написал все подробно, когда начнется учеба», – думаю я.
– Хорошая школа, – говорит Костя Беленький.
– Замечательная! – подхватывает Ленька.
– Теперь вам только учительницу, чтобы хорошо учила, – высказываю я свое пожелание Нине и смотрю на Надежду Григорьевну.
Она поглядела на меня такими добрыми глазами, что мне захотелось обязательно поближе к ней придвинуться. А Надежда Григорьевна положила мне руку на голову и сказала:
– И учиться тоже хорошо надо.
Задумчиво так сказала, и обратно от школы шла тоже задумчивая.
Василия Петровича дома мы не застали. Воспользовавшись тем, что остался один, он впервые нарушил предписанный бабкой Васеной постельный режим.
Нашли мы лесного инженера на берегу Белояра. Сидит Василий Петрович, опершись на трухлявый замшелый пень, глядит мечтательно на противоположный берег, в тот край, где должна быть наша деревня.
– Скучно, надоело в комнате, – сказал он несмело, будто попросил: «Вы уж меня не ругайте, дайте здесь посидеть немножко».
Надежда Григорьевна вскинула глазами, покачала головой и, ничего не сказав, тоже присела неподалеку от Туманова.
– Рассаживайтесь на травке, – обратилась она к нам. Не знаю почему, но только слегка показалось мне, что Надежде Григорьевне хочется так вот, тихо чтобы, подольше с нами побыть. Редко бывала наша учительница такой вот задумчивой. А сейчас, похоже, ей даже грустно было немножко.
Спокойно, без толкотни, разместились мы на траве вокруг учительницы. И никто ни слова.
В наступившей тишине, сам не знаю почему, вдруг отчетливо встал передо мной другой день, когда провожали мы старшего брата учиться в город, в семилетку. Отец пригладил волосы, поправил выбившуюся из-под пояса рубашку, внушительно и спокойно сказал: «Садитесь».
Так же тихо присела вся семья. И я не дышал, глядя на старшего брата, который вдруг будто вырос в моих глазах.
– Ну, счастливо! – сказал отец.
Так прощался я с братом, расставаясь с ним на небывалый еще в нашей жизни долгий срок.
Что-то подобное торжественности той минуты почувствовал я и сейчас, неторопливо присаживаясь на траву. По этому сравнению невольно явилась и мысль: «С кем же из родных или близких сегодня расстаемся?»
Я смотрел на Надежду Григорьевну с каким-то особенным, непонятным волнением. Должно быть, так же в тот памятный день мой старший брат глядел на притихшую, молчаливую мать, напутствующую его на большое и доброе дело.
– Так вот вы где? От меня не спрячетесь! – густым басом громыхнуло позади, заставив всех нас вздрогнуть от неожиданности.
Мы оглянулись. За спиной лесного инженера, расплываясь в широченной улыбке от удовольствия, что удалось подойти незаметно и так ловко «встряхнуть» нас, стоял Максимыч. Но какой Максимыч!
Он был совсем не похож на того, лесного, что с мальчишеской ухваткой и медвежьей силой таскал тяжелые ящики с жестяными воронками.
Сейчас пройди Максимыч, не оглядываясь и не давая о себе знать, поблизости от нас – ни за что не признать бы знакомого бригадира. Рыжей колючей бороды как не бывало. Вместо старого засаленного пиджака на нем был совершенно новенький, с морщинками от долгого лежанья в сундуке серый костюм в полоску, который и на могучей коренастой фигуре бригадира держался немножко свободно. Видно, добрый, старинной русской закваски работал над ним портной: больше всего боялся, как бы не обузить, не окоротить дорогую вещь. И получилась одежина, как говорится, «дорого, да мило». Максимыч чувствует себя в нем свободно, как в шубе. Только клетчатый галстук под белым воротником рубашки связывает широкие и непринужденные движения бригадира, туго затянутым узлом напоминает о праздничном костюме.
– Что присмирели? Припекло на солнышке? – гудит он, выискивая местечко поудобнее. – Песню бы, что ли, грянули. Ну-ка, поднимай «На муромской дорожке»!
Уже присаживаясь, он замечает Надежду Григорьевну и умолкает стыдливо, как школьник, который расшумелся, раскричался во время перемены и вдруг увидел рядом с собой учителя.
Школьник в этом случае немедленно утихает и старается затеряться среди товарищей. А Максимычу среди нас затеряться невозможно, потому он смущенно, громко говорит:
– Здравствуйте!
Здравствуйте! – отвечает наша учительница и протягивает Максимычу свою маленькую руку. – Хорошая это песня, «На муромской дорожке», старинная. Вы знаете ее?
А кто ее не знает? – удивляется Максимыч, оглядываясь на Туманова. – Раньше в деревне как запоют под гармошку, не только девки и парни – ребятишки и те подтягивали.
– Спойте, пожалуйста, – просит Надежда Григорьевна.
Максимыч заметно колеблется. Теперь он и сам не рад, что так неосмотрительно и неловко, с бухты-барахты, себя в песельники произвел. Вот теперь и расхлебывай: и гостью обидеть неудобно, и запеть смелости не наберется.
– Разве все вместе, – нехотя поддается он.
– Давайте вместе, – соглашается Надежда Григорьевна.
Она обнимает меня за шею и подсаживает поближе к себе. С другой стороны к учительнице клонится «королева».
Максимыч Павку избрал себе за опору. Облокотился ему на плечо, раскачивается тихонько.
Туманов от пекька в их сторону, на другой бок переваливается. Костя Беленький с Ленькой Зинцовым устраиваются в серединке.
Когда люди теснее, это все равно что дружнее. Так и песня лучше поется.
И Максимыч робко заводит приглушенным печальным басом:
На муромской дорожке
Стояли три сосны…
Много поют на деревне песен, старых и новых, грустных и веселых: и лад держат и голоса – хоть со сцены выступай, но такого пестрого и согласного хора с той поры я не слыхивал. Поют парни отдельно, поют девки сами по себе. Соединятся посреди деревни – вместе песню поведут. Старые песельницы на завалинке, заручившись парой седобородых басов, «В саду ягодка-малинка» плавно за волной волну выводят, двумя ручейками о судьбе Ваньки-ключника печалятся. И все взрослые, все ровные – голоса уверенные, устоявшиеся.
В нашем пестром хоре вся песенная речка на мелкие ручейки раздроблена. Бас Максимыча широко и ровно густой гладью стелет, чуть из глубины колышется. По нему Туманов волнистой полосой помягче голос накладывает. Надежда Григорьевна звонкой струйкой в волну вплетается, скользит по ней светлой полоской от берега к берегу. «Королева», подладившись, по той полоске золотыми ниточками плетет. А тут разудалый Ленька Зинцов: вырвется, ни на кого не оглядываясь, никого не спрашивая, словно острым лезвием прорежет бас Максимыча до самой глубины. И летит эта струя, сверкая, дальше, дальше, ускользая незаметно от новой нарастающей волны. Когда Ленькина струйка блекнет – и мне остается местечко прописать искоркой по глухому Костиному голосу. Павки не слышно. Павка только рот открывает, а поет ли – неизвестно.
Слушателей никого. Может быть, потому ладно и песня удается, что никто не слушает, никто не смущает вниманием: поем мы сами для себя, слушаем сами себя и живем этой песней, отдавая ей свой голос и душу.
Хорошая прощальная песня была у нас над Белояром, возле старого замшелого пня и склонившейся над водой ивы с подмытыми корнями. Но лесного инженера навела она на грустные размышления.
– Жалко, что на муромской дорожке три сосны стояли, – все еще под впечатлением песни заметил Василий Петрович, делая особое ударение на последнем слове. – В прошлом времени глагол употреблен: «стояли». – И он оглядывается на Надежду Григорьевну, будто спрашивает, проверяя себя: «Верно ли запомнил я грамматику русского языка?»
Учительница только улыбнулась и промолчала. Перебирает растрепавшиеся волосы «королевы», заплетает их в косу.
И снова говорит лесной инженер, которого так растревожили и взволновали песенные три сосны.
– Стояли, а теперь не стоят. Когда-то там и муромские леса стояли. Знаменитые леса! Помните это? – обращается он к Максимычу и легонько наводит на мотив:
Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы.
– Одно воспоминание осталось от тех лесов. Разве только в песнях и услышишь да в книгах прочитаешь. Не досталось нам этого богатства. Вырубили муромские леса, начисто вырубили. Вокруг всего Мурома хоть шаром покати. Ока – какая красавица, и ту всем ветрам открыли. Голая стоит. Вода туманом, а берега песком дымятся. Постарались купцы: где были хорошие дороги, там все леса повырубили, а новые выращивать нам оставили. Обеднела хорошими лесами наша среднерусская полоса, – с горечью признает Туманов.
– А Ярополческий бор? – вскидывает голову Ленька.
– Ярополческий-то?
В вопросе Зинцова явно слышался молодой азарт. Почему, мол, все муромские да муромские? А наш, Ярополческий, чем хуже?!
Для нас такая горячность друга тем более изумительна Когда в бор шли, так и чувствовалось по всем разговорам и выходкам Леньки, что ему все нипочем и поход для него не больше чем интересное времяпровождение, когда без помехи со стороны взрослых можно делать все по своему желанию.
И вот пробудилась у Леньки какая-то новая, неведомая по крайней мере незаметная до сих пор струнка гордости за свой край.
Глядя на него, и Надежда Григорьевна одобрительно улыбается, и Масимыч веселее поднял голову, встретив в лице Леньки горячего единомышленника. От удовольствия руки потирает – тоже ждет ответа от инженера. Что, мол отмалчиваешься? Отвечай парню.
Василий Петрович теребит сухую былинку. Прищуривая один глаз, думает.
– Ярополческий-то? – повторяет он. Видно, прикидывает, как бы ответить поладнее, чтобы и Леньку равнодушием к Ярополческому бору не обидеть и от правды не отступить.
– Младший брат тому Ярополческий. Тот отшумел свое время. Хотя и сейчас по старой привычке говорят порой: «Как Муром зеленый», а Муром уже давно не зеленый. Далеко отступили от него леса. А наш Ярополческий пошумит еще… Конечно, если беречь его.
И рассказывает Василий Петрович. О простом говорит, а нам удивительное рисуется. В лесу сидим, а пустыню себе представляем. Кругом песок сыпучий. Ветер его по равнине волнами гонит, все на своем пути заметает. Только в одном месте среди песков светлый ручеек пробивается. Вокруг него зеленые пальмы растут, берегут от песчаной пыли, не пускают ее в свой тесный круг.
Так говорит Туманов. И хочется нам, чтобы от тех пальм пошли расти большие зеленые деревья во все стороны. А между ними тропинки песчаные, гладкие. Беги по ним через всю пустыню хоть на край света, к какому-нибудь синему морю.
Когда легко мечтается – хорошо и верится. Даже сомнения нет, что именно так, и только так, должно случиться в той пустыне. И, может быть, мысленно мы уже идем по ней, мечтая о чудесном синем море. Но Василий Петрович рассказ свой кончает печально:
– Вечерней порой пришел к ручейку под пальмами усталый караван. Не подумали люди, что следом за ними пойдут другие и для них будет ручеек в тени отдыхом и спасением от жары и жажды. Напились путники вдоволь холодной воды, с собой в кожаные бурдюки про запас набрали, а деревья на костер порубили. Засыпало тот ручей песком, и следа от него не осталось.
– Будете дальше учиться – в книжках об этом прочитаете, – говорит Василий Петрович.
А Леньке не до книжки. Его зло разбирает, почему люди деревья порубили.
– Бывает так иногда. Печально, но бывает, – объясняет Леньке Туманов. – В пустыне – там каждое деревце на счету, сразу заметно, если уничтожили. А здесь, смотрите: вон кто-то елочку у самого обрыва сломил. Ее никто и не замечает.
Ленька поеживается зябко и молчит: это его вчерашняя работа.
А инженер рассказывает, сколько вот так, безрассудно, в лесу, в городе или в деревне деревьев губят.
– Под вязом или под сосенкой посидеть, в роще грибы и ягоды собирать или липовой аллеей с песнями пройтись мы все любим. Но бывают и такие, что любят из молодой липы свистки делать. На свисток дерево режут, которому бы сто лет расти да красоваться. Другие на палку сосенку попрямее выбирают, сучок полукругом в рукоятку врежут и форсят. Из сосны бы в свое время хорошая мачта на корабле стояла, а человек вырезал палочку для забавы, а через час бросил ее. Много еще и таких любителей. Поменяют вот так двадцать человек свои палочки всего по три раза – j и кто-то дома лишается. Хорошего дома! Понимаете, ведь I шестьдесят палочек – это дом.
Мы вздыхаем сочувственно и переглядываемся при словах Туманова: насчет палочек за нами тоже грешки водились, особенно когда появится в руках отточенный ножичек. Как не попробовать, как не проверить в этом случае – перережет он кустик с одного раза или не перережет? Ни о чем другом мы тогда не задумывались, просто хотелось испы> тать, остер ли ножик. Хвалились перед товарищами, у кого лучше тешет. А теперь и в кармане его приходится в кулак зажимать, чтобы не выдал, а глаза в землю опускать.
Но Василий Петрович ни словом, ни намеком о нас не поминает, будто то, что другие делают по незнанию, к нам, Путешественникам по Ярополческому бору, никакого отношения не имеет. За это мы благодарны ему.
В это время, как сейчас помню, дал я себе в душе чисто-сердечную клятву никогда в жизни не резать, не ломать и не гнуть деревья и кустики, если нет на то настоящей надобности.
Максимыч на слово тоже чувствителен: послушал рассказ о засыпанном ручейке в пустыне и грустно замечает:
– Белояр тоже мелеет. Когда я в ваши годы был, – обращается к нам десятник, – тогда по Белояру и летом катера ходили. Беленький один мне здорово нравился. Пронырливый, легкий, как перышко. Встречь стержня так и режет. Загудит-загудит: «Ждите! Встречайте!» А ночью разноцветными огнями нарядится – так и мелькают между деревьями… Почему, инженер, река мелеет?
– Лес редеет, – отвечает Василий Петрович. – Без защиты и не такие водоемы, как Белояр, песком засыпает и солнцем сушит. Лес и вода – вечные друзья. Где вода, там и зелень.
– Как же лес не рубить? Он для того и растет, чтобы рубили. Вот мы подсаживаем сосны, а потом их тоже пилить будут.
– Обязательно. Сок взяли – значит, и дерево надо на дело пустить, а то на корню посохнет. И человеку пользы не даст, а лесу вред принесет.
– Как же это, Василий Петрович, и беречь надо, и пилить надо? – спрашивает Костя Беленький.
– В том-то и дело: надо так дерево взять, чтобы оно больше пользы давало, тогда и рубить меньше придется. Да расчет держать, чтобы сколько срубил, столько и вновь подрастало на смену. Не изучали, сколько лет нужно, чтобы сосне до полной спелости дойти?
– Не помню, – отвечает Костя.
– А ты так запомни, что сам себе сосну не вырастишь: жизни не хватит. За восемьдесят лет сосна растет и больше сотни прошуметь может. Вот и надо делить бор на такие доли, чтобы каждому году своя норма была да молодняк на смену выходил.
И слышится в словах Туманова тревога за судьбу Ярополческого бора.
– За счет этого бора, – говорит он, – до революции сколько купцов нажилось. В гражданскую войну ему тоже не легко приходилось. А сейчас новое строительство в деревнях и в городах началось. Откуда строительный материал? Тот же лес. Ведь Россия-то до революции на девяносто процентов была деревянная, а в деревне на сто домов и одного каменного не насчитаешь. И сейчас еще, по старой привычке, мы иногда смотрим на лесные массивы как на привычное, даровое, вечно обновляющееся богатство. А приберегать да пополнять его забываем. Сами себя обедняем. Вот какая, Костя, печаль у Ярополческого бора. Есть, конечно, и другие в такой же печали. Лесам средней полосы России особенно трудно досталось. Сократились и поредели они.
– Как же теперь дело поправить? – растерялся наш старший.
– Как-нибудь надо, – улыбнулся Василий Петрович. – Беречь надо сохранившиеся старые леса. И новые садить надо. Вот Максимыч – он бережет, а садить – тут и на вашу долю достанется.
– А Максимыч разве бережет? – усомнился Ленька Зинцов.
– Безусловно. Теперь к тому дело идет, чтобы пилить на разные постройки только те деревья, которые вздымщики хаками пометят. Сначала сок из них возьмут, а потом и в срубы пустят.
– А зачем сок брать?
– Чтобы бесполезно не пропадал. Расскажи-ка им, Максимыч, поподробнее, что теперь еще мы стали от сосны и ели получать.
И Максимыч начинает перечислять, а Костя Беленький записывает.
– И еще запиши, – громыхает вдруг Максимыч. – Так запиши: «Леса и воды – краса природы». Поговорка это. Вот как народ про леса и воды сказал!
Позднее мы эти слова и на обложку первой тетради вынесли, каемками обвели. И живут неразлучно с этой записью и старинная песня о трех соснах на муромской дорожке, и громогласный Максимыч, и опирающийся на замшелый пенек лесной инженер Туманов, и призадумавшаяся у плеча Надежды Григорьевны «королева», и памятное прощанье. Оно и было не в доме Туманова, а там же, над речкой Белояром.
Мы спешили вернуться в сторожку к дедушке. Пришла попрощаться и бабка Васена. Каждого обняла, каждому в карман по вареному яичку положила. Кончиком полушалка глаза утирает. И мы расчувствовались.
Максимыч из-за пазухи широкого пиджака кулек конфет достал, передал нам от имени всей бригады вздымщиков и сборщиков живицы.
– Спасибо ни к чему. Это вы на подсочке сами заработали, – сказал он и крепко нам руки пожал. – Не забывайте. Наведывайтесь. Всегда будем рады.
Василий Петрович вручил нам по грамоте с благодарностью за тушение лесного пожара.
Трудно еще Туманову с земли подниматься. Надежда Григорьевна под руку его поддержала. На замечание Кости Беленького сказала:
– Ничего, поправится. Мы с Ниной пока здесь останемся, присмотрим за ним. Верно, Нина?
И «королева», довольная, утвердительно кивнула головой.
Учительница последней с нами попрощалась. Хорошую книжку с картинками подарила.
– Это, – говорит, – от нас обоих, – и на Василия Петровича взглянула. – На память о лесном походе.
И радостно и грустно стало нам от большого внимания и добрых пожеланий. Идти бы скорее, да из-за «королевы» задерживаемся. Стоит она в сторонке: не смеет ни обнять нас, как бабушка Васена, ни руки пожать, как Максимыч. Чудно она прощалась. И пяти шагов отойти мы не успели – налетела сзади на Леньку, забарабанила кулаками в спину.
– На дорожку дам горошку. – И – была да нет.
От такого прощанья сразу веселее стало. С каждым шагом рассеивается печаль. И хочется скорее к дедушке, к Боре. Как-то они там?