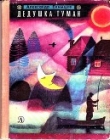Текст книги "Охотники за сказками"
Автор книги: Иван Симонов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Маленький художник
Говорят, что летние дни самые длинные во всем году. А для нас они такими коротенькими кажутся. Так и летят один за другим.
Только утром проснешься, позавтракаешь с Василием Петровичем и не успеешь еще по Белояру набегаться, желтоголовых ящериц на песке наловить, насмотреться вдоволь, как ужи по воде, плавают, подследить, где они прячутся от нас под берегом, как уже обедать пора. Потом к Максимычу на участок пробежимся: вооружившись скобелями и хаками, новые кары заводим, живицу собираем, переливая ее из маленьких воронок в большие ведра.
Павке Дудочкину профессия вздымщика особенно по нраву пришлась. Вот где нашел свое призвание наш неторопливый на слово, трудолюбивый и скромный друг. Еще руки от кистей по локти марлей укручены, еще бабка Васена его каждый день предупреждает, чтобы берегся, а Павка уже со всем своим старанием «румянец» по соснам наводит, «зеркала» и усы острым хаком прописывает.
– Подождал бы, когда руки заживут, – скажет ему Костя Беленький.
– Тогда нам здесь делать будет нечего. Если выздоровел, что понапрасну время терять. К дедушке пойдем, он, наверно, уж беспокоится.
Максимыч слушает и одобрительно покряхтывает. Нравится ему трудолюбие и хозяйственная рассудительность Дудочкина.
– Будь моя воля, зачислил бы тебя в штат, – гудит десятник и сетует – Охрана труда мешает. Раньше мы с десяти годов в работу, как в хомут, впрягались. Не захирели – выросли. Работа никогда не во вред.
Громогласный бас Максимыча при этих словах становится гуще, будто он хочет сказать: смотрите, мол, на меня – не дорос, что ли, или здоровьем слаб?
– Сколько тебе до шестнадцати-то осталось? – спрашивает он Павку.
– Три года бы еще. А месяцы неважно.
– Месяцы – пустяк, – соглашается десятник на подсочке. – Если бы года до шестнадцати не хватало, и то принял бы тебя на работу.
Зинцов слышит, и его досада берет, что про Павку так похвально разговаривают, а на него и внимания не обращают.
– Давай соревноваться! – вызывает он Дудочкина.
– Мне все равно: хоть соревноваться, хоть просто так работать, – отвечает Павка, не торопясь да споро управляясь с хаком.
Тогда начинаем?
Ладно.
Мы с Костей Беленьким беремся наблюдать за качеством. Зинцов всю свою энергию в ход пустил. От дерева к дереву вперебежку действует. Обгоняет Павку в работе. А горячего запалу только на полчаса хватило.
– Кончаем! – кричит он другу.
А Павка продолжает себе, как заправский вздымщик, уверенно и сноровисто обрабатывать сосну за сосной.
– На раз горазд, пыхнул – и погас, – изрек Максимыч свою оценку зинцовской хватке.
Костя слова десятника в тетрадку внес. А вечером под этой поговоркой новую сказку бабки Васены записал.
После первого посещения бабушкиного домика она сама нас пригласила.
– Заходите, когда надумаете.
А мы не привыкли себя ждать заставлять.
Василий Петрович в этот день просмотром разных бумаг занялся, взялся записки писать. Нина Королева и помогает ему, как инженеру, и, как за больным, присматривает. А мы – к бабке Васене. Шевельнули щеколдочку при вХОДе – и снова расселись по насиженным местам.
Бабка Васена цветы перебирает, а мы от нечего делать за писучие камешки принялись: подтачиваем их, обмениваемся друг с другом, чтобы у каждого всех цветов опоки были. Слово за слово со старушкой переговариваемся. Костя Беленький под бабушкину диктовку взялся названия лекарственных цветов переписывать. Потом бабка про свою бабушку стала рассказывать, как она у барина при крепостном праве жила. От этого разговора и до сказки дошла. В наших тетрадях она так начинается:
«Было это, беззаботные вы мои, когда еще людей, как лошадей, покупали и продавали. В крепостное время это было. Над всеми большими и малыми был тогда хозяин – помещик. Барином каждого помещика величали. Волен он был взять дите от матери, волен был над крепостным суд творить и без суда людей пытать и мучить. Волен был в животе и смерти…»
Прислонилась бабушка к простенку поплотнее. Цветы только для виду руками перешевеливает. Так ей рассказывать способнее.
– Тогда и жил, – говорит, – в деревне маленький и несчастный мальчик Федя. Худенький он был, слабенький и больше всего на свете сызмалетства рисовать любил.
В школе он не учился, да и школы на селе не было. А купила ему мать у проезжего товарника книжку с картинками. С ней и не расставался Федя. Стал с нее разные картинки срисовывать, деревья, людей и зверей изображать. Найдет или выпросит где-нибудь листочек бумаги, уголек у матери с шестка возьмет – сядет за стол и рисует. Ничего не свете ему больше не надо, все горести-печали позабудет.
Сначала отец радовался: такие интересные картинки у мальчонки на бумаге получаются, что залюбуешься. А когда увидал, что у Феди только и думы, что про уголек да про бумагу, сердиться стал.
– Не мужицкое, – говорит, – это дело – пустяками забавляться. Надо приучаться хлеб себе зарабатывать.
Собрал он все бумажки и выбросил. Федюшкины угольки во дворе ногами потоптал, а книжку с картинками в короб с разным тряпьем запрятал. А картинки мальчонка все равно забыть не может. И во сне и наяву ему представляются. За какое бы дело ни взялся – нарядные картинки у него на уме.
Лоскутки бумаги Федюшка возле помещичьего дома стал собирать, а угольки у матери на шестке находит каждый день новые. А чтобы отец с матерью не ругали, стал уходить мальчонка в лес. Неподалеку от леса деревня стояла.
Наберет Федя углей в карманы и пропадет на целый день. В лесу птицы поют, деревья шумят, рыба в озере плещется, и так хорошо ему, что никогда не возвращался бы в деревню.
И придумал мальчонка новую затею. Выберет он пенек поглаже, пристроится к нему на коленках и рисует черным по белому. Налюбуется на свою картинку – размажет ее и опять рисует белым по черному.
– Еще задолго до вас, – примечает бабка Васена, – нашел он камешки, что опокой да еще мергелями прозываются. Вот и стал ими рисовать. На одном пеньке кончит – к другому перейдет. И так с утра до вечера, пока темно и страшно в лесу не станет. Тогда и домой, в деревню, возвращается.
Однажды и застал Федюшку за таким занятием в лесу барин – помещик значит. А лес-то был его же, помещика. Подумал он, что мальчишка хворост собирает, к себе домой таскает, и решил так проучить, чтобы и другим неповадно было.
А Федюшка над пеньком наклонился, на картинку любуется, ничего не замечает. Подкрался к нему помещик да и хвать мальчонку за ухо.
– Ты что это, – говорит, – неумытый оборвыш, в барском лесу делаешь?
Перепугался мальчонка, ноги у него со страха подкашиваются, а сам бледный, как беленый холст. На коленях молит он помещика отпустить его домой, клятвой клянется, что никогда больше не заглянет в этот лес.
Рядом с помещиком управляющий стоит, в руках тугой ременный кнут держит. От этого кнута в глазах у Федюшки потемнело. Сразу вспомнил он бородатого Никиту, которого в прошлом году на барском дворе до смерти запороли. Дрожит мальчишка как осиновый лист на ветру.
А помещик посмотрел на один пенек – там по белому черным одна картинка намалевана. Поглядел на другой – по черному разноцветными опоками совсем непохожая на нее расписана.
– Забавные штуки парнишка выписывает. А плетями проучить, тогда и совсем хорошо получится.
Посмеялся так над беспомощным несмышленышем, посадил Федю в коляску и увез к себе в дом.
– Будешь, – говорит, – моих ребят своими картинками потешать.
Дали Феде краски, бумаги. И стал он для помещичьих детей, на забаву им, картинки рисовать. Довольны ребятишки – посмеются, похвалят Федю, недовольны – раскапризничаются, велят его плетями вздуть.
А чтобы не придумал парнишка домой бегать или родители к нему под окно ходить, сослал помещик Федюшкиных отца с матерью в дальнюю деревню, чтобы и сын о них и они о сыне и думать забыли.
Только разве можно забыть отца с матерью!
Живет Федя в помещичьем доме и год, и два, и больше. Сдружился он со старым конюхом. Был Семен в молодости художником. Картины его в Москву показывать возили, барина за те картины деньгами и медалями награждали, а самого художника и знать никто не знал.
И задумал Семен откупиться от помещика, отдать ему все, что было дорогого и заветного, только чтобы самому свободным человеком стать. Но вместо освобождения послали Семена на конюшню, чтобы там под плетями забыл он свою холопскую гордость, до старости лет дрожал и гнулся перед барином.
Жалел и любил Федюшку старый художник. И стал он обучать мальчика всему, что сам умел. Любознательный и понятливый получился из Федюшки ученик. Научил его Семен такие картины рисовать, что приезжие гости барина стали на них заглядываться. И все рисует он леса да поля, озерные заводи да луга зеленые. А у самого из головы дума не выходит, как бы убежать к отцу с матерью.
Вот раз перед большим летним праздником, когда к помещику должны были его именитые гости съехаться, приходит хозяин к мальчику злой-презлой.
– Ты что, – говорит, – это, оборвыш бездомный, моими красками рисуешь да мужикам на стены ляпаешь?!
Узнал он, видно, что нарисовал Федюшка одну картину да и бросил ее из окна деревенскому мальчику, своему товарищу. И залютовал помещик.
– Ты, – говорит, – нарисуй мне такую картину, чтобы гости, которые ко мне съедутся, поглядели и диву дались. Изобрази мой бор так, чтобы деревья ветвями шумели, чтобы от них смолой пахло и чтобы в тот лес можно было гулять пойти. Сделаешь – отпущу к отцу с матерью, а не сделаешь – плетями засеку, собаками затравлю. Так и запомни.
Только насчет отца с матерью обещания Федя уже не раз слышал. А чем больше старается, чем лучше картины делает, тем крепче держит его помещик. Даже на улицу из дому выпускать перестал.
– А теперь, – говорит хозяин, – засажу я тебя одного в комнате, и никто, кроме меня, к тебе ходить не будет, пока ту картину не сделаешь. Так старайся, чтобы люди, глянув на нее, от удивления ахнули.
Заперли Федю на замок, а в окна железную решетку вделали и оставили одного. А чтобы не умер с голоду, в двери окошко проделали, через него есть Федюшке в каморку подавали.
Рисует он на холсте зеленый луг. Рисует лес, который сквозь решетку издали виднеется. Нет возле него ни одного человека, с кем бы словом можно бы перемолвиться. Только заходит порой страшный барин с витой плетью в руке – проверить, не бездельничает ли мальчишка, посмотреть, как работа поддается, да припугнуть его покрепче. А ночью за решеткой возле окна старый конюх Семен появляется, шепчет что-то Федюшке, подсказывает, что и как нужно сделать, чтобы помочь ему от беды уйти.
Потом и сам мальчишка заперся изнутри, не пускает к себе барина.
– Не мешайте, – говорит, – мне: работа полным ходом идет. – Будет, мол, точно к сроку такая картина, каких не было. Мол, приказ ваш я строго выполню: глянете на нее– и ахнете.
Сказал так и снова за работу принялся. Только пилку маленькую железо резать попросил.
– Потому нужна, – сказал, – что необычная картина будет.
В званый день чуть свет стали съезжаться гости на двор к помещику. А ему не терпится новую картину показать. А нет картины, тогда у всех на глазах запорет он мальчишку– для гостей это тоже утеха. Собрались они у двери с окошечком, а оно изнутри забито наглухо. И раз и два постучали в дверь – не отпирает Федюшка и голосу не подает.
Озверел помещик. Приказал он дверь топорами выломать. Впереди гостей с хлыстом в руке кинулся он в пролом да и оторопел: будто не в Федюшкину темную каморку попал, а на прогулку на рассвете с гостями вышел.
Открылся перед ним широкий луг в утренней росе. Розовая заря по траве тонкий свет раскинула. Вдали сосновый бор шумит, густо свежей смолой и земляникой пахнет. Лучше, чем заказывал помещик, нарисовал Федюшка картину.
Только туда-сюда, а художника нигде не видно. Проложен по луговой росе узенький след, будто только сейчас прошел по траве босиком мальчишка и скрылся в сосновой чаще.
Забыл помещик, где он находится. Закричал, затопал ногами:
– В лес убежал, разбойник! Догнать его! Затравить собаками!
И кинулся разъяренный на мальчишеский узкий след по лугу. Налетел он грудью на перепиленные и выгнутые прутья железной решетки, на вделанные в них пучками острые стальные иглы. Тут, как и обещал маленький художник, ахнул барин и повалился на пол весь в крови.
С того дня пропали из барского дома и Федюшка и старый конюх Семен. Где они – никто не знает. Но и сейчас показывают в музеях картину, где словно живой раскинулся окрашенный зарей широкий росистый луг и ведет по нему одинокий узкий мальчишеский след к дальнему сосновому бору.
Кем написана картина, как она здесь появилась – ни один человек сказать не может. Называют ее картиной неизвестного художника. Но кто знает Федюшкину историю – и картину его сразу узнает. Все ветки на соснах в той картине зеленые, лишь одна порыжела – от крови помещика.
– Вот какую память оставил о себе маленький художник, – заключила бабушка Васена.
Посмотрела на наши исписанные опоками рубашки и в назидание добавила:
– А рубашку свою он берег, опоками ее не разрисовывал. И вы до другого случая свои камешки приберегите.
Надежда Григорьевна
Павка выдержал испытание на терпеливость: как ни зудели руки, как ни хотелось царапнуть их сквозь повязки ногтями, он ни разу тайком от бабки Васены не заглянул под марлю, не сковырнул ни одной болячки. И, как достойная награда за примерное терпение, освобождение от повязок пришло раньше, чем ожидала сама лесная докторша.
Перед нашим уходом из избушки она посмотрела Павки-ны руки и сказала:
– Больше перевязывать не будем. Пусть вольным воздухом подышат.
– И спать вместе с ними можно? – оживился Павка.
– С руками-то?.. А то как же! Обязательно с ними. Руки не отвинчиваются.
– Нет, я говорю: с ними, – просиял ободренный веселым настроением бабушки Павка и обернулся в нашу сторону: – Вот с ними.
– Спать можно, а воевать – подождать. Нину сюда присылайте, загостилась она у Василия Петровича.
«Королева» за день всюду побывать успевает, а на ночлег всегда к бабушке отправляется. А мы поскорее в свою маленькую комнатку: рады, что все четверо вместе. Было даже немножко на торжество похоже, что с отдельной койки наш друг в общий круг вернулся. Ему поначалу и лучшее местечко в серединке.
Зинцов, конечно, к Павке под бок: целую неделю под одним одеялом не спали. Я в таком случае уже не за маленького иду, а наравне со старшим другой край постели замыкаю.
– Костя, не боишься, что домовой первого тебя с краю потащит? – через двоих серединных обращается ко мне Костя Беленький.
– На что ему такой маленький, он кого подлиннее выберет.
Если с краю спать, можно и посмелее стать и себя от шуточки с намеком оборонить. Чувствую, как взрослею я, впервые уложенный с краю.
Уже взрослый, читаю эту пометку в дневнике Кости Беленького и подсмеиваюсь над собой, маленьким. И все-таки я согласен с тем – маленьким – Костей Крайневым: не только в труде и в бою мужает человек. Вырастает он перед товарищами и перед самим собой, когда совсем малютке оставленную в грязи калошу достанет, шибче других в четыре пальца свистнет, за одно опускание на дно озера пять раковин соберет и над водой поднимет. В дни нашего детства мы даже от новой рубахи заметно взрослели, а от смелой сдачи на тумак и на слово – тем более.
Припоминается пробуждение после ночи, впервые проведенной не в середине, а на краю широкой постели.
…Ясное солнечное утро над Белояром. Голубое высокое небо с белыми барашками облаков в верхнем переплете окна. Тесно сдвинувшись, мы лежим на тюфяке, набитом соломой. По гладкому сухому стеклу летает большая зеленая муха и громко жужжит. Ленька до половины выползает из-под одеяла и, вытягивая руку, целится прихлопнуть ее.
В это время раздается стук в дверь.
– Товарища Туманова можно увидеть? – слышится нерешительный женский голос.
Появление нового человека для Белояра событие небезынтересное. Нам тоже любопытно узнать, кто бы это мог быть.
А Ленька втягивается обратно под одеяло и солидным басом отвечает:
– Нельзя! Мы спим еще.
Несколько минут за дверью длится молчание, потом тот же голос неуверенно спрашивает:
– А товарищ Туманов здесь живет?
– Помолчи ты, – заметив новое недовольное шевеление Зинцова, цыкает Костя Беленький и накрывает лицо Леньки подушкой.
В голосе за дверью слышится что-то знакомое. Костя дожидается, не повторится ли вопрос, и, не дождавшись, отвечает:
– Здесь. Сейчас открою.
Прыгая на одной ноге, он торопливо натягивает на себя узенькие штаны. Запутавшись в рыхлом тюфяке, шлепается руками на пол. В дополнение стукается о табуретку и босиком бежит к двери.
Павка спит, ничего не слышит. А мы с Ленькой, перевозя за собой подушки, перемещаемся головами в другую сторону и с любопытством ожидаем появления ранней посетительницы.
Костя негромко щелкает откинутым из петли железным крючком, дверь медленно раскрывается и…
Мы с Ленькой растерянно и глупо таращим глаза: через порог переступает наша учительница.
Привыкли мы при встрече всякий раз ее громко приветствовать. Но не крикнешь же из постели: «Здравствуйте, Надежда Григорьевна!» Это курам на смех.
Молчим затаив дыхание. И одно желание: хорошо, если бы она нас не заметила.
Нам неловко как-то, а Косте Беленькому и того больше не по себе. В сбившейся набок измятой нижней рубашке, непричесанный, неумытый, нелепо расставив длинные ноги, он непонимающе глядит перед собой, беспрестанно моргая белыми ресницами. У него даже не хватило сообразительности отнять руку от крючка и отступить в сторону, шевельнуть кверху костлявым плечом, чтобы поддержать съезжающую с него рубашку.
Надежда Григорьевна, не ожидавшая такой необычной встречи, тоже вначале смутилась, но быстро нашлась.
– Что, не выспался? – улыбнувшись, сказала она, смотря мимо Кости.
– Василий Петрович у себя в комнате, – сказал наш старший чужим, деревянным голосом.
– Кто там? Входите сюда! – весело прокричал из своей комнаты Туманов.
Надежда Григорьевна оглянулась на входную дверь, потом на противоположную, ведущую в комнату Туманова. Качнула маленьким чемоданчиком в руке и сказала Косте:
– Лекарства принесла.
Одернула без нужды серый пиджачок, словно выигрывала время на раздумье: что же делать дальше? Шагнула несмело один раз, затем, четко пристукивая каблуками по звонкому полу, уверенно и быстро пошла на голос, предоставив Косте возможность одуматься и окончательно прийти в себя.
Мы с Ленькой уткнулись в подушки.
А через час вся наша компания уже сидела в просторной и светлой комнате Туманова вокруг письменного стола, который Надежда Григорьевна и подоспевшая к случаю бабушка Васена быстро превратили в обеденный.
Пока мы прибирались в своей комнате, умывались, смачивали волосы, подрезали ногти, с помощью явившейся вместе с бабкой «королевы» приводили в возможный порядок свои довольно-таки потрепанные во время похода костюмы, комната Василия Петровича будто преобразилась.
Вдоль широких сосновых половиц к раскрытому окну, д которого веяло утренней свежестью, пролегла полосатая домотканая дорожка. Рамки с бабочками, жуками и гусеницами были задернуты другим, гладко проутюженным покрывалом. На лакированную полочку перед большим зеркалом легла вышитая голубенькими незабудками полотняная дорожка, и на ней стоял, широко раскрыв желтый клюв, фарфоровый черный грач, изо рта которого торчал окурок папиросы.
Отсыревшие горшочки под цветами были протерты насухо и снизу завернуты до половины в чистую белую бумагу с полукруглыми каемками по краям. На мелких листьях словно помолодевшей комнатной березки, на разноцветных шершавых геранях искрились, переливаясь, живые капельки воды. Ярко сияли красные лепестки огонька и пламенные крапинки «ваньки мокрого». Запах борового смолистого воздуха перемешивался с мягкими запахами цветов.
Теплее, уютнее обрядилась комната лесного инженера.
«Так вот чего недоставало в ней», – припомнился мне холодок, который чувствовался все время, когда впервые рассматривали мы жуков и бабочек под стеклом, деревянные чурочки в ящиках письменного стола, мерили взглядом голые широкие половицы.
Теперь та же комната выглядела совсем по-иному.
– Павлуша, – вместо привычного в школе «Дудоч-кин» позвала учительница, – подойди сюда.
Придвинувшись ближе к свету, она рассматривала внимательно Павкины руки с засученными выше локтей рукавами. По темному проступали розоватые пятнышки в виде монет, подернутые тоненькими легкими морщинками.
– Больно? – спрашивала Надежда Григорьевна.
– Теперь не больно.
– Как же ты не уберегся?
– Так уж получилось, Надежда Григорьевна. Пожар ведь был.
И заметил я, как при этих словах она хотела погладить Павку и снова опустила руку.
– Какой большой ты здесь вырос! – сказала она.
И, оборачиваясь к Косте Беленькому, уже строже спросила:
– А почему не сообщили? Если бы не письмо Савелия Григорьевича, я до сих пор ничего бы не знала.
Мы переглядываемся с Ленькой.
«Вот откуда, значит, дошли до учительницы вести! Из-за нас поспешила она в Ярополческий бор».
О том, хорошо ли мы дружим между собой, не ссоримся ли, Надежда Григорьевна даже словом не обмолвилась. Без вопросов, видно, поняла.
Вместе с бабкой Васеной она накрывает стол расписанной в кубики клеенкой, расставляет посуду. «Королева» усердно помогает им.
– А хозяину дома можно вставать? Стул для него поставить? – спрашивает Надежда Григорьевна бабку Васену.
Василий Петрович, покруче подвернув подушку, посматривает на оживленное многолюдье и слушает, как без него о нем вопрос решают.
– Нет уж, пусть на меня обижается, а чай ему придется все-таки на табуретке подать, – говорит бабушка. – А вы что же, как паны – руки в карманы. Давайте самовар на стол, – совсем по-свойски подшугивает нас лесная лекарша.
Ленька Зинцов устремился на кухню и притащил пофыркивающий паром, начищенный до блеска медный полуведерный самовар.
И учительница – сама учительница, по одному слову которой мы умолкали за партами, переставали рассматривать картинки на стенах, закрывали тетрадь с недорисованным конем, – сама Надежда Григорьевна, по-девчоночьи смеясь на нашу застенчивость, за плечи подталкивает нас ближе к столу. Ее подрезанные, завернувшиеся внизу колечками белокурые волосы подрагивают.
– Рассаживайтесь, рассаживайтесь подружнее. Вот у Нины порядку учитесь, – указывает она на «королеву», которая, не ожидая особого приглашения, чинно и спокойно заняла свое место за столом.
Привыкшая отвечать смехом на похвалу, на этот раз Нина не фыркнула. Даже стул немножко отодвинула, давая Леньке Зинцову местечко рядом.
Памятное это было чаеванье.
На большой цветастой тарелке дымилось еще тепленькое, появившееся неизвестно откуда рассыпчатое домашнее печенье со сдобой. На других лежали нарезанные широкими ломтями сыр и колбаса, поднимались горкой вареньГе яйца. И для всех нас, каждому в отдельности, были поставлены маленькие, с золотыми ободочками тарелки с прилоценными по краям вилками. И на семерых – три длинных блестящих ножа с костяными черенками.
От хлопот или просто от горячего самовара под боком только бабка Васена на этот раз про свою зябкость позабыла– сняла темный шерстяной полушалок и осталась в одном легоньком чепчике, какие в нашей стороне кокуями прозываются.
– Первый бокал хозяину, – сказала она и наполнила чаем большую фарфоровую кружку Туманова.
Надежда Григорьевна взяла ее и вместе с тарелкой мелко нарезанной ветчины отнесла к постели Василия Петровича.
– Кушайте, – негромко сказала она.
Былой лихой кавалерист Чапаевской дивизии заалел стыдливой барышней, и ярко проступившая полоса на щеке снова напомнила нам, как его «беляки рубали, да высоко взяли».
– Спасибо, – сказал он. И добавил: – Надюша. Очень взволнован чем-то был Василий Петрович. Наша учительница при благодарности инженера тоже зарумянилась и, поправив подушку Туманова, поспешила вернуться к столу.
– Жарко, – сказала она и, отводя выбившуюся прядку волос, провела ладонью по лбу.
А мы, глядя на сыр, ветчину и колбасу посредине стола, сидели перед пустыми маленькими тарелками и не знали, что делать.
– Вы что, кушать не хотите? – заметила она строго, глянув на наши постные лица.
Если бы слышал кто со стороны, наверняка подумал бы, что только в этом и дело. А Надежда Григорьевна, сказав одно, поняла другое.
Зацепив вилкой большой кусок ветчины, она шлепнула его из большой на маленькую Костину тарелку и, разрезав одну полоску, сказала:
– Сам управляйся. Чтобы все скушать. Сообразительная «королева» не моргнув даже глазом последовала примеру учительницы и проявила заботу о Леньке.
С каким изумительным спокойствием в лице несла она Дрожащий на вилке ломтик! Как степенно переложила со своей на Ленькину тарелку длинный ножик!
Зинцов, на секунду закусив губу, вдруг, решившись, нацелил вилку в середину большой тарелки и отблагодарил соседку за внимание куском тройной величины.
Нина улыбнулась чуть заметно и не рассердилась.
Они угощали друг друга, а мы с Павкой, определив назначение больших и малых тарелок, не ожидая помощи со стороны, заботливо угощали сами себя.
И когда принялись за чашки с чаем, Павке не нужно было кашлять насчет сахару. На столе так все расположилось, что и сахар и конфеты были под рукой.
После чая мы показывали Надежде Григорьевне свои записи.
– Мало сказок, – говорил Костя Беленький, отыскивая для учительницы нужные страницы.
А она пробегала по строчкам глазами и повторяла:
– Вот это хорошо!.. Это совершенно новое… Напрасно вы горюете, что мало. Одна, две – и то богатство!
Тогда мы не знали, что оказались очень счастливыми «охотниками».
Надежда Григорьевна не делала никаких замечаний, не обращала внимания на ошибки. Только сказала:
– Осенью вы эти тетради обязательно в школу принесите, прочитайте своим товарищам. А на будущее лето снова в Ярополческий бор собирайтесь.
Видать, и Надежде Григорьевне он полюбился.
Мы сказали учительнице, что станем читать и собьемся – лучше бы она взяла себе наши тетради. А Надежда Григорьевна будто не расслышала: достала из ящика стола у Василия Петровича лист бумаги и завернула в него исписанные тетради.
– Берегите, – говорит, – хорошенько. Это на всю жизнь дорогая память. И не переписывайте в другие тетради начисто. Оставьте все как есть: и с ошибками и с помарками. Красивее написать можно, а так просто и душевно уже не напишите. Вырастете большими – в час досуга заглянете в тетради и снова маленькими себя вспомните. Жизнь другая пойдет, а у вас в тетрадях и сказки, и страничка прошлого.
Загадывает Надежда Григорьевна на такой долгий срок, будто осенью мы с ней и не встретимся. Глядит на нас внимательно и даже печально немножко.
Потом раскрыла свой чемоданчик, достала из него газету и говорит:
– Вот чего вы, ребята, не видели. Здесь сейчас торфяные болота исследуют. Заметка об этом напечатана. Вот она. Сходим посмотреть?
Прочитали мы заметку – и на болото.
А исследует-то, оказывается, кто? Белоголовый, которому Ленька Зинцов, как вызов, из сторожевого гнезда стрелу посылал. Тот самый, что Пищулина в дедушкину сторожку привел.
Вот и снова довелось встретиться. Только знаем мы теперь, что вся таинственность его в белом накомарнике. И зовут его просто Дима. Так он и Надежде Григорьевне назвался, когда нашли мы его за Черной гатью.
– А отчество? – спросила учительница.
– Если повеличать хотите, то Михайлович. А фамилии не верьте: Слепов фамилия, а я на три сажени в землю вижу. Марлей глаза укутываю, чтобы насквозь нашу планету не просверлить. Не верите?..
– Почему не верю? Очень даже верю. С ребятами вот специально пришли, чтобы научиться на такую глубину смотреть. Надеюсь, не откажете в науке, Дмитрий Михайлович?
– Этим ребятам?.. Этим не откажу. А другим откажу… Улыбнулся добродушно.
Дмитрий Слепов стоит возле маленькой черной трубки со стеклышками по обоим концам, а трубка привинчена к деревянным ножкам, которые держат ее под землей выше моего плеча. Ножки так устроены, что выдвигаются и задвигаются. Хочешь, полметра или метр, а то и полтора метра вытягивай. С таким устройством интересно позаниматься.
Слепов откидывает на голову свое белое покрывало на кольцах и припадает к трубке. Заглядывая в маленькое стеклышко, он крутит винтики по сторонам трубки; приподняв руку над головой, плавно поводит ладонью и передает на расстояние:
– Вправо подвинуть… Еще вправо… Влево чуть…
Замирает неподвижно возле маленького стеклышка, потом неторопливо разворачивает и закругляет ладонь сверху вниз.
– Так поставить!
Следя за направлением трубки, впереди Дмитрия Слепо-па мы видим еще троих. Двое, с топорами и пилой, ушли далеко вперед. Они срубают встречающиеся на пути кусты, спиливают деревья. Третий, который ближе к нам, стоит с длинной палкой в руках и наблюдает за движением ладони над черной трубкой. По ее мановению он переносит палку то вправо, то влево и, наконец, накрепко втыкает в зыбкую болотину.
Дмитрий Михайлович, вы бы сняли накомарник. День-то, смотрите, какой! Сегодня в лесу птиц больше, чем комаров.
Нельзя, без накомарника перестаю себя геодезистом чувствовать. А теперь в нем и еще одно удобство: чего не сумею хорошенько объяснить – сквозь марлю не будет видно, что стыдно, – отшучивается он от Надежды Григорьевны. И обращается к нам:
– Вторая смена к работе готова?
– Готова, – оглядываясь на учительницу, отвечает Костя Беленький.
Геодезист делает запись в маленьком блокнотике и подает вперед громкий голос:
– Кончай работу! Инструменты передать второй смене. Ну-ка, кто подюжее? – отбирает он работников. – Раз… два.
Выбор падает на Костю и Павку.
– Принимайте у товарищей топоры и пилу, – указывает он на идущих. – Становитесь на прорубку визирки.
– Тебе, быстроглазая, – указывает он на Нину, – провес визирки делать… Гриша, принимай помощницу! – кричит он парню с длинными палками в руке. – Пробу почвы возьмете.
Нам с Ленькой достается «резерв».
– А что это такое? – спрашиваем мы.
А это самая главная работа, – объясняет болотный учитель. – При мне на посылках будете. Для начала тебе нивелир на плечо, – складывает он треногую подставку с прикрепленной к ней трубкой и передает Леньке. – А тебе… ладно, так и быть – тебе накомарник доверю. – Он снимает свою белую марлевую шапку, чтобы меня не обездолить.
В этот день я и на груди, ее откинувши, носил и белоголовым был.
А Нинка Королева!.. Вот где смех… На переменках с Ленькой глядим мы на нее через стеклышко нивелира, а она перед нами вверх ногами ходит. Ноги от земли вниз куда-то отрываются, потом опять прилипают. И что удивительно: голова вниз торчит, а волосы через нее не опрокидываются, кверху на плечи тянутся.
Костя с Павкой и того забавнее: на полусогнутых ногах повисли в пропасть и вот топорами себе под ноги размахивают, а деревья, вместо того чтобы вниз падать, вверх взлетают.