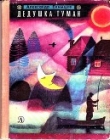Текст книги "Охотники за сказками"
Автор книги: Иван Симонов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Ранним часом
Длинному Степану Гуляеву подниматься с короткой постели всех сподручнее. Стоит ему, повернувшись с боку на спину, ноги поперек землянки вытянуть – они сами маленькую голову вывешивают. Очень маленькая, не по росту, голова у Степана Гуляева. Плечи костистые, угловатые.
Прижимая руки под грудь, он долго и страшно кашляет, перегибаясь в три погибели, хватая воздух раскрытым ртом. Раскачавшиеся кости хрустят и потрескивают – вот-вот Гуляев по частям рассыплется.
– Курнуть… разок… Отляжет, – задыхаясь и перебарывая кашель, рассыпая толченую махорку из скрюченной ладони, торопится он начинить «козью ногу». Глотнув еду-чего дыма, крючится ниже, исходит мокротой и кашлем, раскачивая зыбкие нары.
– Эх, Степа, Степа! Степан Иванович! – осудительно мотает головой дедушка Дружков. – Отстегать бы тебя ремнем хорошим, да некому. Дерьмо-то глотать тоже надо меру знать. Ишь, ты! Не успел от постели отвалиться – и соску в рот! Любуйся, как харкотину расплевывает, да сам казнись, – сбочку поглядывает дедушка на Леньку, который в своем углу усердно морщит губы, стараясь затолкнуть ногу в бахилу.
Леньке полезно насчет кашля лекцию послушать. Он от скуки тоже забавляется иногда «козьими ножками». Без табаку, конечно. Пока про табак он и речи не заводит, лишь для пущей важности прикладывает к губам тоненький газетный мундштучок, отпыхивается картинно. Но газетный лоскуток в кармане всегда имеет и на дымящиеся окурки поглядывает вопросительно.
– Смолоду… привык, – выдавливает Гуляев. – Отец… выпьет: «Кури, Степка, пока я жив!» Курю… сам пьяный… от табаку. К-ха… к-ха… Теперь уж нет… теперь не кончишь.
– И ты, отец, – хмурит Никифор Данилович кустистые, сросшиеся на переносье брови, натягивая на плечи чалый кафтан. – Смолоду ребенка отравить – всю жизнь ему испортить. Вырастут, в свой ум войдут – там сами как знают.
Насчет курева дедушка и покруче мог бы словцо сказать, да у самого у него в кармане кисет с самосадом. Дедушку он не портит, но строгое слово, чтобы оно крепко прозвучало, сказать мешает. У дедушки и с курцовскими делами свой, неписаный порядок заведен: «сигаркой» он только после сытного обеда хлеб-соль «на место провожает», на работе за день разок-другой коротенький перекур устроит, спину выпрямит, а в другое время в кисет не заглядывает. Сергей Зинцов того же лада придерживается. Только два Степана ни в еде, ни в куреве сытости не знают.
– Еще маленькую, пока с голодку, – отбросив одну, другую закручивает Гуляев. – Сейчас… кх, кх… рассосется, – мнет пальцами адамово яблоко, растирает под ложечкой.
– Кончай тоску наводить! – раздражается Степан Осипов. – На тебя поглядеть, так умрешь – до смерти не доживешь.
Не надевая ватного пиджака, приспособленного на ночь вместо одеяла, он в одной ситцевой синей рубахе выходит из землянки и на чистом воздухе, пропитанном запахами смолы и хвои, усердно заряжается такой крепкой и такой вонючей махоркой, что от нее даже дым кверху не поднимается, а зелеными волнами стелется по земле, обжигая тугие, блестящие листья черничника.
– Мо… мо… могилу бесплатно вырою, – задыхаясь и булькая мокротой, услужливо обещает Гуляев вдогонку своему напарнику.
Дедушка хочет сказать что-то, усовестить за бездумные слова, и безнадежно машет рукой.
– Двадцать лет ума нет, и не будет.
– Сорок лет денег нет – то же самое, – подтверждает, оживляясь, Гуляев.
– Вовка, чего развалялся! – будит Никифор Данилович заспавшегося внука. – Вставай, вставай, пока петух в маковку не клюнул. Смотри, без завтрака останешься!
Братья Зинцовы уже возле озера. Младший за старшим так по пятам и ходит, во всем ему подражает. Сначала Сергей из широкого ведра поливает Ленькину загорелую спину, потом они меняются местами.
Туман, оторвавшись от берега, сгрудился на середине Лосьего озера. Он стелется, дымится по краям белыми ленивыми завитками, вздрагивает зябко, растекаясь медленно по тяжелой, неподвижной воде. Прибрежные сосны роняют с высоты редкие, мягко шлепающие капли. Чуткие камыши застыли безмолвно, клонясь на воду осекающимися коричнево-темными головками.
Какая-то птица – не разобрать за туманом – стремительно и прямо, словно по протянутой бечевке, пересекает дальнюю заводь, пуская на две стороны расходящиеся переливчатые каемки. Стайка плотичьей молоди стремительно брызнула от камышей, сыпанула по тусклому серебряными искорками.
– Ого! Щука проснулась, – встрепенулся Ленька, клонясь над камышами, и позабыл натягивать полосатую тельняшку, жгутом завернувшуюся на сырых лопатках.
Видно, вновь изменила пильщику деловая серьезность, уступив место азартному рыболову. Ему ли не знать, когда щука под туманом просыпается, на какую приманку окунь идет, по которой стремнинке язи на добычу пускаются! Давно ли, кажись, забрасывали мы березовые, можжевеловые, ореховые удочки в Кщару, Долгое, Удольское и десятки других озер, на двадцать верст, раскиданных по окружности! Плотву и красноперку в жаркий полдень под лопухами кувшинок искали, окуню за глубокие камыши насадку подбрасывали, толстолобых язей на ярах, под кручей, на быстрой струе засекали. Насадками и приманками все карманы забиты! Окуней навозными червями кормили, для плотвы белых ручейников из плавучих трубок доставали, язя на хлебные шарики подманивали. Давно ли бегали с корзинами и лукошками по грибным заречным перелескам! Давно ли не за рублями, а за волшебными сказками ходили в Ярополческий старый бор!
Отгулял, мальчик, свое время! Довелось – без остатка взял, что отпущено было на твое детство. Знаешь, как под ветром рябина шумит, сколько дней на разливе вода держится, под какого Егорья ленивая соха выезжает в поле. Умеешь за бороной шагать, умеешь топор в руках держать– начинай, да не забывай, что и хлебное поле не ради красы волнуется, что и туча с громом не напрасно разговаривает.
В том, двадцать шестом, новая деревня еще старой меркой детство меряла: было – в десять лет в тяжелую работу запрягали, было – до двенадцати поблажку давали. А Леньке уже четырнадцать. Через два года и мне будет столько же. А взрослым рабочим людям, к которым и мы себя причисляем, не до мальчишеских балушек.
«Кто стреляет да удит, у того век ничего не будет» – эта старая поговорка и подростков смущала. Бросай липовый кузовок в темный угол чулана, передавай береженые крючки, витые лески и удочки тем быстроногим, кому еще топор не под силу, пила тяжела, и коса из рук вырывается. Им и звание – малыши, а мы с Ленькой уже лесорубы. И такое у нас желание и старание по всем статьям со взрослыми поравняться, что иногда и старшие на деловитость самых младших удивляются.
– Дедушка, можно и мне с вами на делянку? – спрашиваю, чтобы самовольством не заниматься.
– А кто кашеварить будет?
– Я на часок. Я раньше вас оттуда прибегу – успею приготовить.
Степан Осипов подобную вольность встречает неодобрительно, Сергей Зинцов вообще никакой заинтересованности не показывает, а дедушка говорит:
– Ладно, поверим. Только сначала в порядок здесь все произведи.
Ох, как я в это утро старался! И ложки начисто перемыл, и чайные кружки на самодельной полочке в длинный ряд уложил, и тропинку от землянки до озера еловым веником размел. Куда скука девалась! Откуда расторопность взялась!
Старой мерой
Сухая осень – большие дороги. Прибитые сапогами и колесами, грязные просеки становятся проезжими, от затяжного бездождья опадают глубокие озера, обсыхают топкие болота, по которым, может быть, десять лет никто ходить не отваживался.
Лесным рабочим погожий сентябрь по всем статьям улыбается. И на делянке тепло, и день для работы не короток, и ноги от сырости не преют, и комары не кусают. А к жердяным нарам лесорубам не привыкать: когда крепко устанешь, то и на поленьях спится куда слаще, чем на мягкой перине. Эту истину я вечером узнал, а утром вся дума – поскорее бы на делянку попасть.
Дома не раз доводилось мне с отцом разные колышки, завалявшиеся трухлявые доски пилить, но с корня рослое дерево валить – тут еще покумекаешь, с какой стороны к нему подступиться, каким манером по стоячему дереву пилу пускать. И верится и не верится, что сладишь с такой задачей. Потому, наверно, и не терпится попробовать. А коль браться, тут уж на попятный двор проситься некогда. Какой же после этого ты работник! Кто-то промолчит снисходительно, кто-то улыбнется легонько, кто-то скажет «мало каши ел», а Ленька – завсегдашний друг мой Ленька, тот и в глаза может посмеяться, если Сергей не остановит, и мальчишкам на деревне расскажет, что из меня такой же пильщик получился, как оглобля из кнутовища. На придумки Ленька великий мастер.
Кривая, еле заметная между деревьями, пересыпанная песком, отмеченная пожухлыми травами и сухим лишайником, виляет туда-сюда тропинка. Сколько их с той поры исхожено! – луговых, полевых, пореченских, а та, давняя боровая, с поломанным в низинах папоротником, с темными пятнами растоптанной на следу голубики, с густым запахом багульника, до сих пор отчетливо вспоминается.
«Лесом частым и дремучим,
По тропинкам и по мхам…»
сами собой рождаются в памяти строчки вынесенного из школы стихотворения. От них и моя тропинка становится такая же дикая, как сказал поэт, и стволистая чаща надвигается глуше, и растревоженные мысли бегут быстрее.
– Гу-у-ук, – обрываются строчки перекатистым гулом тяжелого падения. Земля под ногами вздрагивает, качаются вершины деревьев.
– Гу-у-ук!
Это уже совсем близко. Слышен треск ломающихся сучьев. В просветы между желтых стволов проглядывают белые березы. Одна… другая… третья. Целый берестяной островок замаячил перед моими глазами. Хвоя потеснилась, расступилась по сторонам, уступив белому хороводу просторную круговину.
Весела в однотонном бору береза, да не к месту. Среди сосен, укрепившихся на сыпучих песках, ее редко встретишь, а чтобы на большом пространстве хороводы водить – тут что-то и совсем не так. Бывает, что по берегам лесного озера или вдоль ручья пойдут березы выстраиваться в ряд одна к одной, иногда вперемешку с хрусткой ольхой, иногда с малорослыми ракитами. Но в самой чаще бора?!
…Хочешь, не тогда, мальчишкой, когда самому за диво показалось, а сейчас, через много лет, расскажу я тебе, почему так бывает?
Очень любознательным, больше нас в наши годы сведущим, до всего дотошным вижу я тебя, молодой любитель природы, живых и сказочных приключений, походного костра и шоколадного мороженого. Сидя за столом над книжкой, или отправляясь в колхоз на выборку картошки, или примеривая на плечи рюкзак для очередного похода по родному краю, представь себе такого размаха бор: прямо пойдешь – беглым шагом двое суток через него шагать, направо– за три дня еле одолеешь, а налево – и за четыре не управишься. И нет во всем бору ни одной березки.
Дальше представь, хочешь – старую, двухручную, хочешь – новую, с бензиновым моторчиком пилу, а то и добрый пяток электропил на лесосеке. Появились они в бору – загудели, зашаркали, проложили широкие полосы, словно стригальной машинкой тут и там прошлись. А лесничий нерасторопный был: поленился на свежих порубях молодые посадки сделать. «Бор бором и зарастет», – подумал он. – «Овца жеребятами не ягнится, и от сосны только сосна получится», – решил сам про себя, и поехал докладывать главному, что у него на участке по всем статьям порядок: сосны спилены, бревна увезены, на свежей порубке дружно зеленая молодь пустилась.
А главный тоже неторопливый был, голубые очки носил. И в бумагах у него тишь да гладь, да божья благодать. Докладывает подчиненный – приятно, приглашает на лесосеку посмотреть – значит, все в порядке. Будь что не так – и не вздумал бы приглашать, на свою голову беду накликивать.
Так он и рассудил, как здесь написано. В перегородку локтем постучал – дал помощнику указание, как свежими материалами старый доклад подновить.
Узнали об этом березы – распушили крапчатые сережки, потихоньку с ветром сговорились: «Подуй, ветер, на тот лес. Да посильнее!»
А он и рад стараться: полетел, зашумел. Куда тебе за четыре дня не дошагать, там он часом успел, где двое суток по дороге топать – получасом управился. Засыпал сосновую порубь березовыми чешуйками.
За вертячие пески береза не удержится, но там, где сосна побывала, рыжие иголки растеряла, кустистой травой обросла – там березовому семечку самое приволье. Быстро гибкий росток дает. Оглянуться не успеешь – вся порубка зелеными листьями подернулась. С густым березняком и упрямой елке спорить не под силу, а хрупким сосновым хвостикам из-под зеленой крыши и совсем на свет не выбраться. И пойдут по красному бору разрастаться белые хороводы.
Хороша кудрявая береза и глазу приятна. И в хозяйстве ей почет немалый. Она не то, что осина, которая «не горит без керосина». Береза и на стул хороша, и туесок берестяный плечи не ломит. Из витой березы мужик добрые оси к телеге вытесывает, и в печи она жарко горит – одному лишь дубу уступает, и красивые песни про березу поют, а дома все-таки из сосны рубят. Первейший строительный материал в наших лесах – сосна. Потому заботливый лесник тщательно красный бор оберегает, березе площадь не уступает…
Наши пильщики тоже, оказывается, белоствольными в низинке занялись, тремя парами по большому хороводу разместились.
Обхожу сторонкой ближних ко мне двух Степанов, держу равнение на дедушку Дружкова с внуком. Для меня эта пара более привлекательна. Возле нее, да еще рядом с Зинцовыми, чувствую я себя уверенней, чем в соседстве с двумя Степанами.
Очутившись за кустом можжевельника, прячу под него свои желтые кожаные голицы. Хороши они, да слишком приметливы. По осенней ярмарке в таких гулять сподручно, а дрова пилить и постарее годятся. Нравились, когда дома примеривал, а в решительную минуту застеснялся.
– Не мотай пилой! Пускай ее от ручки до ручки свободнее, – прислушиваюсь к наставлениям Никифора Даниловича, которым и он внука подбадривает.
Зря говорят, что у пильщика лишь бы силенка была. И сноровка, видать, тоже требуется.
– Не зажимай пилу, как в жимах! Легче ее пускай. Проворнее назад бери, – всякий раз повторяет Никифор Данилович, когда новое полено, клонясь, вот-вот готово отскочить от плахи.
Серая, рубашка деда, свободно перехваченная тонкой тесьмой, на плечах так и ходит, мелькают туда-сюда широкие рукава, присыпанные свежими опилками, подрагивают стриженные «в кружок» густые, прошитые сединой темно-русые волосы. Обтрепанная шапка-ушанка вороньим гнездом прилегла на комлистый пень, весь усыпанный бугорчатыми каплями сладкого сока. Прохладное солнце не блестит в них, зажигая алмазные огоньки, а тихо, сочувственно, по-стариковски оглаживает со всех сторон рассеивающимся мягким светом.
Вдоль дружковской полосы из конца в конец рассыпаны звеньями тяжелой цепи березовые кругляши, заведен «обал», как говорят в нашем заречном краю лесорубы. А у двух Степанов белая цепочка уже бугорком вырастает, подсказывает, что хотя и торопился я вслед за артелью на делянку попасть, а не так-то уж быстро собрался. «Может, лучше было бы совсем не приходить?»
Долго стоял я за можжевеловым кустом, над спрятанными красивыми голицами, порываясь и не решаясь оставить свое убежище. На делянке кашеваров не бывает: явился – покажи себя работником, докажи, что и у тебя «руки– не крюки», не лыком к плечам привязаны. Докажешь – тогда и улыбнуться можно, не сдюжишь – печально будет на других улыбающихся смотреть. На смену недавней смелости явилась непрошеная робость, непонятная стесненность и растерянность.
Так бывает порой с нетерпеливым учеником в ответственный момент экзаменов: стоит он за дверью экзаменационной комнаты, подгоняя время, когда можно будет перед экзаменаторами уверенный отчет в своих знаниях толково развернуть. И теряется вдруг, сбивает шаг без уважительной причины, услышав громко произнесенную свою фамилию. И затвержденные формулы из головы улетучиваются, и дверь в кабинет не в ту сторону открывается, и правая рука непонятно зачем двадцать раз застегивает и растегивает подвернувшуюся к случаю пуговицу на новом костюме.
На делянке экзаменационных билетов не бывает, вызов по списку не производится. До поры до времени никто твоего волнения не знает, в пильщики производить не собирается. Зато назвался груздем – тут тебе и кузов: вся артель соберется первую пробу посмотреть. От подобного внимания заранее поджилки подрагивают.
И прикидываю я, стоя за кустом, что есть еще время так же незаметно, как сюда заявился, и в обратную сторону податься. Вот она – лукавая тропинка: вперед зовет – сердце поет, к березняку приткнулась – оробеть заставила. Очень подошло бы к такому случаю изречение нашей бабушки: и хочется, и колется, и брюшень болит.
Перебираю в уме разные разности, можжевеловые ягоды тихонько ощипываю, а дедушка с делянки громко спрашивает:
– Кто там за кустом шебаршит? Подходи, не стесняйся!
И объявляет, измерив глазом высоту солнца:
– Перекур с дремотой. Отдыхай, Вовка, смена явилась! Гуляев уже на ходу лоскуток газеты на палец накручивает, сияет от удовольствия.
– Садись, Степан Петрович! – ногой подкатывает напарнику шершавый комелек. А когда Осипов нацеливается присесть – с той же веселой беспечностью его откатывает.
Степан Петрович припечатывает задом пустое место, махорка из просторного кисета подпрыгивает ему в лицо, осыпает густо жиденькую белесую бороду.
– Дура чертова! – отпыхивается краснощекий Степан Осипов, поднимаясь раскорячкой.
А Степан-победитель, развеселившись от удачи, заводит навстречу приближающимся братьям Зинцовым:
– Жили-были два брательничка,
Хлебосея-аккурательничка,
Накосили они возок сенца,
Уложили посередь польца.
Ла-а-потки-то кругом верста,
А рубашка из того же холста…
Не сказать ли нам опять с конца?
– Бубен бы тебе в руки, да в балагане выступать, – отводит душу осерчавший Осипов.
Если Степан «сдобный», как величают под веселую руку Осипова, недовольство показал, Гуляев ему наперекор и того усерднее взыграл, откуда прыть взялась. Согнулся, переломившись в коленках, заколотил разлапистыми ладонями по брезентовым бахилам, словно хороший плясун по голенищам хромовых сапог.
– На полатях стог метали.
На печи колья тесали,
Огорожи городили,
Чтобы мыши не бродили,
Тараканы не скакали,
Даром сена не таскали.
Ла-а-апотки-то кругом верста,
А рубашка из того холста…
– Хватит, пожалуй. Поиграл дерьмом, да и за щеку, – спокойно высказал свое мнение дедушка.
А наша сгрудившаяся мальчишеская компания не прочь бы и еще гуляевские присказки послушать. По-ярмарочному забавно у длинного Степана получается, и песенка про «брательничков-аккурательничков» забавная. Будь с нами на делянке Костя Беленький – обязательно в тетрадку бы ее записал.
Часто друзья хорошей памятью вспоминаются, когда нет их рядом. Учится былой «охотник за сказками» в городской школе. Может, учителем куда-нибудь уедет, а может быть, снова в Зеленый Дол вернется. А Надежда Григорьевна уже не вернется. Научила нас читать, писать, считать, попрощалась над речкой Белояром – и нет ее.
В тихих разговорах (чтобы взрослые не слышали) мы с Ленькой Зинцовым снова по знакомым местам в Ярополческом бору гуляем, знаменитое «сторожевое гнездо» на сосне устраиваем, сажаем молодые сосенки на поруби, разыскиваем в ночной темноте таинственную Гулливую поляну, слушаем неписаные лесные сказки дедушки Савела. И лес, помогая свежей памяти, шумит над нашими головами похоже, как тогда, в июньские дни мальчишеского похода, и дятел вдали выбивает знакомо негромкую дробь, и проворная ящерка шныряет в траве, шелестя пожухлыми лепестками. Только переспелая черника на пружинистых стебельках, ставшая водянистой и невкусной, напоминает, что тот июнь давно миновал – сухое бабье лето стоит в бору. Только распиленные березовые стволы, осыпавшиеся ветви, на которых еще не успела завянуть огрубелая листва, говорят молчаливо, что сегодня мы не праздные гости в Яро-полческом бору.
Притихший над самокруткой Гуляев веселее прежнего оживился, когда Никифор Данилович, вооружившись пилой, кивнул в мою сторону:
– Ну, что ж, кашевар, давай попробуем!
Березу облюбовал – надо бы корявее, да не отыщешь. Вершина завалилась на сторону, по витому комлю береста потрескалась, затвердела косыми ребрами.
– Дурную одолеешь, после нее хорошая сама тебе в ножки поклонится. Давай-ка топор! Вот так делай, – обкалывает он по кругу загрубевшие ребра. – Пилу поберегать надо. На таком железе сразу зуб собьешь, – наставляет он на будущее.
Новое от старого начиналось. Зеленодольскому ли. деду в ту пору было знать, что скоро запоют на лесных делянках самоходные электропилы, в одиночку будет валить вековые сосны тихий Вовка, внук Никифора Даниловича. С такой техникой не зевай, нажимай, веселее в резу пошевеливай – любую костяную, не поперхнувшись, стальными зубами сгложет!
Наша молодость со старой двухручной канионки начинала. Здорово она молодого да неопытного мучит, зато хорошо и учит. В книжке про валку леса прочитал – ты еще не узнал, на какой минуте руки от напряжения немеют, до какой мокроты спины потеют.
– Держись за другую ручку, чтобы не вырвалась, – подает мне дедушка изгибистую, до блеска начищенную, каждым зубчиком сверкающую пилу. – А голицы где?
Пилу настоящие пильщики всегда на полный мах пускают, чтобы на всю длину работала, ручками о дерево пристукивала: в голицах руки легонько пришибает, а гольем и синяки на чиколотках можно набить, и до крови суставы разназить.
– Там оставил, – отвечаю смущенно и не совсем понятно, боясь указать на можжевеловый куст. Очень уж нарядными наградила меня мамка голицами, разве только самому бывалому лесовику они к лицу, а мне совсем некстати.
– Возьми пока эти, – подбрасывает Сергей Зинцов обшитые холстом мягкие Вовкины варежки.
– Ноги пошире расставь, а к дереву поближе придвинься, – присматривается, подсказывает дедушка.
– Пилу крепче держи, а то на шею бросится! – пугает оробевшего Степан Осипов.
– Спину покруче изогни, руками до песков дотягивайся, – не обращает внимания дедушка на смешливые выкрики. – Заводи легонько.
С первым же махом Степан Гуляев, раскачиваясь туда-сюда, протяжно заприговаривал:
– Ты пили, пили, пила.
Ты отточена и зла,
Да покорствуй силушке
Пильщика Вавилушки!
Есть у меня горячее желание немедленно доказать, что «Вавилушка» тут совсем ни к чему, а пилу, как нарочно, в стволе зажало – не протащишь.
– Вырубай, пока к березе не приросла! – допекает длинновязый.
– Это тебе не в лапту шариком стрелять, – подсыпает сдобный.
Креплюсь, помалкиваю. У Вовки Дружкова глаза навыкате, слезы по щекам ползут серенькими букашками. Растирает их грязным кулаком, смотрит на меня жалобно. «Вот уж, думаю, ни за что не заплачу! Хоть сто самых обидных прибауток выдумывай!»
– Заторопили пилу, наперекос пошла, – не сердится, спокойно объясняет дедушка. – Придется другой раз заново начинать. Пилу не нажимай, легко и ровно пускай. Она сама возьмет, сколько следует.
Перенимаю науку. Легко ручку в сторону Никифора Даниловича пускаю, ровно и плавно ее на себя беру.
– Так, так! Не торопись, всему свое время.
Похоже на то, что дело на лад пошло. Пила не дребезжит, а посвистывает, заныривает блестящим полотном в крутую древесину. И руки, чувствую, дрожать перестали.
– Теперь нажмем!
Дедушка вдруг бойким молодчиком встрепенулся. И я на добрый зов горячим усердием отвечаю. Веселее запела, заиграла, застукала проворными ручками по березе остро наточенная, на полный мах разлетавшаяся пила. Желтые опилки на землю, на траву, на бахилы светлыми струйками так и брызжут.
Ленька Зинцов, загоревшись, подскочил на подмогу.
– Давай, давай, не задерживайся – я сам подрублю! Пошел топором работать. С одной стороны пила березу, не задерживаясь, точит, с другой – приятель мой усердно и сочно тяпает. Дохнула, зашевелила береза густолистой вершиной: раскачивается тихонько, то отпустит пилу, то, назад отклоняясь, прижмет ее. Тут на силу не надейся, момент лови! Прислушиваюсь, когда дедушка ручку пошевелит, без слов его команду угадываю.
– Пошла, пошла! – на весь лес загорланил Ленька, отскакивая в сторону.
Как ей не хотелось! Она еще раз выпрямилась перед тем, как упасть. Вздрогнула, качнулась легонько и, набирая скорость, с шумом и треском рухнула всей громадой, взметнув кверху осыпавшиеся сосновые иглы, комья земли, расшвыряв подвернувшиеся под ствол поленья.
Это я такую огромную, такую сувилую уронил! Даже не верится.
А дедушка хлопнул сзади ладонью по плечу, кашлянул:
– В нашем полку прибыло. Не робей, кашевар, из тебя выйдет толк!
– А бестолочь останется, – не удержался, ввернул-таки насмешливое словцо Степан Гуляев.
Ленька, отправляясь на свою полосу, подрягал над головой пальцами.
– Пильщик, не роняй нашу марку!
Работать на пару с Никифором Даниловичем было не так чтобы очень легко, но все-таки приятно. Роняя деревья, он так всем пластом их укладывал, что и без козел, поддерживаемые поленьями и перекладинами, они всегда на весу держались, пилу не зажимали.
И было у дедушки такое словцо, от которого и обмякшие руки сразу крепчали.
– Веселей! – крикнет неожиданно, когда тяжелое полено начнет клониться, готовое отскочить от длинной плахи. Тогда уже совсем не уследить, с какой быстротой пила мелькает, одно «тук-тук» беспрерывно в ушах раздается.
Любил дедушка, чтобы полено от плахи чистенькое, без малой защепины отлетало. Тонкие обломки на концах, которые у нас лычами называются, терпеть не мог. «Не пильщики, – скажет, – здесь работали. Пильщики такого сраму не допустят». И когда пила не успевала лыч отмахнуть, он всегда сердито лаптем его отбивал. И у меня интерес явился, чтобы без лыча полешки на землю пускать. И рубашка вдоль спины давно сырая, и в глазах серые кружочки мельтешат, а все стараюсь быстрее пилу руками подталкивать.
– В одну залогу без малого сажень накатали, – присаживаясь «прохолодиться» на ветру, прикинул дедушка на глаз дровяную россыпь. К погонным метрам, к непонятным кубометрам он привыкнуть никак не может и, затвердив накрепко сажени и аршины, прикидывает всю работу на старую мерку.
За переводчика у деда Сергей Зинцов. Так подсчитывает:
– Погонная сажень, это, примерно, три и семь десятых кубометра получится.
– По рублю без гривенника?
– Девяносто копеек за кубометр.
Дальнейшие подсчеты Никифор Данилович самостоятельно продолжает.
– Три по девяносто, это будет… это будет, – прикусывая и отпуская бороду, вслух решает он задачку на устный счет. – Это будет два семьдесят. А десятые как?
– Десятые всего шестьдесят три копейки стоят.
Денежные дела нас, младших, мало интересовали. Считай не считай, тебе в карман больше гривенника на семечки не перепадет.
– Три тридцать три, – распустив сдвинутые у переносья брови, вывел окончательный результат Никифор Данилович. И сам удивился:
– Три тройки сложились. Такой счет на редкость получается! Счастливое число!
Перед обедом дедушка святого креста с молитвой всевышнему на лоб себе не кладет, чертей и леших только в сказках признает, от сельского попа в сторону отворачивается, а в три тройки, как в добрый знак, верует.
– Примета хорошая, – говорит мне одобрительно. – Удачливым в работе будешь. И заработок для начала недурной!
– На троих поделить – все тройки поодиночке разлетятся, – улыбается Сергей Зинцов.
– Ничего не разлетятся. Три единички получится – опять тройка – не уступает дед, будто у него из рук пойманное счастье отобрать хотят. – Причисляй к своим кашеварским рупь одиннадцать, – говорит мне строгим тоном.
Степаны про «рупь одиннадцать» услыхали, тоже в чужой дележке живое участие приняли. Любят в голове деньгами шевелить. С малолетними любителями пилы да колуна у них простой разговор: «Помоги – и обратно беги». Удивляются на дедушкину щедрость, прикидывают:
– За девяносто копеек в городе килограмм хорошей колбасы можно купить – во как сыт будешь целый день! – отмеривает Степан Осипов ладонью на высоте подбородка. – Остальное на пряники.
– А что ему пряники! Пряниками маленьких ребятишек кормят, – не дает своего согласия на сладкое Степан Гуляев. Прищелкивая костистым пальцем над выпирающим острым кадыком, он предлагает употребить деньги на какие-то капли, о которых Осипов даже слышать не хочет, немедленно обращая внимание на сизый нос своего напарника.
– От живительных-то капелек вон какой звездой он у тебя засиял!
– Али шутки не понимаешь?!
– Дурная шутка. И не к месту, – завязывая Вовке до крови сшибленный палец, сказал Сергей Зинцов.
Не вникая в спор, которому моя первая сажень дров причиной, объясняю дедушке Дружкову, что у нас дома почитать нечего, надо бы какую-нибудь книжку купить.
– Почитай отца с матерью, – наставительно замечает дед. – А деньги понапрасну на ветер не бросай, за них спину ломать приходится. А рупь с копейками, я скажу, чтобы не брал – это по твоей доброй воле заработаны.
Добрый дедушка Дружков, и строгий тоже: от насмешки зашипит, не за свое дело берешься – предупредит. Из всех советов у него постоянный и главный: с правильной стези не сбивайся!
– А теперь отправляйся кашу варить, – напомнил он.
Веселым и богатым, бесконечно счастливым возвращался я к землянке памятной тропинкой. И ноющая боль в руках была приятной, и потная рубашка прохладой свежила спину, и красивые голицы, в которых лишь по ярмарке гулять, теперь нисколько меня не смущали.