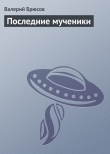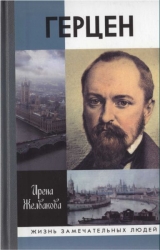
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц)
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И ДУШЕВНЫХ БОРЕНИЙ
Это много больше, чем земля и небо, это – любовь.
В. Гюго
Герцен поставил этот эпиграф из стихотворения В. Гюго «На морском берегу» к письму «другу Наташе» 5 декабря 1835 года, когда его чувства были в смятении, когда он всячески хотел переубедить ее, душу свежую, высокую, в излишне поэтическом восприятии его «раздвоенного» характера: там «есть свет земного огня – много яркости, но дым, но копоть, но мрак с ним неразрывен».
Три недели назад, в письме от 12–15 октября 1835 года, он уже поставил мучивший его вопрос: «Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дружба?»– но потом заколебался, отступил.
В период бурного романа с Медведевой он искренне клялся сестре «в вечной дружбе и симпатии» и в том же письме (от 12–15 октября) сомневался и не верил: только ли дружба их отношения? На страшный вопрос отвечал: «Я не верю».И в то же время невольно отдалялся от Натали. Полагал, что она «придает ему много своего», иными словами, идеализирует его, напрасно создает, культивирует образ своего героя.
Он страшился любви. Она исковеркает его. Чувство либо потухнет, либо сожжет его. Сама «мысль соединить свою жизнь с жизнию женщины обливает его холодом». Он долго не писал ей, потому что не освободился еще от своего дурмана бешеной влюбленности. 12 ноября Рубикон еще не перейден, «теперичная жизнь дурна», но она продолжается.
«Опостылели мне эти объятия, которые сегодня обнимают одного, а завтра другого», – невольно признается он Наташе 5 декабря, хотя выражается достаточно отвлеченно. Читая их переписку в огромном томе, вышедшем в свет более столетия назад [25]25
Герцен А. И.Сочинения и переписка с Захарьиной: В 7 т. Т. VII. СПб., 1905.
[Закрыть], можно предположить: любовный опыт с Медведевой им исчерпан и дело идет к развязке.
«Мне понадобилась душа, а не тело. Мысль любви высочайшая, отстраняющая все нечистое, мысль святая, любовь – это всё, ибо сама идея есть любовь, самое христианство – любовь. Чувство потрясающее», – продолжает он в смятении свои признания сестре 5–12 декабря. Очевидно, на этом убеждении строятся его дальнейшие отношения с далеким идеалом.
Для Герцена она – дева чистоты. Он – романтик, поклонник Шиллера, его верный оруженосец с юности придает Наташе небесные черты «девы из чужбины, о которой мечтает» поэт, или вдруг представляет Дантовой Беатриче. Возвышая до небес, восхищаясь юной Натали, одновременно обороняется от чрезмерности земного увлечения.
Герцен открывает себя для близкого человека, равного другу Огареву, и одновременно всячески отдаляет Наташу, набрасывая черные краски на свой, вовсе не идеальный, психологический портрет: «Чрезвычайно пламенный характер и деятельность были у меня соединены с чувствительностию. Первый удар, нанесенный мне людьми, был смертный удар чувствительности; на могиле ее родилась эта жгучая ирония, которая более бесит, нежели смешит. Я думал затушить все чувства этим смехом – но чувства взяли свое и выразились любовью к идее, к высокой мысли, к славе. Но еще душа моя не совсем была искушена. Разврат, не совсем порочный, – порочным я бывал редко, – но разврат, какой бы ни был, истощает душу, оставляет крупинки яда, которые все будут действовать.
<…> Яд был принят – но судьбаготовила уже противуядие. И это противуядие – тюрьма. Прелестное время для души. Там я был высок и благороден, там я был поэт, великий человек. Как презирал я угнетение, как твердо переносил всё и как твердо выдержал искушения инквизиторов. Это лучшая эпоха моей жизни. Она была горька для моих родителей, для моих друзей – но я был счастлив. За тюрьмою следовала ссылка…»
Самооценка молодости. Исповедь для юной девы. Пройдя с ним вместе значительную часть пути до самой Вятки, читатель, возможно, убедился в сиюминутных, столь разнообразных и даже диаметрально противоположных оценках и ощущениях Герцена. Незаконный сын, бастард, с детской обидчивой душой: «…люди меня встретили обидой, оскорблением» (вот, расшифруем, и первый «удар чувствительности»), преодолевший одиночество в дружбе, осознавший свое лидерство в университетском сплочении идейных сподвижников. И даже тюремная эпопея для 21-летнего юноши обернулась возвышенной «игрой» в счастливое предназначение.
Герцен открывал себя, словно вытягивал глубоко запрятанные комплексы, которые в дальнейшем определят некоторые его поступки и формы общественного поведения.
В Вятке, как он выразился в этой своей исповеди Наташе, «душа его упала с высоты», и теперь настала пора воспрянуть, освободиться от поддельных страстей. Романтически-восторженный стиль послания включал все подобающие образы: молнию, блеснувшую сквозь рассеивающийся туман, и «огненное слово», воплощающее любовь…
Современному читателю, быть может, не по душе чрезмерно экзальтированный тон последующих посланий Герцена и Натальи Александровны, которыми они будут обмениваться в течение трех лет. Но время есть время, они юны, живут в 30-е годы позапрошлого века и, как подобает их возрасту и эпохе, романтически восторженны и наивно патетичны. В дальнейшем Герцен будет бороться с этой навязчивой тональностью своих писем, со всевозможными своими эпистолярными излишествами, постепенно отрезвляя и упрощая свой слог.
А пока Вятка, 1835 год…
В письмах Наташе этой поры чувство дружбы по мере переменчивости ощущений и настроений Герцена «затемняется» другим чувством, но угадываются и терзания от двусмысленности ситуации. Вопрос об отношениях с женщинами мучителен и коварен. «Понимаешь ли ты глупость любви, которая не ищет полного обладания предметом своим, это черт знает что! Вот тут сейчас и откроется нелепость, до которой я дошел; есть среднее чувство между земной любовью и дружбой».Кстати, все эти рассуждения – всё в том же письме о «страшном вопросе», заданном в октябре 1835 года: одна ли дружба?
Как видим, проблема – что такое любовь (и вообще психология любви) – особенно занимает Герцена. Противоречивые мысли и теоретические рассуждения об этом необъяснимом, едва уловимом феномене постоянно вторгаются в его письма сестре. Они еще понадобятся читателю в дальнейшем, при воспоминании о семейной драме, поразившей наших героев так трагически и так безнадежно.
Наташа кротка, но усматривает противоречия в его посланиях и боится за него. 18 ноября на его уверения, что будущность его ему не принадлежит и любовь – погибель для его предназначения, она может только «склониться» перед ним: «Ты еще выше стал – что за душа! До какой степени самоотвержение! С твоим огненным характером, с твоею пламенной душою – отдать себя вовсе человечеству, победить страсти, заглушить голос любви…» И тут же признание из другого его письма («Любить, – можно ли жить с моей душой, с моим бешенством без любви») вызывает у нее подлинный страх: «Александр! Когда ты забыл, что уже не свой, я напомню тебе, что ты не должен поколебать твердейшего столпа, Христа человечества. <…> Нет, погоди любить, мой Александр, докончи начатое тобою».
И если есть в этой исповедальной переписке с сестрой значительный перерыв, то все равно понятно – сумасшествие страстей не улеглось.
С конца 1835 года отношения Александра с далеким идеалом и реальной возлюбленной (двумя женщинами – «идеальной» и «реальной») вошли в критическую стадию. Наташа горестно писала в Вятку о своих опасениях относительно старшего брата Александра, Егора. Она стала замечать, что их детская дружба и бесконечная доверительность перерастают с его стороны в нечто большее, и наконец последовало предложение. Отказать человеку, другу, брату, «убитому судьбою» (пережившему трагедию измены нареченной невесты, вышедшей за другого), было не легко, но ее твердое «нет» возобладало.
Переписка Наташи с Александром всячески пресекалась семьей и по этой причине велась тайно. Яковлев и тетка Хованская только и мечтали сбыть с рук и, наконец, устроить судьбу «сироты». Появлялись и получали отказ вполне достойные женихи.
Медведева, в январе 1836 года лишившись мужа, вскоре «тверже смотрела на свое положение». «Ее взор останавливался с какой-то взволнованной пытливостью на мне, будто она ждала чего-то – вопроса… ответа… – вспоминал он резкую перемену в их отношениях. – Я молчал – и она, испуганная, встревоженная, стала сомневаться. Тут я понял, что муж, в сущности, был для меня извинением в своих глазах, – любовь откипела во мне. Я не был равнодушен к ней, далеко нет, но это было не то, чего ей надобно было. Меня занимал теперь иной порядок мыслей, и этот страстный порыв, словно для того обнял меня, чтоб уяснить мне самому иное чувство. Одно могу сказать я в свое оправдание – я был искренен в моем увлечении».
Судя по письмам этой поры, Герцен по-прежнему уверен, что не может быть «счастлив в тесноте семейного круга», что ему «нужен простор» для творчества, для жизни. Иное чувство,укреплявшееся в нем, не исключало новых признаний, клятв и угрызений совести. Он даже осознавал эти сроки перелома, которые отнюдь не были так точны. Отношения с Медведевой еще продолжались [26]26
Для завершения истории всегда важен конец. Отношения с Медведевой перейдут на деловую почву. 26 марта 1836 года Герцен напишет Наташе: «Медведева живет теперь с нами, т. е. с семейством Витберга, и у нас довольно весело». И Витберг, и Герцен немало помогут Прасковье Петровне, преследуемой Тюфяевым, оставшейся без малейших средств. В конце 1838-го – начале 1839 года Герцен занят устройством ее детей в воспитательный дом. По его рекомендации она определена на место воспитательницы в дом владимирского генерал-губернатора И. Э. Куруты. Однако доброе семейство она покинет скоро – скажется ее деловая беспомощность и нехватка образования, и тогда Герцен будет хлопотать «достать ей место» в Москве. В середине ноября 1839 года Медведева находит приют во флигеле дома Огарева, и в 1840-м она еще в Москве. В 1845 году довольно требовательная постоялица гостит у Герцена на даче в Соколове, а в 1849-м до него доходят слухи о ее жизни в тучковском доме, отошедшем после отъезда Герцена за рубеж в распоряжение Егора Ивановича. Медведева окончательно обосновывается в Москве (где и похоронена в Новодевичьем монастыре в 1860 году). Мучительное воспоминание о ней еще долго не покинет Герцена.
[Закрыть].
Он писал Наташе 10–11 ноября 1836 года: «Ровно год назад я, истощив все глупости и буйства, но не истощив души своей, вздохнул по высокому назначению, по тебе. Ровно год тому назад я торжественно окончил эту оргию нескольких месяцев преступлением и, перегорая в тысяче страстях, погубил несчастную женщину для того, чтоб найти и тут пустоту, чтоб оставить угрызения совести и, наконец, созвать с неба ангела-хранителя и воскреснуть в свете звезды восточной, в объятиях Наташи. – Ровно год– и все переменилось».
Теперь, в вятском одиночестве, ему кажется, что он любил Наташу давным-давно, еще до Крутиц. Просто не отдавал себе в этом отчета, просто хотел выкорчевать в своем сердце всякую любовь.
Глава 13В ПОИСКАХ ЖАНРА
…Вместо того, чтоб жить в самом деле, записывать прожитое…
А. И. Герцен
«Ты имеешь право спросить: что же я делаю? – писал Герцен Кетчеру 22 ноября 1835 года. – Единственная польза, которую я приобрел, – что ближе узнал некоторые части законоведения и самую Русь. Опыт – дело важное, ежели писанного не вырубишь топором, то полученного опытом не выжжешь огнем». И конечно, важнейшее – «это влечение, немое и болезненное, не к мечте, а к чему-то существующему, эта потребность любви, громко кричащая из глубины души…».
Опыт жизни открывал новое поле для творчества. О ком же писать, как не о самом себе. И как повернуть сюжет, не воспользовавшись собственным опытом… Помним, что он уже в «Гофмане» подтверждал эту истину: жизнь сочинителя – есть лучший комментарий к его творениям. Теперь он стоял перед выбором жанра. На очереди была повесть. Письма Наташе, как всегда, эти поиски сопровождали и отражали.
О замысле повести «Елена» он ей писал 21 сентября 1836 года, когда уже были завершены четыре главы: «Там являются две женщины на сцену. Елена, которой я придал характер Медведевой], это – женщина земная, это – любовь материальная, доведенная до поэзии, но до поэзии земной, и княгиня, которой я несколькими чертами дал твой божественный характер, где уже и следа нет земли, где одно небо…»
Задача, стоявшая перед автором повести, первоначально названной «Там» (1836–1838), очевидно, заключалась в том, чтобы автобиографическую реальность факта, один эпизод своей биографии преобразить художественным вымыслом в сюжет, все же удаленный от реальности. И автор старался. Повесть продвигалась туго, то шла вперед, а потом останавливалась: может быть, слишком свежо, «чтобы можно было писать». Герцен сомневался: «смело, но бедно», да есть ли у него талант к повестям. И не стоит ли ее бросить совсем. В письме Наташе летом 1837 года заключал: «Дело решенное: повести не мой род».
«Герценовское отталкивание в 1830-е годы от жанра повести происходило как раз в период становления, расцвета и полного утверждения в русской литературе, как и во всей западноевропейской художественной прозе, повести и романа, объективно-повествовательной формы», – подтверждает скрупулезный исследователь раннего творчества писателя. По тогдашнему свидетельству Белинского, «они заняли авансцену литературы, как ее господствующие жанры, где всему есть место – и жизни, и философской идее, и нравственности, и науке» [27]27
Нович И.Молодой Герцен. М., 1980. С. 325.
[Закрыть]. Белинский рассматривал это как явление, характерное для всех национальных литератур. Дух времени и господствующие тенденции, потребности развития русской литературы вызывали к жизни появление повестей Марлинского, Павлова, Полевого и, конечно, Гоголя. Герцен, начиная свой художественный путь, тоже приобщался к этому жанру. Однако неудача повести побудила его обратиться к другим формам и жанрам литературы, к поиску их синтеза.
«Записки одного молодого человека» (1840–1841), уже неоднократно нами цитируемые, несомненно, стали поворотным пунктом этого поиска. Здесь соединились две жанровые линии – биографическая, в первых двух частях («Ребячество», «Юность»), и повествовательная, якобы от вымышленного героя, в третьей части («Годы странствования»).
В конечном же счете этот особый жанр, как увидим в дальнейшем, Герцен нашел и сделал своим. Но и повести он не бросил. Они еще прославят его и через десятилетие принесут громадный успех, оставят навечно заданный им обществу вопрос: «Кто виноват?»
Уже в ранних сочинениях формируется несравненный герценовский стиль. Образный, метафорический язык, полный захватывающих каламбуров и игры слов (jeu de mots),внезапных переходов от иронии, сарказма к лирике и философским обобщениям.
Герцен прибегнет даже к стихам в исторических сценах, написанным в социально-религиозном духе, которые тогда же, в 1838-м, сам «принимал за драмы». В одной из них представлялась жизнь квакерской колонии в Америке XVII века с непременной идеей «борьбы официальной церкви с квакерами». История о Вильяме Пене, основателе Пенсильвании, явно завуалированная, должна была быть приемлемой для цензуры, а квакерство, как «религия социальная, прогрессивная», – не более чем псевдоним утопического социализма.
Отрывок «Из римских сцен» о «борьбе древнего мира с христианством», задуманный как «фантазия» в стихах, Герцен попытался написать едва заметной рифмованной прозой. И хотя ее герой – Лициний, рефлектирующий интеллигент 1830-х годов, возможный прообраз «лишнего человека» (Бельтов из «Кто виноват?»), – особых, заметных следов в творческой биографии Герцена эти драматические опыты не оставили. Более того, в 1839 или 1840 году иронично высказался В. Белинский. Герцен, передавший критику обе тетрадки своих сочинений, с затаенной надеждой ожидал похвалы, но дождался убийственного отзыва: «Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов. Я тогда с охотой прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи». Герцен «послушался» критика через много лет, когда в 1861 году для отдельного издания своих мемуаров написал «в строку» прозаическое сочинение «Scenario двух драматических опытов ЛИЦИНИЙ и ВИЛЬЯМ ПЕН».
«Жанровые переживания» начинающего писателя сплавлялись с жизненной ситуацией, одиночество ссылки – с неумеренной жаждой найти себя, раскрыться, писать, рассказывать о себе, «перебирать былое и, вместо того, чтоб жить в самом деле, записывать прожитое». Эти творческие поиски словно вели его к автобиографическим запискам, воспоминаниям, записям, письмам, дневникам.
Глава 14МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ
У нас с тобой нет прошедшего, нами должно начаться новое существование – на нас не падают пятна прошлых поколений, мы чисты и сами дадим значение себе.
А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной
Замечено верно: о грустном, тяжелом легче пишется. «Страшные события, – считает Герцен, – все же легче кладутся на бумагу, чем воспоминания совершенно светлые…»
Но пора вернуться к светлым впечатлениям вятского ссыльного. Все больше слухов о его скором возвращении в столицы. Хлопочет не покладая рук отец, рассылая нижайшие просьбы своим сиятельным, приближенным к престолу знакомым [28]28
Из-под пера И. А. Яковлева выходят не свойственные гордому затворнику и по форме, и по сути просительные письма историку А. И. Михайловскому-Данилевскому, стремившемуся, как помним, заполучить необходимые мемуарные материалы для высочайше порученного ему труда об Отечественной войне. Герцену, полагаем, детали этих обращений неизвестны. Например, 18 мая 1836 года Яковлев пишет историографу, причем на русском языке, не часто прибегая к нему в общении с людьми своего круга: «Милостивый государь Александр Иванович! Издавна доброе расположение вашего превосходительства к брату моему Льву Алексеевичу и многократные доказательства ласки вашей ко мне лично, к тому же, заметив и готовность вашу, по мере возможности, быть полезным и одолжать себе подобных: вот что служит поводом к следующей и усердной моей к вам прозбе» (так!). Далее излагались этапы жизни и служения его «воспитанника», «одаренного умственными качествами» и «отличившегося блистательными способностями». Он, Яковлев, в своем преклонном, болезненном возрасте имеет «единственное утешение» в сем воспитаннике, «ибо со дня его рождения был от него безотлучен, под надзором его воспитан в Законе Божием». «Находясь в таком горестном положении, – продолжал отец Герцена, – прибегал я писменно (так!) к предстательству графа Александра Христофоровича (Бенкендорфа. – И. Ж.),прося его повергнуть меня к стопам Государя Императора со всеподданнейшею моею просьбою о возвращении ко мне моего воспитанника, дабы я в последние дни моей жизни еще его увидел и чтобы он продолжал здесь служение под моим надзором. Но, не имея на сие мое прошение никакого отзыва, не знаю, дошло ли оное до его сиятельства».
[Закрыть]. Хлопочет, как ни парадоксально, сам губернатор Тюфяев, в конце концов люто возненавидевший своего блестящего подчиненного. Герцену трудно представить, что на высочайшее имя пошло представление о переводе его из Вятки, и это объяснялось отчасти личным побуждением «сатрапа» привлечь в свой гарем Медведеву, одержать победу над упрямившейся жертвой устранением своего соперника. Пока всё тщетно.
Разлука с Наташей укрепляет не только симпатию к отсутствующей кузине. Можно сколько угодно колебаться, предаваться любовному кружению, но ясно одно: в начале 1836-го отчетливые признания уже произнесены. Они следуют в письмах – одно восторженнее другого. Наконец он «идеологически» определяется в направлении своей дальнейшей жизни: «…всякое стремление, всякое земное чувство, всякий порыв получили значение и цель – Любовь к тебе».
«Сейчас мне что пришло в голову: Natalie значит Родина [29]29
От natale– родная (фр.).
[Закрыть]. Родина! Не высок ли смысл этого слова, соединенный с словом Александр —Мужественная защита? И все это, уверяю тебя, не случай, случая нет, везде перст Его. Это иероглиф с высоким смыслом», – рассуждает он в следующем послании своему недоступному идеалу.
Отныне целых два года их тайный роман будет на расстоянии, в письмах, и дважды в неделю, справляясь с волнением, он будет ждать возле почтовой конторы, пока не разберут московскую почту и в его руках не окажутся невесомые листки, заполненные изящной вязью знакомого почерка. Высшее наслаждение – мысль, «что письмо есть», —и оно, конечно, будет прочитано не в уличной сутолоке.
Жизнь в Вятке продолжается. Приходится улыбаться, «веселя публику пасквилями и эпиграммами». Не Гейне ли вывел простую формулу: улыбка скрывает печаль. Конечно, «улыбка губ, а не сердца». И он улыбается без явного понимания, когда же покинет, наконец, опостылевшую Вятку. Печаль другая, светлая, возникает в душе всякий раз от сознания, что есть в мире единственная – одна,и главное, общее их слово, уже сказано.
Разлука… Герцен в подробностях описал эти часы, дни, месяцы и годы ожидания в своих письмах, мемуарах, дневниках. И Наташа ждала, отмеряя своими посланиями каждое мгновение, каждую вибрацию своего чувства. «А ведь ты права, Наташа, – соглашался Герцен, – что нам нечего будет рассказывать о разлуке, потому что мы были все время вместе». Ее письма – «как чистая струя воздуха середь пыльного жара». Его письма, что особенно важно, в деталях восстанавливают всю его жизнь без нее.Сколько их – страстных, возвышенных, уводящих часто за пределы человеческого разумения (сотни писем с 1842 года), и чужими словами их не перескажешь. (Так что вновь отсылаем читателя к переписке А. Герцена и Н. Захарьиной, обнародованной издателем Ф. Павленковым в 1905 году.)
Тяготит разлука с друзьями, но есть и новые знакомцы, ставшие друзьями, – Витберг с его удивительной семьей. Одиночество – не для Герцена. Александр Лаврентьевич явился «посланником неба», он понимает его и разделяет все его сомнения и восторги. Художник готов нарисовать его портрет, да не один, и рисунок будет, несомненно, предназначен не только отцу. Наташа получит прекрасный оригинал 1836 года ко дню своего рождения 22 октября [30]30
Через множество лет и мы, живущие в XXI веке, пережившие наших героев на многие десятилетия, вглядимся в этот второй портрет Герцена, где «все видно на лице – и его душа, и его характер, и его любовь…», и подверстаем к впечатлению наших героев от представленного образа слова Натальи Александровны, воспринимаемые сегодня как своеобразный, к счастью, неоправдавшийся прогноз. «…Глядя на твои письма, на портрет… – писала она Герцену, – мне захотелось перешагнуть лет за сто и посмотреть, какая будет их участь. Вещи, которые были для нас святыней, которые лечили наше тело и душу, с которыми мы беседовали и которые нам заменяли несколько друг друга в разлуке; <…> что будут они после нас? <…> Разбудят ли, согреют ли они чье сердце, расскажут ли нашу повесть, наши страдания, нашу любовь… Как грустно становится, когда воображу, что портрет твой, наконец, будет висеть безвестным в чьем-нибудь кабинете, или, может, какой-нибудь ребенок, играя им, разобьет стекло и сотрет черты». Знакомство с этим портретом, экспонирующимся с 1976 года в стенах Дома-музея Герцена, кажется, отменило некоторые вопросы и неоправданные сожаления Натальи Герцен.
[Закрыть].
Доходят слухи об Огареве. Хотя он не слишком здоров, собирается «странно» жениться на племяннице пензенского губернатора А. А. Панчулидзева. Герцен немного ревнует, сомневается: будет ли прок… Если простое увлечение – только беда. Делится сомнениями с Наташей: «Женился ли? Никакой вести от него, а и он мне необходим, как ты: мы врозь – разрозненные тома одной поэмы». Огарев сообщает лучшему другу о своем решении только спустя одиннадцать месяцев после женитьбы, состоявшейся 26 апреля 1836 года. Верит, что, связав свою жизнь с М. Л. Рославлевой, не услышит от Герцена ни слова «неправедного укора», ибо он тот человек, который никогда не усомнится в нем. Их дружба – главное «сокровище», что вскоре подтвердит и Мария Львовна, понимающая, что ее супруг «принадлежит великому делу и своим друзьям» не менее, а может, более, чем своей возлюбленной.
В письме другу Кетчеру Герцен вновь возвращается к скептической мысли, пронзившей его тогда, на Волге, при единоборстве со стихией, на утлом дощанике, что «ничего не сделано для бессмертия»: «умрешь с своим стремлением», как своего рода Дон Кихот. Герой Сервантеса в раздумьях Герцена о назначении человека и его Деле еще займет в его жизни важную нишу. Ясно одно: при таких задатках характера «просто одним из рядовых людей» он стать не может. Ощущение избранности, мысль о благе человечества постоянно занимает его. «Сверх частной жизни, на мне лежит обязанность жизни всеобщей, универсальной, деятельности общей, деятельности в благо человечества», – размышляет он в письме Наташе.
Пока литературное поприще еще не кажется ему таким уж определенным. Особых успехов нет. Что сказать о службе?
«…Сколько лет до тех пор, пока моя служба может быть полезна?»
«…Но ведь и одной литературной деятельности мало, в ней недостает плоти, реальности, практического действия, ибо, право же, человек не создан быть писателем; письмо есть уже отчаянное средство сообщить свою мысль. Как же быть?..»
Размышления о будущем не покидают его, и постоянно встает вопрос: писатьили служить?
В тягучей череде дней ссыльного есть немало дат, против которых он мог бы отметить действительно счастливые мгновения в собственной судьбе и, конечно, творческие радости, пусть и омраченные… Когда держишь в руках свежий еще журнал «Телескоп» и обнаруживаешь на его страницах, в десятой книжке за 1836 год, свое сочинение о Гофмане – считай, первую публикацию своего художественного создания, – то в этот миг ни о каких сомнениях и неудовольствиях (кто послал издателю Надеждину? как посмели напечатать так небрежно и т. д. и т. п.) речи еще нет. Тем более что к Николаю Ивановичу Надеждину у молодых московских друзей особая приязнь. Профессор, светило Московского университета, специалист по теории изящных искусств, археологии и логике, взрастивший блестящую плеяду учеников. И Огарев, и Станкевич – в их числе. Да и Герцен не в стороне со своей «гофманиадой».
Имя Надеждина, как издателя «Телескопа», связывается с его новым потрясением. Надо жить в те времена, да еще в провинциальной глуши, чтобы представить, как простая книжка в бумажной обертке может взорвать ход обыденной жизни.
Как-то, в конце осени – начале зимы 1836 года [31]31
«Летом 1836 года» в «Былом и думах» – ошибка памяти.
[Закрыть], Герцен «спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес… последнюю книжку „Телескопа“», и в пятнадцатом номере журнала, в разделе «Науки», он обнаружил статью «Философические письма к г-же ***. Письмо 1-е». Написано даме [32]32
Письмо обращено не к Е. Г. Левашовой, хозяйке московского салона, а к С. Д. Пановой.
[Закрыть]. Подписи нет. В конце обозначено: «Некрополис 1829 г., декабря 17». В редакционном примечании сообщено, что письмо того же русского автора, которое будет иметь продолжение в следующих книжках «Телескопа», переведено с французского.
В мемуарах Герцен вспомнил непосредственное впечатление от прочтения письма тогда: «Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… Читаю далее – „Письмо“ растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.
Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски, неизвестным автором… Я боялся, не сошел ли я с ума». Имени автора он до поры не знал.
Это мировоззренческое письмо содержало завязку всех споров о прошлом, настоящем и будущем России, которые бурно развернутся в 1840-е годы. Полемика, неутихающая и поныне, обозначила позицию Герцена о «мрачной статье Чаадаева», но почти через 20 лет, в «Былом и думах»: «Долго оторванная от народа часть России прострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было что-тона сердце, и все-таки все молчали; наконец, пришел человек, который по-своему сказал что.Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. „Письмо“ Чаадаева – безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?
Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это „пробел разумения, грозный урок, данный народам, – до чего отчуждение и рабство могут довести“. Это было покаяние и обвинение…»
«Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно надобно было проснуться…»
Эмоциональный отклик Герцена на статью сохранился, когда через многие годы он взялся за мемуары. Он был разбужен, поражен открывшимися в тексте безднами. Перечитывал, восхищался, обдумывал, не соглашался. Готов был спорить с автором. Уж так ли односторонне надо трактовать прошедшее России? Ведь оппозиция в лице святых мучеников – декабристов сложилась на их веку. Неубедительно и утверждение автора о роли католичества на Западе: якобы его укоренение увело Европу вперед и дало ей возможность вырваться в развитии, оставив позади христианскую Россию. Правильно сказано: автор выплеснул в статье свою боль.А рецептов врачевания мы еще не нашли. Мы не врачи – мы боль. (Эта мысль придет к Герцену позже [33]33
Герцен, понятно, не знал о реакции Пушкина на «Философическое письмо», теперь хрестоматийной. 19 октября 1836 года, глубоко уважая Чаадаева, зная его причудливую, трудную судьбу, он взялся отвечать ему, но своего послания не отослал. Понимал положение отлученного властью отшельника. Текст пушкинского письма сохранился: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться… Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков…»
[Закрыть].)
В начале нового, 1837 года (30 января) Герцен, ни разу не упоминавший о «Философическом письме» в своей переписке, иносказательно писал Наташе, что 1837 год «явился с холодным лицом тюремщика»: «Ты, я думаю, слышала об одном происшествии в Москве от маменьки или от Ег[ора] Ивановича]… Оно дает определение всему 37 году, как кажется». И Герцен не ошибся. Автор «Письма» был объявлен сумасшедшим, журнал закрыт, Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а ректор Московского университета, цензор Болдырев – отстранен от должности.
В 1837 году Россию ждала и вовсе непереносимая трагедия. Погиб на дуэли Пушкин. Буквально через несколько дней до Вятки должна дойти страшная весть. Но в сохранившейся переписке отклик на нее отсутствует.
Их пути с Поэтом пересеклись лишь однажды. Наверняка Герцен вспомнил, как в 1826 году, сразу же после возвращения Пушкина из михайловской ссылки, они с корчевской кузиной были на томболе [34]34
Лотерея.
[Закрыть]в зале Благородного собрания и как заволновался зал, когда среди многочисленного общества выделились две необыкновенные фигуры. Т. П. Пассек записала впечатление: «Один – высокий блондин, другой – среднего роста брюнет, с черными курчавыми волосами и резко-выразительным лицом. Смотрите, сказали нам, блондин – Баратынский, брюнет – Пушкин. Они шли рядом, им уступали дорогу. <…> Пушкин прошел к мраморной колонне, на которой стоял бюст государя, стал подле нее и облокотился о колонну. Мы не спускали с него глаз…»
«Царь-властитель литературного движения», любимейший из поэтов, неизменно сопровождал Герцена по жизни. В тесной каморке их «старого» дома перед сальной свечой висел портрет кудрявого мальчика [35]35
Гравюра художника Гейтмана, растиражированная благодаря первому изданию «Кавказского пленника», в котором она была воспроизведена на фронтисписе.
[Закрыть]. Давно ли он, юноша, только что вышедший из детства, вытверживал наизусть напечатанную главу «Онегина», давно ли зачитывался романтическим «Кавказским пленником»… А затрепанные тетрадки запрещенных стихов о вольности и рабстве, которые тайно приносил учитель Протопопов, и он по легкомыслию или детской беспечности эту тайну нарушал, во всеуслышание, театрально декламируя строки о свободе из пушкинского «Кинжала».
Пройдет три десятилетия, и потаенные стихи «Ода на свободу», «Вольность», «Кинжал» обратятся в печатные листы, чтобы на берегах Темзы сойти с вольного герценовского станка.
В бесцензурной печати Герцен будет много размышлять о влиянии литературы в последекабристском обществе николаевской деспотии, «которая приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы». У нас литература – общественная трибуна, великое служение и оппозиция. А Пушкин, по Герцену, свято противостоит официальной России, этой «фасадной империи», «жестокой реакции бесчеловечных преследований».
Грозят ли России перемены? О том нет даже намеков. Остается ждать и надеяться на поворот собственной судьбы.
Нежданная новость поразила как гром среди ясного неба. Великий князь путешествует по России. В Вятку едет наследник, а с ним Жуковский. Василий Андреевич Жуковский, Поэт, которого он почитал с юности, зачитываясь его стихами и переводами «Одиссеи» и Шиллеровой «Орлеанской девы». Василий Андреевич Жуковский, ближайший друг Пушкина, еще несколько месяцев тому назад проведший трагические часы у постели умирающего Поэта. Жуковский – Учитель, наставник, ментор, пестующий своего воспитанника, наследника престола Александра Николаевича. Он, несомненно, внушит будущему царю многие гуманные идеи. Герцен судит не только «по добродушной и вялой внешности» великого князя, которая все-таки выгодно отличалась от вида его венценосного отца, всем своим обликом выражавшего «узкую строгость» и «холодную, беспощадную жестокость», но и по тем последствиям, ожидавшим Вятку при его посещении.
В 1837 году в крае затеяли Выставку естественных и искусственных произведений Вятской губернии. Конечно, не без повеления сверху: устроить подобные экспозиции во всех городах и весях, оказавшихся на пути наследника в Сибирь. Был учрежден Особый комитет из общественных лиц под председательством купца 1-й гильдии М. Рязанцева. В двухэтажный дом наследников купца Гусева – место проведения выставки – стали завозить всяческие «земные произрастания», разные мануфактурные и промышленные изделия из металлов, дерева и прочее, в общем, всё произведенное руками.
Потрудился и Герцен, проявивший себя талантливо и как экспозиционер, как бы мы выразились теперь. Хоть и ворчал, что «проклятая выставка» на его шее, но работал усердно, организовывал, классифицировал, располагал все означенные произведения по разделам.
На открытии выставки 18 мая, как ожидалось, присутствовала высокая делегация, в которой помимо цесаревича и В. А. Жуковского был историк и статистик, преподаватель наследника, Константин Иванович Арсеньев. И вот теперь ссыльный предстал перед ними в качестве проводника. Едва ли нашелся в этой толпе невежественных и заискивающих чиновников тот, кто мог бы сносно сделать пояснения и провести по выставке сиятельную свиту. А Герцен это сделал блестяще.
Вечером был бал, устроенный в честь наследника. Как все провинциальные балы при таких неординарных случаях, он был беден и глуп, чрезвычайно пестр и неловок, как полагал Герцен. Музыкантов, мертвецки пьяных, пришлось до поры держать взаперти, а потом «прямо из полиции конвоировать на хоры». Но высочайшее посещение вызвало бурю восторгов.