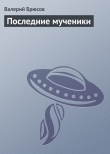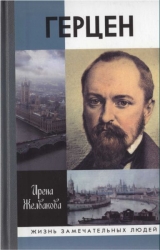
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 44 страниц)
Второго марта Наташа получила записку от Александра (и она сохранилась): «Я не знаю, билось ли сердце у тебя в половине второго; я здесь,т. е. К., секретно,и, след., устрой свиданье. Завтра в 9 я еду. Нынче же отдай приказ Аркадью (официант Хованской. – И. Ж.),я пришлю за ним из какого-нибудь трахтира. Завтра в 6 часов утра чтоб были отперты вороты.Рассуждать некогда, действовать».
Ожидание Герцена «у фонарного столба» на Поварской, ответ Натали, их тайное свидание поутру от семи до восьми часов в княгинином доме, – всё передано его взволнованной памятью («внутренний трепет», «крупные слезы», «несвязная речь»). Всё, задуманное ими, 3 марта 1838 года свершилось и осталось яркой, памятной точкой, вехой его биографии. Следующая решительная дата «их действительного бракосочетания», 9 мая, не заставила себя долго ждать. Однако и два месяца для влюбленных – большое испытание.
Тем временем владимирская ссыльная жизнь с мечтами о воле, о любви шла своим чередом: государственная служба, редактирование порученных ему «Приложений» к «Ведомостям», встречи с благоволящим к нему губернатором. Однако тайный полицейский надзор вовсе не снят.
К совершенному домашнему отшельничеству он постепенно привыкает и доволен собой. Читает, перебирает старые письма, находясь в плену воспоминаний. Ждет новых посланий от «ангела Наташи». Посылает вести вятским друзьям. Пишет им обо всем понемногу. Быт его вполне устроен. Квартира у Золотых ворот «довольно велика и удобна; но нечиста до бесконечности». Еда нейдет в горло, хоть отменную провизию доставляют из дома. Тут уж всякой всячины не перечислить. Головная боль продолжается. («Сильные приливы» и в дальнейшем будут мучить Герцена.) Это мартовское письмо к «подснежным друзьям» полно воспоминаний: «Пожалуйста, подробней пишите – и дым Вятки Герцену сладок и приятен, извините, что не сказал отечества, отечество мое – Москва».
Начиная с приезда во Владимир, в свободное время он пересматривает и вновь оценивает свои прошлые сочинения. Как всегда, обсуждает их с Наташей. Сколько рукописей, книг ей послано, сколько советов дано. «Заочное» образование, bella scolara,прекрасной ученицы с таким учителем, несомненно, продвинулось, кругозор ее расширился, перо окрепло. Круг ее чтения определен, готовится полный план ее занятий: здесь первое место отведено «поэзии (религия с ней неразрывна)» и, понятно, преобладает Шиллер. Потом «история – это поэма, сочиняемая Богом», и напоследок романы.
Она получит труды Александра «К „Симпатии“» (статья о Полине Тромпетер) и «I Maestri», предназначенные для задуманного им автобиографического цикла [38]38
Автобиографические опыты Герцена 1830-х годов переплетаются между собой. Отзвук вятской жизни под началом губернатора Тюфяева слышен и в других сочинениях, в том числе в не дошедшей до нас повести «Его превосходительство» (Собрание сочинений. Т. 21. С. 535).
Многое из написанного им пропало или осталось в разрозненных отрывках. Большая часть рукописей при отъезде Герцена за границу погибла в Москве на Сивцевом Вражке, в доме его брата Егора. В 1872 году Т. П. Пассек разыскала здесь разрозненные листы ранних сочинений писателя, уже упомянутую повесть «О себе» и др.
[Закрыть]. Само слово «симпатия» приобретает в герценовском кругу 1830-х годов особый, философский смысл: оттеняет духовное родство, взаимное притяжение. И Герцен, со своей стороны, тоже ощущает на себе это особое к нему внимание.
Статью «I Maestri», отражающую значительный опыт, им высоко ценимый, где годы 1833, 1835, 1837-й отмечены важными встречами с поэтом И. И. Дмитриевым, A. Л. Витбергом и В. А. Жуковским, читают Жуковскому при большом стечении гостей на вечере в московском салоне Е. Г. Левашовой. Экземпляр речи при открытии Публичной библиотеки в Вятке «вымаливают» люди и вовсе посторонние, с симпатией вспоминающие о пребывании ссыльного в их родном городе. Так, во всяком случае, рассказывает сыну Луиза Ивановна.
Конечно, Герцен понимает, что Натали чересчур пристрастна даже к его творчеству: «Каким же образом ты воображаешь, что мои статьи могут сделать влияние… – по этим статьям, как по предисловию, могут заключить, что из писавшего что-нибудь выйдет, не более». Весь мир не может на него смотреть ее глазами: «Мир и люди смотрят не на душу», а на талант.
Прошлые литературные опыты подвергаются им обструкции. О «Германском путешественнике» замечает, что «статья имеет большую важность как начальный признак перелома». Ну а «Легенда», которой прежде был так воодушевлен, вовсе не может «взойти в биографию». Аллегория «Неаполь и Везувий» – просто «вздор»: «Вообще я писал аллегории тогда, когда дурно писал». Как истинный талант, он не перестает сомневаться: может следует всё сжечь…
Есть и достижения. По просьбе Наташи он пополняет свою биографию все новыми эпизодами. Продолжает писать «О себе». Призывает и милую невесту взяться за свою историю, восхищаясь ее талантом.
Герцен доволен, что закончил свою «архитектурную мечту» – «Кристаллизацию человечества»: «…эта статья, сверх нового взгляда на зодчество, важна потому, что я основными мыслями ее потряс кого же? – Витберга… я глубже проник в историческую структуру его искусства. Статья эта ему и посвящена». Считает, что «Кристаллизация» – «бесспорно, лучшее», что выходило из-под его пера.
Значительный труд, сохранившийся лишь в трех небольших фрагментах («У египтян более гордости…»; «…есть высшая историческая необходимость…»; «…говорить о домах под лаком в Голландии…»), – результат серьезных занятий архитектурой под влиянием долгих бесед с Витбергом. Да и как понять архитектора, его грандиозный замысел (храм Христа Спасителя) и так блистательно изложить его в «Былом и думах» без профессионального, последовательного знакомства с началами архитектурной науки.
Размышления о создании связной автобиографии постоянно занимают его, добавляя в копилку мемуариста все новые опыты собственной судьбы.
Глава 16«БУДТО МОЖНО РАССКАЗЫВАТЬ СЧАСТЬЕ?»
Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем…
А. И. Герцен. Былое и думы
Развязка истории приближалась. Середина апреля на дворе. Герцен, воспользовавшись чужим паспортом, снова наведывался в Первопрестольную. Строил планы встреч. В Загорье? В Царицыне? На пути из Владимира, в девяти верстах от Москвы, у Перова трактира? Одной Наташе во Владимир ни в коем случае не следует ехать. А может быть, стоит? Необходимо все тщательно подготовить. Собрать для венчания бумаги, что оказывается вовсе не просто. Метрическое свидетельство Наташи – у княгини. Нельзя достать в Консистории новое, – пробовать в церкви Иоанна Богослова, где ее крестили. Все средства хороши. Занять побольше денег. Купить на Кузнецком Мосту подвенечное платье, простое, но изящное и воздушное. Накупить всякого «дамского снадобья». Самому подготовить подарки. Готовить два: «…это цветы, и другой – не скажу». Если за деньги не удастся обвенчать, «последнее средство – ехать в Шую» (?!). «Нет, не совсем решено». Фантазия разгулялась. Последние наставления Кетчеру. При первой возможности, как только свидетельство в руках, – послать за шафером и скакать им вместе с Наташей во Владимир, вызволив ее из дома княгини. В скверную погоду – поберечься (это приказ!) – известное дело, не приучишься к нашим дорогам.
План похищения невесты?.. Романтическое приключение?.. Да, это у Яковлевых в крови. Как тут не вспомнить Ивана Алексеевича, бежавшего через границу с юной Луизой, будущей матерью Александра, да еще переодетой в мужское платье… Обстоятельства и характеры, конечно, разные. Но каковы одержимость, бесстрашие…
У Герцена зреет очередной план: всего лучше прислать свидетельство во Владимир (неужели целым «синклитом» друзей невозможно его достать?) и ждать его самого в Москве. Если друг Сазонов не достанет коляски, то он непременно наймет карету.
Может быть, славная жена его университетского приятеля Николая Астракова, Татьяна Алексеевна (с которой только познакомился), удостоверит рукописной запиской («почти равносильной свящ[енниковой]»), что на попечении ее живет девица Захарьина? Друзья с Плющихи, уж верно, не оставят. Не подведут. Предоставят свой дом для переезда Наташи. Татьяна Алексеевна тихо скажет княгине: «Я приехала за Натальей Александровной». Княгиня Хованская ей откажет, а старик Яковлев попросит сына не делать «неосторожностей».
В конце апреля, кажется, все готово для венчания. Но дело не слаживается, и Герцен подгоняет себя: «Вперед!» Искать средства обойтись без свидетельства. Парфений, архиепископ Владимирский и Суздальский, разрешить не может, но «сквозь пальцы будет смотреть». Необходимо свидетельство от крестившего. Деньги обещаны, но Сазонов что-то не торопится.
Герцен взывает к друзьям: «Клянусь, я гибну и задыхаюсь; ежели сколько-нибудь вам дорог друг Герцен – теперь пособите».
В ночь на 1 мая Матвей скачет в Москву. Герцен уверен, что «через сутки всё начнет действовать». Он в нетерпении, страдает и волнуется. Его «опьянение продолжается». Он «не может ясно и чисто связать две мысли». «Полтора месяца неусыпных трудов». И опять осечка. Священник отказался.
Шестого мая, в пятницу, Герцен, заканчивая письмо Наташе, наконец подводит черту: «Конец переписке». Наступает пора не писать, а говорить. И в тот же день Наталья Александровна чувствует то же: «Может быть,этот листок заключенье нашей жизни в письмах».
Начинается жизнь реальная, жизнь вдвоем. И читатель, «догадавшийся сердцем», вновь открывает «Былое и думы».
Седьмого мая Герцен тайно едет в Москву, за Натальей Александровной. На следующий день он с «лихорадочным беспокойством» уже ждет Кетчера у друзей Астраковых. Недолгая дорога с Плющихи на Поварскую: Кетчер с Наташей отправляются за Рогожскую Заставу, где с коляской должен ждать Матвей. Николай Астраков возвращается домой, чтобы подтвердить нетерпеливому жениху – похищение удалось. Ожидать «полицейской погони со стороны княгини»?.. Вряд ли. Она просто «из спеси не замешает квартального в семейное дело», – уверен Герцен.
Восьмое мая – день особенный в герценовской судьбе. Он спешит к Перову трактиру на условленное место и находит Наташу с Николаем Христофоровичем.
Так случилось. Они вновь встретились на кладбище. Опять все приметы романтической истории… Прошло ни много ни мало – почти четыре года с того дня на Ваганькове, когда «юная утешительница» поддержала Александра в «самую черную эпоху» его жизни, после ареста Ника. Есть линия их общей судьбы. Она вновь делала свою отметку. Провидение вело.
Девятого мая поздно вечером они повенчаны протоиереем Иоанном Остроумовым [39]39
Запись о браке сделана в книге Николозлатовратской церкви, Остроумов был протоиереем этого храма. Поручителями были: губернский секретарь М. К. Ломидзе, помощник правителя канцелярии владимирского гражданского губернатора и переводчик правления, губернский секретарь Н. И. Татаринов (со стороны Герцена); советник правления, коллежский асессор П. П. Модзолевский и титулярный советник К. П. Петров (со стороны Натальи Александровны). В «Былом и думах» Герцен рассказывает о двух шаферах на венчании, не называя их имени – офицере Уланского сибирского полка [Богданове] и служащем губернской канцелярии [Модзолевском]. Оба – выпускники Московского университета.
[Закрыть]в маленькой церкви Ямской слободы, что в трех верстах от «Богом хранимого» города Владимира.
БЕЗМЯТЕЖНЫЙ ПРИЮТ «ВЕНЧАЛЬНОГО ГОРОДКА»
…Жизни май цветет один раз и не больше.
Ф. Шиллер
Поселились молодые в маленькой квартире из трех комнат у Золотых ворот в самом сердце Владимира. «Весть о таинственном браке разнеслась по городу». Многие проявляли участие и интерес к столь необычной красивой столичной паре. Друзья поздравляли. Жена губернатора Куруты, Юлия Федоровна, давно привечавшая ссыльного, прислала новобрачным цветы. Они и сами нанесли ей визит. Посетили святейшего архиерея Парфения, столь участливо отнесшегося к молодым.
В тот же день, 10 мая, Герцен решился писать к отцу, чтобы просить его благословения. Раз уж святое дело свершилось, старик смягчился и объявил сыну «полное прошение». В доказательство «амнистии» приложил даже некое денежное вспомоществование в государственных ассигнациях.
Всем друзьям, московским и вятским, разосланы письма-отчеты, благодарности за счастливый исход судьбы. «…Поневоле рвется слово спасибное», – пишет он Николаю Астракову. Далее продолжает: «Что о себе сказать – я счастлив, это дело решенное и известное. Но вот что для меня ново. Гармоническое, стройное бытие мое теперь разливает во мне какую-то новую силу, аминь минутам убийственного desperatio [40]40
Отчаяния (лат.).
[Закрыть], аминь ломанью тела душою. Имея залог от провидения, совершив все земное – является мысль крепкая о деятельности, скажу откровенно – я ее не ждал».
Правда, пока это только совместное семейное чтение (просьб о присылке новых книг и журналов – множество) да некоторые намерения и планы Александра, которые он не устает обсуждать с друзьями. Хочет изучить арабский язык, потому что думает отправиться на Восток: «Велик Восток, но мы его не знаем». «Мы европейцы слишком надеемся на свое, а Восток может дать много. Страна мысли почившей, фанатизма, поэзии, неужели не даст еще раз своей лепты в дело европейское, которому она дала много…» – рассуждает он в письме математику-интеллектуалу Астракову.
Круг его интересов по-прежнему широк. Вот прочитана недавно вышедшая книга французского историка А. Токвиля «О демократии в Америке» (1835), утверждающая, что «две страны несут в себе будущее: Америка и Россия». Он усомнился в приоритетах: «Но где же в Америке начало будущего развития? Страна холодная, расчетливая. А будущее России необъятно – о, я верую в ее прогрессивность». (В дальнейшем, когда будет решаться вопрос о его натурализации, он назовет далекую Америку «страной забвения», даже будучи точно уверен, что не может когда-либо там обосноваться.)
У Герцена – новая роль женатого человека, и он в бесконечной эйфории: хлопоты, «кейф». Как полагается молодым и счастливым, он дурачится, веселится и просто наслаждается одиночеством вдвоем. «Наташа – поэт безумный, неземной, в ней все необыкновенно», – восторгается Герцен женой. Но внешне она не столь оживлена, еще «дика», не произносит имя Бога всуе и «не любит смех». К тому же, увы, здоровье ее слабое: «Моя жена из papier mâché, раза три была больна, чуть ветер дунет – простудилась». И это обеспокоенный муж пишет друзьям (Астраковым) через два с небольшим месяца после женитьбы. «Порядок» в доме, по наблюдению Александра Ивановича, вовсе «не торжествует» [41]41
Слова эти, очевидно, Герцен подберет в мемуарах из позднего своего лексикона, когда будет писать заголовки к статьям в «Колоколе» («Порядок торжествует»).
[Закрыть]. Особой хозяйственности у молодых супругов не замечается, хотя архиерею Парфению на заданный им вопрос о важности умения солить огурцы Наташа отвечала положительно.
Новая жизнь с ощущением бесконечного счастья представлялась беззаботной и одновременно серьезной. И казалось, так будет всегда.
Время словно замерло. Гармония, спокойствие, блаженство… Тут и слово «рай» вполне уместно. Тишина семейной жизни поглотила их целиком. Не надо было стремиться вперед и вперед, чтобы достигнуть друг друга. Счастье, известно, не наблюдает часов. Счастье, как не нами сказано, плохо поддается описанию. Неслучайно, что владимирская глава герценовских мемуаров, распадающаяся на два самостоятельных фрагмента, не столь длинна и наполнена ассоциативными воспоминаниями совсем о другой жизни, без неё.
Сильно огорчало и даже удивляло молчание Огарева, безвыездно пребывающего в имениях отца с молодой женой. Ни слова, ни строчки, ни отклика, даже на их с Наташей женитьбу. Наконец, доходят известия: едут. Мария Львовна скоро будет в Москве, и дорога приведет их во Владимир. В герценовском дневнике появится запись: «Одного недоставало для полного блаженства – Николая, и с ним свиданье было в марте. Он пробыл у нас с Марией 15, 16, 17, 18. 19-го я проводил его».
Александр в восхищении от приезжих, сообщает тут же Николаю и Татьяне Астраковым: «Друзья, мы бесконечно счастливы! Нас четверо – и что это за женщина Мария Львовна – она выше всякой похвалы. Ник счастлив, что нашел такую подругу. У меня сохранилось распятие, которое дал мне Ник при разлуке. И вот мы вчетвером бросились на колени перед божественным страдальцем, молились, благодарили его за то счастие, которое он ниспослал нам после стольких лет страданий и разлуки. Мы целовали его пригвожденные ноги, целовались сами, говоря: „Христос Воскрес!“». Вся эта выспренняя сцена, о которой Герцен вспомнит потом в «Былом и думах» как о примете восторженной юности, «мистического настроения» и времени его всепоглощающей любви ко всем на свете, после иного развития событий в супружеском тандеме – Ник – Мария, уже не будет выглядеть столь торжественно-сентиментально, как в том письме.
Через 15 лет, постфактум, Герцен-мемуарист гораздо более сдержан в описании «святого свиданья», подмечает даже то, что прежде не хотелось заметить в тщеславной супруге Ника: ее удивление происходящим, ее трезвость в «этом упоении» дружбой и – ни единой слезинки, как у остальных троих. Он думал тогда, «что это – retenue [42]42
Сдержанность (фр.).
[Закрыть]», но Мария ему как-то потом призналась: сцена ей показалась слишком «натянутой и детской».
Взглянув с симпатией и преувеличенным восхищением на жену друга, он вынужден будет в дальнейшем жестоко разочароваться. Противоположность вкусов, характеров, интересов, ее пристрастие к мишуре и богатству не могли не принести Нику множество бед. Он любил и страдал. Общие друзья сразу ее раскусили: чужая всем. Герцена она не только боялась, но и ненавидела. «Завистливая ревность» вела ее к странному желанию. «Во мне, – писал Герцен, – она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх – дружба или любовь,как будто им нужно было брать верх». Четыре дня вместе с другом, которого не видел четыре года… Чего же еще было желать? Оставалось только одно – ждать разрешения главного: Наташа была беременна.
Еще зимой 1838 года эта счастливая тайна открылась. И новость о скором появлении на свет нового члена их семьи прибавила ощущение нового счастья. Герцен сохранил в памяти это свое, еще неизведанное дотоле, чувство будущего отцовства. А между тем нечаянная радость раскрыла совсем иные глубины души, породила упования и надежды, неизбежные опасения и тревоги за будущего младенца: «Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает, из эгоизма двух она делается не только эгоизмом трех, но самоотвержением двух для третьего; семья начинается с детей».
День рождения первенца приближался, и всё свершилось в назначенный срок. 13 июня 1839 года, 12 часов утра. На свет появился мальчик, новый Шушка – Александр Герцен II. Место рождения – город Владимир, светлая точка в их судьбе.
Очень помогла роженице добрая Прасковья Андреевна Эрн, предусмотрительно присланная Иваном Алексеевичем для решения проблем своих непрактичных детей. Роды прошли удачно. Счастливый отец, удивленный чудом такого божественного явления на свет, хотел было взять младенца с подушки, но не смог. Руки его дрожали.
Всё – вынесенная борьба, счастье родительницы, благорастворение матери в своем создании – в дальнейшем переносило его воспоминанием к знаменитым художественным шедеврам. Представлялась мадонна Ван Дейка, образы Сикстинской капеллы.
Как же отметился Герцен в этой своей новой роли отца семейства? О его непрактичности в молодые годы потом с улыбкой расскажет мемуаристка: встретит его на Невском проспекте вынимающим из кармана вместо носового платка раскроенные детские распашонки, по рассеянности захваченные из дома.
Герцен-отец останется на прекрасном портрете. Редком, неожиданном, мемориальном. Часто ли встретите в истории живописи образ молодого мужчины с ребенком на руках? Хотелось бы, чтобы портрет написал Витберг, когда судьба вновь свела старых друзей в Петербурге. Уж слишком в манере художника он сделан. Но, увы. Пока не случилось авторство доказать [43]43
По имеющимся источникам, Витберг получил высочайшее разрешение о выезде из Вятки 15 октября 1839 года. Герцен сразу же ждал его во Владимире, радовался возможности скорой встречи (сведений о ней поканет. Курсив мой. – И. Ж),но переезд художника в Петербург задерживался из-за финансовых трудностей. В марте 1840-го он еще в Вятке и вернулся в столицу, где часто встречался с Герценом, в конце мая – июне 1840 года. Шушке в то время было около года, а на полотне – изображение примерно полугодовалого младенца.
[Закрыть].
Герцен на портрете – очень домашний. Еще очень красивый. Высокий лоб, слегка волнистые темно-русые волосы, ясные серые глаза. Отороченный мехом бешмет (дань восточной моде) накинут поверх белой рубашки с краснеющим пятном галстука. Будто в последнюю минуту перед выходом из дома ему вдруг страстно захотелось взять на руки своего Шушку. И тот, в длинной рубашонке с высоким гофрированным воротничком, наподобие испанского, крошечной ручкой уцепился за руку отца. Художник точно уловил момент единения двух родственных созданий.
Герцен понимал, что судьба младенца зависит теперь от него и что на отца возложено святое дело – вырастить человека. «Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитать одногоребенка». Каким он будет? В волнении «от огромности дела отцовского», стоя на коленях и молясь, он повторял: «Господи, помоги нам исполнить великое дело воспитания, помоги поставить его на путь правдивый (хотя бы с этим и были сопряжены тяжкие несчастия земной жизни)!»
Мысль об ответственности за детей, необходимость «таланта терпеливой любви» заставят Герцена создать для себя свой, очень разносторонний кодекс воспитания, которым будет руководствоваться всегда, но, увы, как увидим в дальнейшем, его грандиозные усилия полностью не оправдаются.
Жизнь за речкой Лыбедью, в прекрасной, удобной квартире, куда молодые после долгих поисков переехали еще в сентябре 1838 года, оставляла надежду, что «май» их счастливого бытия скоро не пройдет. Безмятежный приют «венчального городка» казался им вечным, хотя увезти его с собой из Владимира они не смогли.
Глава 18ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ С ВЛАДИМИРОМ
Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где, потерянные между лугов, мы так ясно чувствовали и весну природы, и нашу весну…
А. И. Герцен. Былое и думы
Надежды на скорое возвращение в Москву заставляли Герцена действовать. Губернатор Курута, добрый друг герценовской семьи (его супруга – крестная мать первенца), прежде, следуя незыблемым должностным инструкциям, регулярно сообщавший куда следует о наблюдении за поведением поднадзорного («ведет себя хорошо», «весьма хорош»), теперь бомбардировал вышестоящие власти ходатайствами о полном прошении подчиненного. Обратился к министру внутренних дел графу А. Г. Строганову. Тот, в свою очередь, испросил разрешения у А. X. Бенкендорфа. 16 июля 1839 года – свершилось. Царь собственноручно начертал резолюцию: «Согласен». Но «привет» из столицы дошел до ссыльного только 26 июля: «Свободен».
1839 год развивал охоту к перемене мест (Москва – Владимир – Москва – Владимир – Москва – Петербург – Москва – Владимир…) – и всё для того, чтобы наконец обосноваться в Москве безнадзорным, полностью свободным гражданином. Но история обретения воли всегда не проста. Отец настаивал: служить и продвигаться в чинах, хотя сам Герцен уже давно сделал свой выбор. Его нижний чин титулярного советника заставил Яковлева на редкость быстро и умело действовать, чтобы продвинуть сына по чиновничьей лестнице. Богатства и связей в высшем свете и правительственных кругах старому аристократу не занимать. Вот и пленнику семьи не оставалось ничего, как подчиниться воле отца, хотя бы в этом его желании. Тем более что владимирский губернатор уже вышел с представлением Герцена к чину коллежского асессора. Да и финансовые соображения при разросшейся семье были немаловажны. Следовало ехать в Петербург и начинать необходимые хлопоты. Но прежде – в Москву, хоть на несколько дней.
Владимир не отпускал вплоть до последней декады марта 1840 года. И. Э. Курута ходатайствовал об определении способного и достойного подчиненного на должность чиновника особых поручений, и Герцен, возвратившись во Владимир за семьей, в Москве обосновался совсем ненадолго. С 23 августа до 1 октября 1839-го обустроился в своем любимом Приарбатье, в Гагаринском переулке (в доме княгини Гагариной), что в двух шагах от родителей. Пока еще не огляделся, не пришел в себя, «не понимал себя в Москве». Писал супруге губернатора, Юлии Федоровне Курута, бесконечно волновавшейся за трудный переезд Герценов в старую столицу: «…Слишком много и чувств, и воспоминаний, и мыслей, и знакомых улиц, и пыли, и колокольного звона, и новостей – и все это в ужасном беспорядке сыплется на голову… Впрочем, дурное впечатление пройдет, большие города – это большие поэмы, надобно вчитаться, чтоб постигнуть поэзию Данта, так и Москва – поэма немного водянистая… с пробелами, но лишь только приживешься, поймешь поэму в 40 квадратных верст».
Вжиться в Москву недолго. В старой столице есть чем заняться, есть что посмотреть и с кем повидаться. Вот и бросается он во все тяжкие. После тихой владимирской заводи Наташа, часто остававшаяся с Шушкой одна, вынуждена была привыкнуть к «социабельному» существованию мужа и разделить его с друзьями и знакомыми, среди которых – немало новых. Здесь литераторы Иван Галахов и Василий Боткин, здесь и непревзойденный мастер сцены Михаил Семенович Щепкин. С ними Герцен сблизится в начале 1840-х, когда окончательно осядет в Москве.
Главное событие – приезд Огарева. Нежданно-негаданно явился он где-то в середине сентября 1839-го, «и Москва расцвела». Ник, как всегда, своим необъяснимым «симпатическим влиянием», своей кротостью и совестливостью завораживал окружающих. Герцен, даже в ущерб себе, всегда признавал преимущества друга, высокую бескорыстную чистоту его устремлений. Хотя от критики не удерживался: «Слабость характера и лень – вот тифон твоей души, это наказание тебе за твои чудные достоинства».
В московский круг знакомых, помимо старых друзей – Кетчера и Сатина, все еще бывших возле Огарева, теперь вошли новые люди. Кометой ворвался в жизнь Герцена Виссарион Белинский. И тут уж спорам не было конца.
Проштудировав Гегеля, что было непременной модой у всех молодых интеллектуалов 1830-х, переведя на русскую почву его философемы (и тут уж заслуга Московского университета), никто не смел признаться, что не знает немецкого философа-диалектика и хотя бы не перелистал его «Феноменологию духа» или «Логику». Белинский был не из тех. Взявшись за дело со всей основательностью и страстностью критика, готового подорвать все заржавевшие устои литературно-философского мира, он глубже всех среди русских освоил Гегелево учение.
Герцен не раз потом вспоминал эти феноменальные интересы и занятия когорты интеллектуалов в глухие годы николаевского застоя, когда перед ним предстала новая Москва. Казалось бы, ничего не сделав, они совершили неизмеримо много для развития русской общественной мысли.
«Друзья Станкевича были на первом плане, – писал Герцен в „Былом и думах“, – Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.
Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству – невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны.
<…> Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников – Станкевич.
Станкевич, тоже один из праздныхлюдей, ничегоне совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский».
В университетские годы из-за разницы направлений – абстрактно-философского и заостренно-политического, кружки Станкевича и Герцена, как помним, не слишком идейно ладили, да и симпатии между ними не наблюдалось. Теперь предстояло эту стену разрушить, что было не просто.
Личное знакомство Герцена с Виссарионом Белинским произошло в конце лета – начале осени 1839 года, незадолго до возвращения герценовского семейства во Владимир (30 сентября). Вериги службы не были с него сняты: он чиновник особых поручений при владимирском гражданском губернаторе. Тогда Герцену не удалось вволю поспорить с Белинским, тоже уехавшим из Москвы. Суть расхождений была слишком значительной и очевидной, чтобы все решать на ходу. К тому же время и новые публикации критика в «Отечественных записках» давали повод для продолжения резкой полемики и вызывали серьезные размышления о поколении.
Герцен писал в середине ноября 1839 года Огареву, настоятельно советовавшему ему познакомиться ближе с философией Гегеля: «Ни я, ни ты, ни Сатин, ни Кетчер, ни Сазонов… не достигли совершеннолетия, мы вечно юные, не достигли того гармонического развития, тех верований и убеждений, в которых бы мы могли основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать. <…> Сколько раз, например, я и ты шатались между мистицизмом и философией, между артистическим, ученым, политическим, не знаю каким, призванием. <…> Грех нам схоронить талант, грех не отдать в рост, иначе мы ничего не сделаем, а можем сделать, право, можем. <…> Подумай об этом и пойдем в школьники опять, я учусь, учусь истории, буду изучать Гегеля, я многое еще хочу уяснить во взгляде моем и имею залоги, что это не останется без успеха. <…> Кончились тюрьмою годы ученья, кончились с ссылкой годы искуса, пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического. Между прочим меня повело на эти мысли письмо Белинского к Сатину (с которым я, однако, не вовсе согласен, Белинский до односторонности многосторонен)…»
Суть вопроса в спорах сторон заключалась в тезисе Гегеля, выхваченном из его трудов: «Все действительное разумно».
Герцен объяснил, что эта философская, «дурно понятая фраза Гегеля», наделавшая всего больше вреда и на которой «немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии… сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла:
„Нет власти, как от Бога“». Все сводилось к непротивлению, «к признанию предержащих властей», а человеку оставалось одно – сидеть пассивно, «сложа руки».
Белинский «проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы».
Герцен парировал: «Знаете ли, что с вашей точки зрения, – сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, – вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?
– Без всякого сомнения, – отвечал Белинский и прочел мне „Бородинскую годовщину“ Пушкина.
Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. <…> Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал „Бородинской годовщиной“».
Восторженный отзыв Белинского о стихотворении Пушкина и других его «патриотических» стихах в подтверждение своему ложному тезису о необходимости примирения с действительностью (временное заблуждение вскоре будет ясно и самому критику) вызвал резкое неприятие Герцена. Несмотря на безоговорочное преклонение перед памятью поэта, он не мог согласиться с его трактовкой событий вокруг Польского восстания 1831 года, подхваченной тогда большинством общества.
Встреча и спор Герцена с Белинским в Петербурге между 18 и 23 декабря 1839 года лишь усилили и обострили непримиримость противников. «Отчаянный бой» разразился с новой силой. Цикл статей критика в журнале «Отечественные записки» конца 1839-го – начала 1840 года и, в частности, «Бородинская годовщина» (1839, № 10) стали результатом этой резкой полемики.
Тридцатого декабря перемирие еще не достигнуто, хотя взгляд критика несколько «смягчился»: «Умный, добрый, прекрасный человек, но если б Бог привел больше не видеться – хорошо бы».