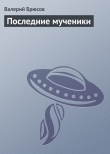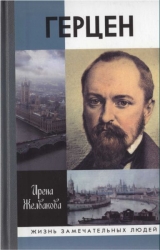
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
Герцен постоянно следил за студенческими возмущениями, разгоравшимися в Петербурге все с новой силой. Аресты не прекращались. До 13 октября 1861 года в Петропавловскую крепость заключено несколько сот студентов. На стенах крепости, как считал очевидец, следовало написать – «Петербургский университет».
Среди серии авторских заметок Герцена: «Петербургский университет закрыт!», «По поводу студенческих избиений», «Третья кровь!» и других, особо выделялась статья – «Исполин просыпается!», развернутая в «Колоколе» 1 ноября 1861 года.
«Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. – задавался вопросом издатель. – Сказать вам куда?»
И это был призыв молодежи к организованности, целенаправленному делу: «Прислушайтесь – благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра, растет стон, поднимается ропот – это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В народ! К народу! – вот ваше место, изгнанники науки…» Призыв будущего идеолога теории народничества, прежде уже высказывавшегося на эту тему, представлялся более радикальным. Время и революционные события в России требовали от издателя не отставать, подталкивали к новой, более решительной тактике поведения.
Мысль о создании тайного общества в России созрела у его организаторов, участников молодежных кружков, которыми во множестве обзавелась невская столица, возможно, под влиянием чтения «Письма из провинции» и определенной надежды на его публикатора в «Колоколе».
В середине августа 1860 года к Герцену в Лондон уже приезжал А. А. Слепцов, будущий лидер «Земли и воли». Но в «крупном деятеле» прошлого он не усмотрел «путеводителя нового движения», казавшегося ему безнадежно отсталым и просто, как он выразился, «непригодным». Правда, эта оценка Слепцова относилась к более позднему времени, а тогда, продолжая надеяться на советы Герцена, прежде чем браться за дело организации, он вновь отправился в Лондон в конце января – начале февраля 1861 года. Встречен был в доме «великого изгнанника» с большим вниманием, но конкретных результатов свидание не принесло.
Слепцову запомнились слова Маццини, с которым познакомил его Герцен, что «близость русской революции указана ему многими русскими», и главный его совет – «организовываться». Эти слова были переданы Слепцовым Чернышевскому при первой их встрече в Петербурге, в июне, а скорее, в осенние дни 1861 года. Чернышевский тогда, «смеясь», отозвался: «…он [Маццини] всегда предвидит где-нибудь революцию на завтрашний день».
Диалог велся в надежде получить благословение признанного российского лидера на организацию тайного общества. И оно было получено: «Что ж, это дело, – твердо сказал Чернышевский». «Как я потом уверился, – продолжал вспоминать Слепцов, – Чернышевскому именно по душе пришлось мое сомнение в Герцене и сознание необходимости нащупать почву для дела прежде, чем приниматься за дело». Не упустил он и случая, чтобы иронически отозваться о былом своем идоле как о «владельце либеральных русских сердец».
С конца октября 1861 года Слепцов занялся подготовительной работой, объединением разрозненных кружков, составлением устава, «подбором людей, которым уже и предоставить вербовку рядовых членов-пропагандистов». Сила тайного общества виделась ему в пропаганде, «исходя из ужасной темноты народной массы». К организации «Земли и воли» присоединились Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, С. С. Рымаренко, В. С. Курочкин и др. Идейная поддержка землевольцев редактором «Колокола» несомненна. Но ни о каком объединении и единстве действий двух центров – российского и лондонского, и тем более руководства из Лондона, речи нет [163]163
Ученые, специалисты темы, сразившиеся в полемике, свидетельствуют, что замыслы тайного общества в начале 1860-х годов возникали у многих лиц и только некоторые привели к созданию «Земли и воли». Слепцову удалось к середине 1862 года сплотить тайные кружки в провинции и провести переговоры с комитетами революционных организаций в Польше. 1 марта 1863 года в «Колоколе» в специально выделенной редакционной заметке сообщалось: «Мы достоверно знаем, что столичные и областные круги соединились между собой и с офицерскими комитетами – сомкнулись в одно общество. Общество это приняло название „ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ“».
[Закрыть].
Нет речи и о прямом вхождении Герцена в общество русских революционеров. В «Былом и думах» он вспомнит о своих переговорах со Слепцовым, специально приехавшим в Лондон с предложением превратить «Колокол» в орган «Земли и воли»: «Уполномоченный был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться агентамиобщества „Земли и воли“. Я отклонил это, к крайнему удивлению не только Бакунина, но и Огарева…»
Огарев сразу же включился в деятельность тайной организации, все больше склоняясь к революционным проектам и радикальным воззрениям своих молодых соратников. Активно занимаясь организацией «Земли и воли», он все более отдалялся от Герцена. Герцен, сосредоточившийся на «положительной, созидающей части» лондонской пропаганды, сводившейся к тем же двум словам – «Земля и воля»,готов был помогать («служить им я буду») при условии, что программа организации должна стать для него приемлемой и совершенно ясной. Он оставался при прежнем мнении, что не из Лондона надо руководить движением. Не было веры и в массовость общероссийского тайного общества, якобы насчитывающего даже в провинции до двух тысяч членов. «…Пусть же они докажут, что они сила», – не раз повторит он Огареву.
Несмотря на активность, спровоцированную мощными переменами в России и успехом собственной деятельности, названной им «апогеем», высшей точкой влияния, Герцен чувствовал себя все более одиноким. Ожесточались враги. Покидали друзья. Уж сколько раз он мысленно с ними прощался, уж сколько раз их разводили время и обстоятельства…
Вернулся бежавший из Сибири Бакунин («самое длинное бегство в географическом смысле»), с прежней одержимостью готовый перейти к раздуванию революционного пламени всегда и повсюду. («Страсть к разрушению – страсть созидающая», – непременное повторение прежних призывов.)
Едва добравшись до Сан-Франциско, Бакунин спешит радостно оповестить друзей: «…только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-славянскомувопросу, который был моей idée fixe с 1846…» Своими фантазиями и идеалами, своими заговорами и баррикадами он явно усугубит и так непростую ситуацию, хотя радость Герцена от головокружительной встречи с многолетним заключенным и отважным беглым каторжником бесконечна.
Герцен ожесточен. Его полемика на два фронта – с «желчевиками», «свистунами», «красными демократами» и напуганной либеральной интеллигенцией, готовой услужить власти, разъедает душу. Несомненно задет отношением Чернышевского, репутация которого очень высока. Критика «русских западников», упрекавших его в переходе на славянофильские позиции, стоит дорого. Такое словесное противоборство даром не проходит. В последнее время ему приходится читать свои мысли, искаженные или вовсе отвергнутые враждебной или «желчевой» критикой.
Трагические известия о расстрелах, смертях, арестах, приходящие отовсюду, страшно, трагически волнуют, а тут еще появившиеся угрозы – убить, уничтожить его, с кивком на тайную российскую «шпионницу».
Вздернутость ситуации, непомерный труд, когда почти в каждый номер «Колокола» приходится писать острые, разящие статьи и комментарии, не оставляют времени на обыденную семейную жизнь, да ее в общем и нет.
Глава 27ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ СПЛОТИТЬ СЕМЬЮ
Сердце мое переломилось окончательно…
А. И. Герцен – Н. А. Тучковой-Огаревой
Частная жизнь приносила Герцену столько страданий, что те редкие моменты перемирия с Тучковой можно было принять за остановку в шаткой семейной гавани, от которой он настойчиво отговаривал своих взрослеющих детей.
Поддержка Огарева, его дружба, поражающая своей чистотой и бескорыстием, ответственность без вины виноватого, и все же берущего на себя груз этих непереносимых страданий, порой кажутся невероятными. Вот листает Николай Платонович корректуру отдельного издания «Былого и дум», ту главу, что о нем, о них, о святых Воробьевых холмах, и не может, «не перечитавши, отпустить последнего листа», – от него «повеяло такой весной». «Что мы остались верны друг другу и нашей святыне… от этого мы не состарились еще и можем работать», – пишет он однажды ночью. Письмо, возможно, Герцену и не отдаст. Но мысль, что он внес в жизнь друга такие «страсти и страдания», без которых тот «был бы светлее», что его «благословение» сближению с Натали возникло из «темного чувства личной свободы» и прочее, преследует его. Только узнав, что Наталья Алексеевна беременна, он испытывает «новый страх перед усложнением жизни». И только непомерная любовь к Лизе спасает его «от мучительного сомнения в собственной чистоте».
Десятого декабря 1861 года Тата Герцен уклончиво сообщает Марии Рейхель: «У Натали родилось двое детей, ты, верно, уже знаешь. <…> Во время ее болезни, я за Лизой смотрела, заменяла ей Натали». «…Мне так хотелось тебе писать и все рассказать, но в этом останавливало меня то, что я не могла послать тебе письмо, не показавши Папаше, а часто мне не хотелось, чтобы он его читал, потому что речь шла бы о самом Папаше и об других людях». Все вопросы о детях родители Натали, естественно, обращают к Огареву, и он с удовольствием пишет в Россию о счастливом их подрастании.
Рождение близнецов – Алексея и Елены ненадолго смягчило Тучкову. В 1866 году она записала: «Во всех моих несчастиях мне было послано от жизни несказанное утешение – в 1861 году родились 23 ноября мои близнецы „Лёля-boy“ и „Лёля-gerl“, так они звали себя сами – три года я не расставалась с ними…»
О появлении на свет близняшек пока знали немногие, хотя теперь было труднее скрыть, кто их отец. При регистрации рождения Алексея и Елены они были записаны как дети Огарева, хотя жизнь свою он устраивал заново.
Тучкова мало изменилась. Она металась, переезжая с детьми с места на место. Герцен и Огарев сбивались с ног, чтобы обеспечить ей максимальные удобства в ее постоянных перемещениях.
В ее письмах слышатся и раскаяния («я вас так мучу»), и новые упреки в нежелании Герцена официально признать их семью, и вполне практичные просьбы (о присылке денег и предпочтении «квартеры» с садом). Она не перестает выяснять и без того запутанные отношения с ними. Множество писем-исповедей, вопросов, обвинений и сожалений…
Герцен по-прежнему полон заботой о собственных взрослых детях. Они обязаны оставаться русскими и продолжить его дело. Не устает рассчитывать на Сашу. Главное – не утратить связи с Россией, не порвать семейной традиции. В этом – первая ему помощница Тата. Герцен чувствует ее художественную натуру и советует приняться за рисование.
«С каким-то религиозным трепетом» Герцен читает ей отрывок из «Рассказа о семейной драме» – о последних минутах ее матери, а присутствующая при этом Тучкова, так преданная памяти своей старшей подруги, вдруг прерывает чтение «дикой сценой». Герцен считает этот «перерыв, грубый, страшный, оскорбляющий детей», полным крахом его новых усилий сплотить семью.
Конфликт Натали с Герценом, его дочерьми и М. Мейзенбуг все более разгорается. За бурными сценами следуют новые угрозы немедленно ехать в Россию. В который раз, в горести и полной беспомощности, Герцен берется за письмо к ней, просит образумиться («Сердце мое переломилось окончательно»), готов бороться за младших детей, которых «отрывают» от него и Огарева. Он способен даже пойти на крайний шаг, думая открыть отцу Натали – А. А. Тучкову все тайны семейных отношений. Он требует у Саши «святой клятвы»: полностью сблизить старших детей с младшими, хотя бы после его смерти. Казалось бы, нет предела личной трагедии. Но главные несчастья еще впереди.
Глава 28«НАШЕ ДЕЛО – РАБОТАТЬ». ГОД 1862-Й
…Незакрывающаяся рана на сердце…
А. И. Герцен – Е. В. Салиас де Турнемир
Пятилетие «Колокола» все же решили отпраздновать. Инициатива исходила от В. И. Кельсиева, личности крайне примечательной [164]164
Этому редкому человеческому типу, этому непременному участнику пропагандистской деятельности среди раскольников, публикатору документов церковного раскола и острому наблюдателю жизни вокруг Герцена, а в дальнейшем ренегату, сдавшемуся русским властям, мемуарист посвятил целую главу в «Былом и думах». Он сделал, как всегда, тончайший анализ, я бы сказала, ювелирное вскрытие своего противоречивого героя, которого назвал «нигилистом с религиозными приемами». Представил его жизнь как историю одного из ярких осколков ушедшего поколения, обозначил его дорогу неутомимой, разбросанной деятельности и путь к предательству, раскаянию и покаянию. К Кельсиеву Герцен до крайности терпим, потому что конкретно он никого не выдал. В «Былом и думах» даже заключал, что «бросать в Кельсиева камнем – лишнее: в него и так брошена целая мостовая».
[Закрыть]. Этой весной 1862-го проделал Василий Иванович головокружительный бросок из Лондона в Москву и Петербург, причем с конспиративными целями по налаживанию контактов со старообрядцами, и, конечно, с чужим паспортом. Никак не обнаруженный русской полицией, встречаясь буквально перед ее носом с важными представителями старообрядческих общин, как ни в чем не бывало, предстал он перед Герценом в гордом сознании выполненного долга. И, конечно, со значительными амбициями уговорить Герцена на этот праздник, устройство которого Александр Иванович не слишком приветствовал. Повторял: не время, не время, стоит отложить. В России обстановка накалена. Да и соратники – друзья не особо сдержанны на язык (а бакунинская «болтовня» и вовсе таит угрозу). Неосторожного слова, реплики, жеста достаточно… И как в воду смотрел…
Собрались по подписке 1 июля 1862 года в дорогом ресторане Кюна. Герцен и прежде обедал там с приезжими и с друзьями. Известное заведение, да еще с отменной кухней (от которой не откажется и в дальнейшем, когда примет в доме Гарибальди), было взято на заметку тайными соглядатаями. При подобных сборищах всегда замешивался кто-либо из посторонних.
Особого оживления за обедом не наблюдалось. Среди приличествующих случаю тостов и анекдотов прорывались слова, что петербургский гость, приятель Кельсиева, Павел Александрович Ветошников, приехавший в Лондон по делам службы, готов взять с собой что-либо из необходимой пересылки в Россию. Конечно, это не укрылось от внимания давно следившего за домом Герцена тайного сотрудника Третьего отделения Перетца, которого держали за приятного и умного малого, импонировавшего присутствующим своими идеями и красноречием.
Шестого июля, в воскресенье, праздник продолжился. В обширном доме Герцена Орсетт-хаус (Orsett House), Вестборн Террас, куда он переехал еще осенью 1860-го, собралось еще более многочисленное общество. Ветошников, готовый завтра ехать в Петербург, конфиденциально повторил хозяину дома свое предложение. Из рассказа в «Былом и думах» можно заключить, что Огарев написал «несколько слов дружеского привета Н. Серно-Соловьевичу», а Герцен сделал не слишком осторожный постскриптум, где просил старого знакомца «обратить внимание Чернышевского» (к которому никогда прежде не писал) на возможность «печатать на свой счет „Современник“ в Лондоне».
Все письма были взяты у Ветошникова при его аресте еще на пароходе. Власти, понятно, были давно осведомлены. И документы, давшие толчок к возбуждению «Дела о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», ставшего «процессом 32-х», оказались в секретном правительственном архиве.
Огаревские «несколько слов» можно теперь прочитать как довольно обширную «беседу» со своим соратником Серно-Соловьевичем, с которым он не только делился основными положениями своей программы в трудный послереформенный период, но и давал практические рекомендации: «Мне кажется, что уяснить необходимость Земского собора становится делом обязательным. <…> Состоится ли он? Будет ли он сам чем-то переходным или действительно организует – как знать!» Особое внимание следует обратить на живую жизнь в провинциях: «Если у вас нет корня в провинциях – ваша работа не пойдет в рост. <…> Вы только в провинциях встретите народ. <…> Работайте в провинциях».
В предложении печатать «Современник» (после его временной приостановки распоряжением правительства от 15 июня 1862 года по старому стилю) не было ничего предосудительного, как считали издатели. Давно имелась в виду возможность печатания в Лондоне запрещенных российских журналов. Вопросы эти обсуждались неоднократно, и подобное оповещение появилось в «Колоколе», в листе 139-м от 15 июля 1862 года.
Бывалый конспиратор все же потерял бдительность, как сам позже терзался, позволив своему гостю Ветошникову захватить не только кипу писем, но издания Вольной типографии, и даже большую его фотографию работы Левицкого, которую отъезжающий неудачно завернул в газету. «Чтобы поблагодарить участников обеда», Герцен просил всех принять от него что-нибудь на память – и просчитался. «…Зачем мы писали?» Это «ослепленье» стоило Герцену слишком дорого. В Петербурге начались новые аресты.
Двадцать восьмого мая 1862 года в столице вспыхнули пожары, уничтожавшие целые кварталы. Месяц в столице выдался жаркий и сухой. Говорили о поджогах. Быстро распространявшиеся возмутительные листки не давали покоя Третьему отделению. Тогда же, в конце мая, в столицах появилась прокламация «Молодая Россия». Ее радикализм превзошел все предшествующие революционные призывы. Изданная под грифом несуществующего «Центрального революционного комитета», она вышла из-под пера организатора московского студенческого кружка П. Заичневского, уже отметившегося изданием в тайной литографии запрещенных сочинений, в том числе книг Искандера. Поднадзорный сумел переправить для печати свою зажигательную листовку прямо из-под носа своих стражей в Тверской полицейской части Москвы, где сидел под арестом.
Автор прокламации отвергал весь общественный и государственный строй России и рассматривал лишь единственный выход «из гнетущего страшного положения, губящего современного человека». «…Революция, революция кровавая и неумолимая, – революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы…<…>С Романовыми расчет другой! Своею кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей», – выкладывал свой яростный запал молодой нарушитель спокойствия.
Досталось и Герцену за отказ от революции, а «Колоколу» – за умеренность: он «не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже и отголоском их». Не признавались все «близорукие» ответы Герцена, призывающего звать не к топору, а к метлам.
1862 год пошел по опасной дорожке. Слухи о какой-то страшной прокламации захватили общество, да к тому же распространились одновременно с пожарами. «Молодая Россия» еще не появилась в Лондоне, а о ее зажигательном воздействии уже вовсю говорили. Стало ясным временное ослепление некоторой части общества, даже весьма приличных людей, поверивших в наветы на издателя «Колокола».
В одно не слишком прекрасное утро в доме Герцена появилась девушка, которую он видел едва ли «раза два», бурно требующая встречи с хозяином. Диалог с бывшей поклонницей его деятельности был явным сигналом «распаденья с общественным мнением, и притом в обе стороны», как посчитал Герцен после этого впечатляющего диалога, приведенного им в мемуарах.
«– Я только что воротилась из России, из Москвы; ваши друзья, люди любящие вас, поручили мне сказать вам, спросить вас… <…> Скажите, бога ради, да или нет, – вы участвовали в петербургском пожаре?
– Я?
– Да, да, вы; вас обвиняют… по крайней мере говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.
– Что за безумие! И вы это можете принимать так серьезно? <…>
– Не знаю.Я затем и пришла, что не знаю; я жду от вас объяснения…
– Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы вам сказал это, так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить… Лучше скажите, где, во всем писанном мною, есть что-нибудь, одно слово, которое могло бы оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтоб рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!
– Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? – заметила она, и в глазах ее было раздумие и сомнение. – Заклеймите печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними… <…> Верьте мне, оправдывайтесь – или вспомните мои слова: друзья ваши и сторонники ваши вас оставят.
<…> В то время как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи прощалась с нами, как с отсталыми на дороге».
В российской печати развернулась мощная пропагандистская кампания против лондонских «агитаторов». С того времени, как Герцен был назван изгнанником, «государственным преступником», его имя в России гласно не пропускалось. А тут объявился застрельщик, и всем известная, но скрытая фамилия зазвучала на все лады. Нападать на «Колокол» дозволялось официально. Творцом наветов, наговоров, клевет – в общем, инсинуаций всех оттенков стал вошедший в силу, одиозный Катков, продолживший свою целенаправленную атаку. Петербургские пожары объявлялись им делом рук молодежи, сбитой с толку революционными призывами. Деятельность «русских агитаторов, проживающих комфортабельно за морями», оценивалась как «те же поджоги»: «Или они так невинны, что не понимают, куда клонятся их манифесты?»
Если инсинуациям Каткова можно противостоять, то полный разлад с бесконечно дорогим другом Кавелиным пережить невозможно. Конечно, трудно спорили, временно расходились, но «личной дружеской связью дорожили безмерно». В книге Кавелина «Дворянство и освобождение крестьян» Герцен увидел попытку «создать из дворян класс привилегированных землевладельцев», «просвещенной бюрократии» («и это в то время, как дворянство летит под гору – рассыпается в прах»), и это в то время, как обличение русского чиновничества и дворянства, «доктринеров-бюрократов и бюрократов-кнутинеров», препятствующих начавшимся преобразованиям, остается неизменным гражданским долгом и привилегией «Колокола». Герцен был потрясен и нескрываемым пренебрежением Кавелина к народу: «Народ русский – скот и выбрать людей для земства не умеет, а правительство – умница, все знает – и какую реформу куда поставить, и кого выбрать…» Он должен был ответить.
Герцен не согласится с разъяснениями Кавелина в его частном письме, хотя общее у них главное – ненависть к революционному террору. Он считает ошибочным его памфлет, просит от него отречься, не хочет больше видеться с «сбившемся», но близким другом. И это для обоих непомерное горе. Кавелин отвечает Герцену на его письмо от 15 июня: «…для меня свидание с тобою есть дело сердца, воспоминаний, я готов почти сказать поклонения, хотя мы и стоим на разных дорогах. Повторяю, я думаю, что нас разделяют средства, а не цели… мысли твои, которые ты бросаешь мимоходом… кажутся мне программными на века».
Дружба, рухнувшая из-за идейных расхождений, – примеров такой тяжелой практики для просвещенных представителей интеллигенции герценовского времени больше, чем достаточно. Герцен, как сам сожалел, «схоронил Грановского – материально… Кетчера, Корша – психически…». Ушли К. Аксаков и братья Киреевские, «и нет этих „противников, которые были ближе нам многих своих“». И ко всему, Кавелин, этот «последний представитель московской эпохи, второй юности», которому он посвятил одну из лучших своих работ – «Роберт Оуэн», и тот потерян, и тот должен быть «прихоронен».
В начале июля «Молодая Россия» получена в Лондоне, и у Герцена есть возможность выступить публично. 15 июля «Колокол» публикует статью «Молодая и старая Россия». Не слышащему его обществу еще и еще раз необходимо повторить: с идеями прокламации он расходится. Авторы ее – «фанатики собственных идей», народа русского не знают и не хотят понять – никто не схватится за топор во имя абстрактных социалистических идей. «Нерасчетливо и вредно пугать» переворотами, – повторит он через месяц свое отречение, свое страстное предостережение от насильственных потрясений в статье «Журналисты и террористы».
Катков снова и снова нападает на Герцена, теперь в «Русском вестнике», ставшем привилегированной территорией для сокрушительного обличения бывшего своего приятеля, а ныне заклятого врага. В ответ на «Письмо гг. Каткову и Леонтьеву», появившееся в «Колоколе», Катков в «Заметке для издателя „Колокола“» обрушивается дикой бранью на «генерала от революции», «бойкого остряка и кривляку» (количество презрительных дефиниций растет в русской прессе день ото дня). Этот «подстрекатель к кровавым преступлениям» «юношей-фанатиков», который был до последнего времени «для русской литературы неприкосновенною святыней», этот распространитель «социалистических бредней с того берега»,обвинен Катковым во всех смертных грехах, в том числе и в прямом подстрекательстве к пожарам.
Герцен, как всегда, держит удар. Передовая российская общественность негодует. «Хищническим набегом на честь» называет анонимный автор «Отечественных записок» (1863, № 3) недопустимость выражений, типа «старые блудницы», «исписавшиеся остряки» и прочее, используемых Катковым в своем обличительном раже. «Это значит, – обобщает рецензент, – что сказать ничего больше они не умеют».
Непозволительный тон катковской статьи многими, даже умеренными читателями, не принят. Катков в нужный правительству момент, понятно, проявляет предусмотрительную ловкость. Даже его «Заметка…» набирается в типографии «такими клочками, чтобы наборщики не могли сообщить ничего студенчеству университета…» – свидетельствует современник.
Тревоги и страхи, охватившие русское общество, еще более усугубляют разъединение даже его просвещенной части. Некоторые, в том числе и Достоевский, оценивший глупость и ничтожность революционного листка, тем не менее видят в «Молодой России» декларацию радикалов, «нигилистов», уже выведенных Тургеневым в только что вышедшем его романе «Отцы и дети». Раздаются голоса за и против Базарова. Достоевский считает необходимым остановить радикальную молодежь, для чего даже отправляется к Чернышевскому, в надежде на его непререкаемый авторитет в этих кругах [165]165
О своих впечатлениях от встречи, произведшей на него прекрасное впечатление, Достоевский напишет в «Дневнике писателя»: «Я редко встречал более мягкого и радушного человека».
[Закрыть]. Уверен: он может повлиять на события.
Герцену припоминают все, даже прежние, брошенные вскользь, вырванные из контекста его высказывания (такие, к примеру, как в «Тюрьме и ссылке» о революционной силе воздействия пожара). Агенты Третьего отделения сбиваются с ног, пополняя списки навестивших Герцена. В связях с Герценом подозревают многих русских литераторов и деятелей культуры, не говоря об обычных сочувствующих, желающих выразить свое восхищение деятельностью лондонских редакторов. Наблюдение возле дома Герцена усиливается. В обширные списки тайной полиции конца июля 1862 года внесены лица, отныне подвергнувшиеся не только пристальной слежке, но, возможно, и будущему аресту. Среди них музыкальный критик В. В. Стасов, композитор Н. Г. Рубинштейн, писатель А. Ф. Писемский и многие, многие известные лица.
Девятнадцатого мая Герцен, еще в России оценивший талант автора «Бедных людей», постоянно следивший за всеми новинками русской литературы, спрашивал у Тургенева: «Напиши, пожалуйста, где найти мне Достоевского воспоминания о каторге». Через два дня нетерпеливый вопрос уже превращался в просьбу-приказ – прислать «Записки из Мертвого дома».
Не успел еще Иван Сергеевич ответить, как в Лондоне появился сам Достоевский. Первое впечатление после столь долгого перерыва в отношениях передано в письме Герцена Огареву от 17 июля: «Вчера был Достоевский, он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек». Оттиск из журнала «Время» с разыскиваемыми «Записками» тут же поднесен автором «Александру Ивановичу Герцену в знак глубочайшего уважения…». Еще через пару дней, при втором свидании, Герцен подарит именитому гостю свою фотографию с надписью: «В знак глубочайшей симпатии от Герцена. 19 июля 1862 года».
Достоевский не останется в долгу. На следующий день, при третьей встрече, Федор Михайлович подпишет свою фотографию Александру Ивановичу «в память нашего свидания в Лондоне 8/20 июля 1862 года» [166]166
Работа в Доме-музее и собирательство за рубежом дали автору возможность узнать о третьей встрече, о которой прежде не было известно. Через 125 лет фотография обнаружилась в калифорнийском городе Окленде, у праправнучки Герцена – Антуанетты Рист-Констабль. Об истории находки см.: Желвакова И. А.Тогда… в Сивцевом. 4-е изд. М., 2009.
[Закрыть].
Пережив эшафот и ссылку, Достоевский достаточно осторожен, и полиции, даже не знавшей о третьем его посещении лондонского отшельника, не к чему придраться.
В июле при обыске в Ясной Поляне в отсутствие Толстого будут захвачены старые письма Тургенева, а в них обнаружатся явные свидетельства о «коротких отношениях» Льва Николаевича с лондонским изгнанником. Вскоре и Тургенев будет вызван на следствие в Петербург по сколачиваемому тайным сыском «делу о лондонских пропагандистах».
На фоне всего происходящего в Петербурге, окрашенного заревом пожаров, в «Колоколе» начинается полемика двух давних друзей, выразившаяся в их незатихающем споре о судьбах России и Запада. Судя по всему, «и Тургенев дышит на ладан», в идейном, конечно, смысле. Герцен склонен и его, как Кавелина, вскоре «прихоронить». Тургенев, без сомнения, двойствен, переменчив и податлив, но в своих сочинениях гениально прозорлив, улавливает и воздух, и гарь, и дым каждой, вновь открывающейся для России эпохи. Печатается у Каткова, восхищается антикатковскими выступлениями «Колокола», и у Герцена нет ни минуты сомнений, что друг не сможет «апробовать говнословие Каткова» («но все же весело его прочесть», – бросает он в письме старому товарищу).
После майского визита Тургенева Герцен решает ему писать «авангардное письмо». Долгое продолжение возобновленного разговора займет многие страницы в «Колоколе». С 1 июля 1862 года, и на протяжении более полугода, Герцен печатает восемь писем, озаглавленных «Концы и начала». Первое из писем пишется в период их полного расхождения с Кавелиным и поэтому включает в себя некоторые идеи, связанные с общей позицией и Кавелина, и Тургенева.
Двадцать второго августа Герцен спрашивал друга, читал ли он послания к нему, «доволен ли ими, али прогневался…». Тургенев отвечал с готовностью начать полемику в «Колоколе», но остерегся, так как получил «официальноепредостережение не печататься» в Лондоне. Недалек час вызова парижского жителя в Петербург, в Следственную комиссию. В полемическом противостоянии Герцена помогли частные письма Тургенева, включенные в тексты «Колокола», порой почти дословно и, естественно, анонимно.
После революции 1848 года Герцену особенно претит «мещанская цивилизация» Запада. Ему ненавистен буржуа, лавочник, рантье, «за цене стоящий». Он в поисках особенного русского пути. Уже прорастает зерно его веры в благодетельность русской общины. Спор о буржуазии, переросший тогда, на удивление друзей-западников, в демарш Герцена против «больной» Европы, затягивается надолго.
Не уготован ли западный путь для России? Время пришло дать ответ. Собственно, речь идет о российских «началах» и европейских «концах». В Европе, уверен Герцен, – одни «концы». А как же Маццини, Прудон, все выдающиеся деятели прошедшей эпохи, которыми жива память о революционной Европе? Они фантасты, фанатики и идеалисты, они «титаны, остающиеся после борьбы». «Они остаются последними часовыми идеала, давно покинутого войска…» Они – «Дон-Кихоты революции» [167]167
Образ героя Сервантеса, эволюционировавший в публицистике Герцена и созданный в противовес Тургеневу (выступившему в 1860 году с речью «Гамлет и Дон-Кихот»), носит во многом полемический характер. В 1856 году после знакомства с работой «С того берега», где образ Дон Кихота был значительно снижен и использован в целях показа благородных, но беспочвенных и поэтому побиваемых самой жизнью «рыцарей» революции 1848 года, Тургенев ответил Герцену. Для Тургенева Дон Кихот выражает «веру прежде всего, веру в нечто вечное, незыблемое, в истину»: «Он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это – главное знание». «Жить для себя он счел бы постыдным». В дальнейших своих статьях, и главное в «Концах и началах», Герцен продолжает усиливать черты, вызвавшие отповедь Тургенева. «Тип Дон-Кихота выветривается на наших глазах, становится реже и реже, никто не думает о том, чтоб, по крайней мере, снять фотографию», – пишет Герцен. Образ героя Сервантеса многогранен, и Герцен пользуется им для характеристики деятелей разных эпох. Конечно, особое место – у Маццини и Гарибальди, «у двух величавых теней высшей вершины революционного хребта». (Они верили и боролись, верили даже тогда, «когда уходили из жизни, иногда вопреки уму».)
[Закрыть]. Герцен приводит свою известную формулу. В революцию он давно не верит.
Герцен оппонирует своему идейному противнику, убежденному в том, «что если русские принадлежат к европейской семье, то им предстоит та же дорога и то же развитие, которое совершено романо-германскими народами…».
«Общее происхождение, – полагает Герцен, – нисколько не обусловливает одинаковость биографий». «…Я не считаю мещанства окончательной формой русского устройства, того устройства, к которому Россия стремится, и, достигая которого, она, вероятно, пройдети мещанской полосой, – пишет он в заключительном восьмом письме. – Может, народы европейские сами перейдут к другой жизни, может, Россия вовсе не разовьется, но именно потому, что это может быть – может бытьи другое». Так в постоянном, недогматическом поиске верного пути развития России Герцен допускает возможность вариаций.