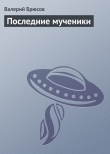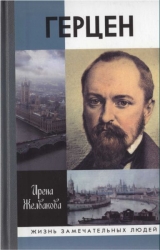
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)
Наша жизнь еще будет хороша, еще мы будем все вместе… гармония, гармония, гармония.
Н. А. Герцен – Г. Гервегу
В начале августа 1849 года русским властям, упорно выслеживающим Герцена, постоянно отдающим команду – «возвратить», все еще «не удается установить» его местонахождение. А Герцен между тем, наслаждаясь покоем и красотой Швейцарии, зовет жену и Гервега поскорее присоединиться к нему.
События конца августа – начала сентября, когда Наталья Александровна и Гервег 10 июля добираются, наконец, до Женевы, подводят к пику страстного увлечения Натальи Александровны Гервегом. Их жизни пересеклись, и символом этой высшей, «заоблачной» любви остались в ее письмах две скрещенные линии – X и / – конусообразный контур горы Дан-де-Жаман («Зуб»-горы возле Монтрё), на которую все трое поднялись во время прекраснейшей из прогулок.
Вы же не будете отрицать, что многие любовные истории часто развертываются именно в декорациях горного пейзажа. Здесь, на «театре природы», они словно обретают романтическую почву. Свобода дыхания, усилия преодоления, неестественное состояние человека, словно парящего над грешным миром, порождают бездну эмоций. Открывшиеся горизонты поглощают обыденность существования. Горы раздвигают горизонты мира. Впрочем, романтизм заповедной декорации отнюдь не предвосхищает последующее развитие событий, будь то пошлая мелодрама или отчаянная трагедия.
Наталья Александровна, бросившая вызов судьбе, начала здесь свое восхождение к страсти. Страсть обрела свой тайный символ в ее посланиях Гервегу с эмблемой их духовного единения – Л – контуром горы Дан-де-Жаман.
«Вчера мы целый день взбирались на одну из гор возле Монтрё, день был удивительный, никто даже не чувствовал устали после 14-часового марша. Это чудные дни в наше время; вообще внутри Швейцарии хорошо, нигде нет газет, никто ничего не знает, горы, горы, дикая природа и чудные озера. <…>…мне начинает нравиться это существование, отрезанное от будущего, не гадающее, а берущее все, что попало: гору, невшательское винцо, хорошую погоду и остаток поэтического созерцания в самом себе».
Так думал Герцен в пору отчаянного пессимизма, несбывшихся надежд и тяжелых разочарований в революционных судьбах мира. Высланному из поверженного Парижа приходилось привыкать к своей будущей новой родине. 3 августа 1849 года он, вместе со своей любимой женой и обожаемым ими двумя другом-«близнецом» Георгом Гервегом (пока еще другом!), совершал восхождение на Дан-де-Жаман.
Наталья Александровна не уставала вспоминать об упоительных мгновениях их прогулки. Она не смогла сдержать нахлынувших чувств, когда буквально через неделю неосмотрительно признавалась в письме жене Гервега Эмме, оставшейся с детьми в Париже: «Я наслаждаюсь в последнее время таким полным благополучием, что испытываю боль от сознания, что вас нет близ меня,тем более, что знаю, как вы одиноки и как страдаете. <…> Я хочу сказать, что люблю Георга как сестру или младшего брата; его присутствие делает меня счастливой, и, следовательно, я становлюсь лучше. Я все более и более чувствую себя вознесенной над грязными волнами жизни, и расту, и жизнь вырастает со мною, все ничтожное делается еще ничтожней, так, что его даже перестаешь замечать». В следующем письме от 20 августа, через 17 дней после незабываемого горного вознесения, с радостным возбуждением она сообщала Эмме: «О, как мне порой хотелось бы вырваться из этой паутины и улететь далеко, далеко с Гервегом! Не навсегда (не пугайтесь!) – нет, лишь настолько, чтобы позабыть обо всем остальном, это не потребовало, стало быть, много времени. И затем я снова спустилась бы домой, в лоно своей семьи. О, после подобного взлета я была бы в тысячу раз способней к роли настоящей матери и проч… Почему говорю я „улететь с Гервегом?“ – потому, что он нуждается в этом, я думаю, больше, нежели кто-либо другой».
Тут уж не могли помочь ни уверения в любви и симпатии к новой подруге, ни сочувствие «к этому благороднейшему существу», похожему «на свежую ключевую воду». Эмма затаила ревность и вкравшиеся сомнения по поводу настроений своего любвеобильного мужа еще со времени его отъезда с Натальей Александровной из Парижа в Женеву. Но в недалеком июле она не представляла всего размаха будущей драмы.
Через месяц после восхождения на Дан-де-Жаман, в конце августа – начале сентября помянутого 1849 года, путешествие было повторено в мужской компании, и не без удовольствия. Герцен отправился в Церматт вместе с другом Гервегом. Поднялись на Монте-Розу, одну из самых высоких здесь гор. Позже, в «Былом и думах», «разговорившись о горах и вершинах», уверяя себя: «Как же лучше и кончить главу о Швейцарии, как не на высоте семи тысяч футов?» – Герцен не удержался. Передавая трудности «долгого поднимания», при самом добром и подробном описании горных жителей, он отвел своему спутнику роль анонима – «товарища, ехавшего» с ним в Церматт, а глава XXXVIII из пятой части его мемуаров (в «Полярной звезде» 1858 года), пусть с оговорками, все же логически завершилась ожидаемыми словами: «Каким натянутым ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести и тишины, из двух путников, потерянных на этой выси, считавших друг друга близкими друзьями, один обдумывал черную измену?..»
А в это время, то есть реальное время действия, в отсутствие неразлучных друзей, Наталья Александровна, вынужденная остаться с детьми, предалась восторженным признаниям. На нескольких страницах записной книжки Гервега, подаренной ему женой, среди записей владельца заметен тонкий изящный почерк.
«Со вчерашнего дня все во мне проникнуто грустью, – начала свою исповедь Наталья Александровна. – Отчего же? – Знаешь ли ты меня?
Я кстати осталась одна.
Хватаюсь за эту книжку как за единственное средство спасения… Словно руку твою, прижимаю ее к своей груди…
Можно ли мне прочесть ее?.. Да, да, да, несмотря ни на что – ты мой!
И нет ничего, кроме тебя».
Четвертого сентября Герцен и Гервег вернулись из горного похода, и Наталья Александровна спешила обрадовать Эмму: «Они возвратились… <…> – обожженные солнцем, веселые и довольные, как дети, оба – милы до крайности. Право же, я иногда думаю, что общество и любовь этих двух людей могут превратить меня в совершенное существо».
Ей хотелось «жить, жить своею жизнью». Ей хотелось новых эмоций, той волшебной влюбленности, которая освещает существование человека юным, необъяснимым светом, приводит его в состояние почти безумия, заряжает невиданной дотоле энергией, заставляет совершать самые необъяснимые поступки. Быть как не все. Чувствовать свою избранность. Прибавьте к этому неудовлетворенность окружающим, идеализм восприятия и вовсе не угасший романтизм экзальтированной женщины, воспитанной на романах великой Санд, где трио в семейных сплетениях было вполне обычным и отнюдь не зазорным явлением.
Она мечтала любить страстно и безраздельно. В своей душе она взращивала эту любовь. Семейный покой после всех пронесшихся бурь и спокойная, почти святая любовь к мужу, как ей казалось, оставались незыблемы. Но это привычное, взращиваемое годами чувство сопутствовало другому, неизведанному, необъяснимому.
Пять месяцев, прожитых в Женеве вблизи Гервега, стали их общей жизнью, «все мгновения» которой стали их общими мгновениями.
«Как желала бы я разбить это тело, чтобы ни от чего более не зависеть…»
«Я начинаю верить в нематериальное существование…»
«Не надобно ни революций, ни республик: мир будет спасен, если он нас поймет.Впрочем, если он и погибнет, мне это безразлично, ты всегда для меня будешь тем же, чем теперь».
В «целую вечность блаженства», в которую погрузилась Наталья Александровна (как писала она возлюбленному через год после первых страстных признаний 29 августа – 3 сентября 1849-го), в непередаваемые ощущения полета «воскресших сил» врывались порой отчаянные нотки. Но главное, случившееся в Женеве, целиком преобразило ее: «Das Gefühl deiner Nahe [103]103
Сознание твоей близости (нем.).
[Закрыть]делало меня все более и более спокойной и счастливой… Последние годы – лучшие годы… Продолжительно было испытание… Но вот и ты! И да будет благословенно все, что было, что есть, что будет, все!..»
Что же было в Женеве? Настойчивые и ласковые просьбы Герцена поскорее покинуть опостылевший Париж, где «мещанская, полная суетности и тщеславия» жизнь уже не может удовлетворять, и обосноваться в спокойном «Hôtel des Bergues», как видим, возымели свое действие.
У Натали уже готов свой план: привлечь Гервега для обучения ее детей. Сама же она выступит в роли его учителя русского языка (примеры литературной классики, где совместные занятия сближают влюбленных, у читателя на слуху). Приезд Гервега Герцену тоже до крайности важен. Они теперь связаны множеством общих дел, изданием газеты Прудона «Voix du Peuple», всяческих творческих обязательств и поручений. Да и без общества умного собеседника, советчика, сотрапезника, в конце концов, трудно обойтись в одиночестве швейцарской «ссылки».
А между тем Герцену все больше начинает нравиться «существование, отрезанное от будущего». Альпийские горы, Монблан перед глазами и, несмотря на просачивающуюся в письма тоску, природа утешает и врачует. Грех не воспользоваться ролью старожила-чичероне и не показать приезжим славную швейцарскую столицу, а потом забраться на все эти классические Сен-Бернары, Монте-Розы и Анверы. Когда здоровье позволяет, Наталья Александровна присоединяется к горным экскурсиям неразлучных друзей.
Первого октября Герцен, Натали, Саша и Гервег отправляются в Шамуни, на гору Анвер, к ледникам. Едут на мулах, по самому краю пропасти: «…один неловкий шаг – и вдребезги». Дождь как из ведра. Грязь по колено. И представьте себе Герцена, катящегося кубарем по камням вниз, «чтобы сократить себе сход», и в результате все его «тело в огромных синих пятнах». Наталья Александровна не ограничивается описанием досадных происшествий своей русской подруге Татьяне Астраковой. Она не отрывает взгляда от Георга, «ухаживающего за горной козочкой», и чтобы как-то оправдаться перед брошенной в Париже подозрительной Эммой, уверяет ее, как всегда, в своей неизменной приязни и даже любви. Георг часто скучает, а наши герои продолжают строить планы и проекты совместного проживания двух семей.
В тот же день 5 октября, между прочими событиями, Герцен сообщает Эмме о «замечательной прогулке» и не менее замечательном выборе «дождливой, леденящей» погоды, когда из-за тумана не видно не только Монблана, но и собственных рук. Будьте уверены, что живописный пассаж, с щедрым расточительством развернутый в письме в его, только одному ему присущей ироничной манере, с обязательными каламбурами, игрой слов (здесь, конечно, по-французски), цепкая, уже пожившая рядом с Герценом Эмма способна воспринять, но ей явно не до этого.
«Мизантропия Георга приобретает новую форму: из негативного чувства она превращается в позитивное. Вы, может быть, думаете, что ненависть к мужчинам толкает его на любовь к женщинам – ничуть; в сущности, что такое женщина – это человек женского рода; нет, он впадает в козолюбие и в продолжение всего нашего путешествия на гору… подождите минутку, пойду спрошу у Саши название горы, знаю только, что это не гора Фавор и не гора Арарат, куда Ной, так и не потонув, прибыл со своей коллекцией редкостных зверей, – итак,на горе Анвернаш поэт прогуливался под ручку с молоденькой козочкой. Как жаль, думает он (и я тому нисколько не удивляюсь), что эта козочка не получила хорошего воспитания и ее покойный батюшка-козел не был букинистом, а то ее можно было бы попросить взять на себя иностранную корреспонденцию для „Голоса народов“ и коз. Кстати, он чертовски сиплый этот голос» (Герцен не удерживается от критики спонсируемой им газеты Прудона).
Однако главное заключается в том, что во время спуска в Шамуни карета опрокинулась, и «если у нас уцелели руки, ноги, носы и глаза, – весело замечает Герцен, – то тут уж вина не наша». Наташа с напускным весельем, в унисон мужу и как бы между прочим, в своем письме Эмме добавляет: «…мы все покрыты татуировкой, а у меня на лбу многоцветная шишка». Похоже, Наталья Александровна пострадала не меньше, а то и больше других, что потом аукнется на ее слабом здоровье.
В конце октября, всячески успокаивая взволнованную Эмму, которую совершенно игнорирует Гервег, притом что в их семье, помимо шестилетнего Гораса, именно в этот роковой 1849 год появилась, где-то к осени, чудная девочка Ада – «совершенство красоты и непринужденности», Наталья Александровна посылает в Париж умиротворяющие письма. «Одно лишь утешает меня при виде твоей печали, что ты, надеюсь, скоро увидишь Георга. Как ни огорчительна для меня мысль, что его не будет больше с нами, – сознание, что ты счастлива, всегда будет служить мне утешением. И потом, я надеюсь, что вскоре мы все соберемся вместе».
«Что же касается наших весенних путешествий, – далее замечает Наталья Александровна, – то ты будешь более подвижна, чем я, – моя недостаточная подвижность(курсив мой. – И. Ж.)будет полезна и для русской пропаганды, и для Таты, которая постоянно просит меня родить ей маленькую Аду». В эйфории страсти к Гервегу она не удерживается даже в письмах его жене: «Я хотела бы жить вечно, как бы невыносима ни была моя жизнь, я перенесла бы все и любила бы жизнь за возможность любить».
Возвращение в Париж, понятно, откладывалось, и не только из-за трудностей с визированием паспортов и привычных недомоганий Натали, – как в стиле советского пуританизма (когда секса не было) комментировалась сложившаяся ситуация в упомянутом обзоре ее писем Гервегу (в «Литературном наследстве»). Да и планы на будущее представлялись теперь весьма туманными. Наталья Александровна была беременна, и в октябре это для нее стало очевидным.
«Шаткая непрочность всего состояния, жизни», «это точно начало преставленья света» давали Герцену почву для тяжелых раздумий даже в письмах далеким московским друзьям: «Искать твердости в себе, удаляться – так, как делали первые христиане, – от людей, от домов… толпы едут в Америку, но они ошибутся, надобно, сидя на том же месте, уехать ото всего, а уж в Америке ли или на Плющихе – это, право, все равно».
В это же время, говоря о пребывании в Женеве (ровно пять месяцев!), Натали в своей восторженной манере писала в Москву, на Плющиху, подруге Астраковой: «Всё и все мне кажутся хуже того, что у меня дома. <…> Александр – что это за юная, свежая натура, светлый взгляд, светлое слово, живая жизнь… с ним держишься на такой вышине… в такой ширине… Потом с нами живет здесь Георг – изящнее, поэтичнее я не знаю натуры, и все мы так сжились, так спелись – я не могу себе представить существованья гармоничнее». Представление о «гармонии и счастье» соединившихся семей остается ее idée fixe.
Судя по переписке, в конце ноября Наталья Александровна еще больна. К середине декабря Натали уже справилась со своим нездоровьем после трагического происшествия, которое, возможно, усугубилось падением в Шамуни. Э. Карр в своей книге прямо утверждает, что в ноябре у нее случился выкидыш. Впоследствии, при скандальном разрыве с Герценом, Гервег позволит себе утверждать, что ребенок его. Не стоит гадать. В сущности, решение этого щекотливого вопроса так и осталось привилегией Натали. Конечно, Герцен не мог не догадываться, что отношения его жены с Гервегом зашли слишком далеко. Но пока он медлит, возможно, ни минуты не сомневается в своем, увы, несостоявшемся отцовстве. В письмах от октября – декабря все случившееся с Натали задернуто плотной завесой тайны и обнаруживается лишь намеками на нездоровье, что, впрочем, тоже не доказательство, ибо Наталья Александровна постоянно болеет.
Где-то в начале декабря, не дождавшись завизированного паспорта в Париж, Гервег внезапно уезжает в Берн. Почему? Не знаем. Возможно, избегает выяснения отношений. Возможно, огорчен всем происшедшим, подразумевая свою ответственность и причастность, возможно, хочет быть неподалеку от Натали. А может быть, просто имеет собственные планы наличную жизнь (впрямую – адюльтер), от которой он никогда не отказывался. Существуют предположения, ничем не подтвержденные, что особенно интересуется он теперь мадам д’Агу, с которой переписка не прерывается. Правда, свои страсти и романы Гервег не склонен доверять бумаге, хотя адюльтер, как он полагает, – необходимая грань счастливой творческой жизни поэта (и, действительно, классических примеров тому предостаточно).
Герценам вскоре предстоит переезд в недалекий Цюрих, чтобы определить в специальное училище для глухонемых их младшего сына Колю. 17 декабря они отправляются из Женевы и в тот же день заезжают к Гервегу. Два вечера, проведенные вместе, оставляют у Гервега чувство глубокого «проникновения душ» между ними троими, о чем он не перестанет вспоминать в письмах Александру.
Двадцать второго декабря Герцен вынужден уехать в Париж для устройства финансовых дел. Накануне, и судя по всему, в немалом смятении, Герцен беседует с женой о Гервеге. Натали, как всегда, в тайном послании, передающем ее душевную раздвоенность, пишет Гервегу: «Мы с Александром долго говорили о вас… а для меня всегда один результат: оба вы правы! Он тоже умеет любить, много любить по-своему!»
На следующий день она уже нетерпеливо призывает «соседа, ученика, друга» (эти слова написаны по-русски) приехать их навестить: «Как грустно быть так рассеянными по свету… Похороним же, по крайней мере, вместе, вдвоем, 1849 год, присутствуя при появлении 1850-го, это принесет пользу новорожденному. Бесполезно говорить, как я была бы счастлива, если б это осуществилось, однако я буду мучиться при виде тех лишений, которые вам придется здесь перенести… Не забудьте сообщить мне все новые проекты, которые Александр составит на пути из Цюриха в Берн… Расцелуйте за меня своего двойника».
Идея «двойника», «близнецов» Ландри и Сильвине, позаимствованная Натали из только что вышедшего романа обожествляемой ею Жорж Санд «Маленькая Фадетта», отныне даст простор для строительства новой жизни и ее теоретических оправданий. В поисках гармонии, откинув обветшалые представления о морали, браке и семье, фантазия Натали уже рисует контуры будущего «Гнезда близнецов». Понятно, что поэтичнейший, женственный Сильвине и полный мужественных сил Ландри, оба влюбленные в Фадетту, отождествляются Фадеттой-Натали с ее реальными спутниками.
Наталья Александровна давно готова принять подобную свободу для троих и превратиться в «совершенное существо», лишь бы пронести сквозь испытания «живую душу». Кажется, ей по нутру совершенно чуждые Герцену софизмы Гервега о «высших натурах», которым дозволено все.
Двадцать третьего декабря, заехав к Гервегу по пути в Париж, Герцен застает его за чтением корректурных листов немецкого издания «С того берега». Произнесены слова восхищения новым, несравненным сочинением Герцена; при расставании продемонстрированы знаки самой восторженной дружбы: «Сколько раз мы обнялись и расцеловались при прощании, а ведь ты вообще не отличаешься большою нежностью, особенно с мужчинами!»
Вечером Герцен с матерью уезжают из Берна, и Гервег провожает их со слезами на глазах. Герцен советует ему ехать в Цюрих. Психологически не объяснимо, почему вдруг Цюрих… Там ведь оставалась с детьми Наталья Александровна. (Впоследствии, в письме Герцену, Гервег так истолкует это предложение: «Ты понял одиночество, в котором я жил в Берне. Ты тогда пригласил меня в Цюрих».)
Через пять лет после бернского свидания, в «Былом и думах» Герцен зафиксирует момент своего прозрения, пронзившей его истины, вдруг открывшейся ему одним словом – «не-счастие»: «Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека…»
В тот же декабрьский день Натали, оставшись одна в Цюрихе, продолжит вести свой монолог откровений в письме Гервегу: «Наша жизнь еще будет хороша, еще мы будем все вместе… гармония, гармония, гармония. Это будет!»
Глава 10«СПАСТИСЬ ОТ САМИХ СЕБЯ…»
…Я чувствую непреодолимое влечение (может быть, это умопомешательство) подвергать испытанию последние узы, благодаря которым мы еще дорожим жизнью. В мыслях у меня хаос, всё в брожении, распадаются последние основы, рушатся последние прибежища.
А. И. Герцен – Г. Гервегу
По пути из Берна в Париж Герцен пребывает в состоянии крайнего раздражения. Дорога трудна, и мысли холодны. Что выйдет из всего этого?
В переписке Герцена и Гервега конца 1849-го – самого начала 1850 года еще не чувствуется слома тесных дружеских отношений, хотя в письме 1852 года Герцен заявляет, что более ясно он начал высказывать свои «подозрения» уже в декабре 1849-го.
Почему тогда он советовал Гервегу посетить Цюрих?..
Да и сам ехал в Париж прямехонько на rue de Cirque, чтобы остановиться на квартире почти брошенной Эммы, и с весьма двусмысленной миссией.
В первую очередь Герцена угнетала неясная перспектива с устройством финансовых дел, в частности, капиталов его матери, на которые русское правительство наложило свою «медвежью лапу». Это требовало его немедленного присутствия во французской столице у банкира Джемса Ротшильда. Деньги, деньги, билеты, векселя… Их необходимо спасти. У него всегда было четкое понимание их роли: «Деньги – независимость, сила, оружие». Особенно при подготовке к издательской деятельности. А тактике обращения с этим оружием Герцена обучал всемогущий банкир.
Парижское знакомство с Ротшильдом в конце мая 1848 года, его бесценные советы и могучий опыт посредничества предоставили Герцену надежный форпост для дальнейшего сражения за собственность с самим российским самодержцем.
Долгая тяжба с русским правительством в середине июня 1850 года была доведена до конца: «Император Джемс Ротшильд» умело сразился с «банкиром Николаем Романовым» и одержал победу. Потеря состояния могла бы полностью изменить политическую судьбу Герцена.
В «Былом и думах» он пояснял: «Когда я ехал из России, у меня не было никакого определенного плана, я хотел только остаться донельзя за границей. Пришла революция 1848 года и увлекла меня в свой круговорот, прежде чем я что-нибудь сделал для спасения моего состояния. Добрые люди винили меня за то, что я замешался очертя голову в политические движения и представлял на волю божью будущность семьи, – может, оно и было не совсем осторожно; но если б, живши в Риме в 1848 году, я сидел дома и придумывал средства, как спасти свое именье в то время, как вспрянувшая Италия кипела перед моими окнами, тогда я, вероятно, не остался бы в чужих краях, а поехал бы в Петербург, снова вступил бы на службу, мог бы быть „вице-губернатором“, за „обер-прокурорским столом“ и говорил бы своему секретарю „ты“, а своему министру „ваше высокопревосходительство!“
Столько воздержности и благоразумия у меня не было, и теперь я стократно благословляю это».
Деньги потребовались Герцену и для поддержания статус-кво в шатких планах семейной гармонии вчетвером (воображаемого «гнезда близнецов»). «Если билет (матери. – И. Ж.)удастся спасти, – сообщал он Гервегу, – у нас будет больше средств (у тебя ли, у меня – я думаю, в конце концов, это одно и то же)…» Позже Герцен будет думать иначе.
По письмам Герцена последних дней уходящего 1849 года никак не следует, что в эту пору Георг и Эмма уже лишались его дружеского расположения. Напротив, записки (целых две), посылаемые Гервегу 25 декабря, прямо с дороги, искренни и полны легкого юмора. Через три дня, только добравшись до Парижа, он сразу же садится за пространное письмо обо всем на свете, предлагая Георгу перейти на ты.Тем не менее, после радушной встречи Эммы, трагически переживающей невнимание мужа не только к ней, но и к детям, он готов обозначить «демаркационную линию» их с Гервегом разногласий, упрекнуть друга-близнеца за «капризную жестокость». (Не забудем, что Эмма постоянно помогает Герцену в преодолении множества деловых затруднений, и писем с поручениями ей немало.)
Еще через три дня эта деликатная тема продолжена.
«Любить или не любить женщину, мужчину – в этом мы не вольны, – пишет Герцен Гервегу, – и я никогда не посмел бы коснуться этих океанид человеческой души. Но не позволять себе капризной жестокости, не допускать даже мысли о ней – это другое дело. У человека, который думает, что достаточно его любить, чтобы выносить его гнет, невнимание, – в сердце есть изъян; возможно, что это следствие распущенности и расслабленности характера, столкнувшееся с прямо противоположными требованиями друзей. Тут я уже не могу признать вас за человека мне симпатичного. Вы скажете, что ничего не поделаешь, что так уж вы созданы, что такова ваша натура. Ну, а я не хочу вас оставлять в заблуждении – у меня натура совершенно другая в этом отношении, здесь она просто враждебна вашей. Я ни за кем не признаю права мучить – ни из любви, ни из ненависти.
Я уверен, что вам никогда не приходилось слышать таких необузданно откровенных слов. Я человек сильный и здоровый, я не могу без чувства протеста видеть у своих друзей небрежение к ближним, граничащее с бесчеловечностью, тем более что вы подняли на высоту теории то, что должны были бы отбросить как недостойный вас элемент.
„Все это форма, я придираюсь к форме“. – Ну, конечно, вежливость тоже форма, я реалист.
Этот случай заставил меня о многом подумать. Между прочим, и о нашем будущем. Я лично могу чувствовать себя счастливым в нашем тесном кружке, только если в нем установится гармония. <…> При отношениях, сложившихся у вас с Эммой, нужно оставить всякую мечту о переезде в маленький город, в тихий уголок. Останемся в Париже. Париж мне противен, но я предлагаю остаться здесь. Это единственное средство для нас – спастись от самих себя. <…> Это голос человека, который настолько вас любит, что страдает, видя ваши недостатки».
Гервег сразу же отвечает: «Мой дорогой и добросовестный друг… предупреждаю вас, что ваше письмо вовсе не произвело на меня того действия, которого вы боялись или хотели, – не знаю, наверное. Оно вылилось прямо из вашего сердца, этого мне довольно, чтобы не сердиться на вас… Немного обиженный вначале, я потом стал улыбаться вашему учительскому тону… Говорите, что вам угодно, мой реалист: жизнь не проста, как вы думаете: в нее входит столько элементов, которых вы не принимаете во внимание в своей оценке. Демон анализа всегда толкает вас к этому, чтобы возможно скорее вывести формулу; даже дружба и любовь должны проходить через горнило вашей логики».
Рассуждая о недостатках друзей как продолжении их достоинств, о своем высоком понимании дружбы, Гервег, щедро владевший эпистолярным даром, дипломатично отставляет «это стремление все выяснить, во всем разобраться»: «…прикроем пока эти бездны жизни». «Что вы, наконец, хотите? Я стряхнул с себя на некоторое время семейную пыль, но не потому, что не любил, а потому, что это гнусное установление (брак. – И. Ж.)есть лучшее средство, чтобы убить любовь даже к самому благородному, преданному и любящему в мире существу, к такой прекрасной и крупной натуре, как Эмма».
И здесь уже мировоззренческая позиция Гервега, которую не могут смикшировать все дружеские уверения «все еще близнеца». Что же касается Герцена, он потом в письмах не раз будет пенять Гервегу, разрушавшему (увы, эфемерную!) гармонию двух семейств унижением женщины, преданной мужу «идолопоклоннически».
Гервег ответит: «Да! Я серьезно сердит на Эмму: зачем она стала между нами? В эту минуту я ее просто ненавижу, сколько люблю. Все зашаталось с тех пор, как вы виделись с нею. Вы так недовольны мной, что меня это пугает, хотя я и знаю, что нет другого человека, который понимал бы вас так, как я…»
Заглянув в мемуары Герцена, вспомним, что резкие его уколы и нелестные характеристики Эммы возобладали на страницах «Былого и дум».
Противоречия, противоречия, запутанность отношений, непростых ситуаций, возникающих резких конфликтов. И все равно, компромиссы, как вынужденность поведения. В обход главного. И впрямь, жизнь не так проста…
В эпистолярии Герцена письма Гервегу 1849–1850 годов (а их сохранилось более 130) – это ворох событий, сдержанных эмоций и легко угадываемых признаний, упреков, критических суждений, недовольств, но все равно, повторимся, пока еще близкого друга. В отсутствие Георга, особенно в первые месяцы 1850 года, Герцен пишет ему едва ли не каждые три дня. Существует даже такая договоренность между ними. Адресат отвечает столь же бурно. И тут уж трудно сказать, чья инициатива превалирует.
Иногда к Герцену, когда жизнь не разводит их, присоединяется его жена. И это вполне официальные письма и приписки Натали, менее или более сдержанные, часто с условными тайными знаками.
Письма – каждодневная летопись жизни Герцена той одинокой поры. Он имеет возможность высказаться по всем политическим, творческим и деловым вопросам, и Гервег его поймет. Правда, в словах Гервега «мы думаем одинаково» – стоит усомниться. Существует некий рубеж в степени единомыслия, о котором Герцен говорит Гервегу: «Всякий раз, когда нам с вами случалось вечера напролет проговорить о политике, договариваясь до каламбуров, мы были до такой степени единодушны, что, даже споря, каждый развивал мысль другого. И напротив, стоило нам перейти к вопросам психологическим, личным, как между нами непременно возникали столкновения. У меня всегда брали верх спокойный реализм, благожелательная гуманность, у вас – нет…»
Он может полемизировать с Гервегом о специфике российского развития («…я знаю славянскую расу лучше, чем вы… <…> Быть может, Россия так и издохнет вампиром, но она может и перейти к самому неограниченному коммунизму с той же легкостью, с какою она бросилась с Петром Великим в европеизм»), Гервегу под силу оценить несравненный юмор и «черную иронию» Герцена («Сегодня ко мне заходил Рейхель (муж Марии Каспаровны. – И. Ж.)спросить, как написать Бакунину, чтобы узнать наверняка, гильотинирован он или нет [104]104
Смертный приговор Бакунину, находящемуся в австрийской тюрьме после его участия в европейских революциях (в Праге, Дрездене и др.), был подписан саксонским королем, но не был приведен в исполнение. В мае 1851 года австрийское правительство выдало Бакунина царским властям.
[Закрыть]. Я ему посоветовал написать: „На гильотину до востребования“ – вот до какого бездушия доводит страсть к болтовне»).
Естественно, что запутанные личные отношения – камень преткновения.
Но почему, даже в самых невероятных, сугубо личных ситуациях, несмотря ни на что, переписка продолжается?
Сохранилось только 20 весьма содержательных писем Гервега Герцену (за декабрь 1849-го – июль 1850-го). И тут они на равных. Пишут много, потому что интересны друг другу, потому что оба поглощены общими интересами, потому что судьба неожиданно сводит их в одиночестве эмиграции. И пока что свидетельства пылкой дружбы со стороны Гервега (притом что ложь угнездилась в их отношениях с Натали) не так уж неискренни, как принято считать. Даже события 1850 года, о которых предстоит рассказать, еще не переступили рубеж смертельного раздора 1851–1852 годов.