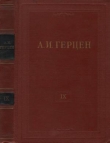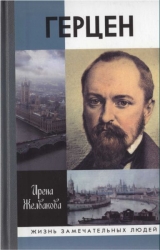
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
«ТАК ТЯЖЕЛО, ЧТО СМЕРТЬ…»
Чего и чего не было в это время, и все рухнуло – общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье.
А. И. Герцен. Былое и думы
Двадцать девятого декабря Наталья Александровна совсем слегла. Новый год Герцен встречал у ее постели в кругу близких знакомых: зашли супруги Энгельсоны, доктор Карл Фогт… Откликнулись с соболезнованиями старые московские друзья: «Ужасно темно на душе!», «Подробности смерти Коли и Луизы Ивановны раздирают душу…»
Двадцать седьмого ноября написал из тюрьмы П. Ж. Прудон: «Весть о несчастии, вас поразившем, дошла до нас, она глубоко огорчила нас. Все наши друзья поручили мне от их имени передать вам слово их искреннего участия, живой симпатии, неизменной любви к вам.
Итак, видно, еще мало, что мы страдаем внутри нашего разумения, в качестве мыслящих людей, страдаем в нашей совести – человека, гражданина… надо еще, чтоб несчастие за не-счастием гналось за нами по пятам и преследовало бы нас в нашей любви сына, отца… Бедствия, так же как, с другой стороны, счастливые случаи, идут, цепляясь друг за друга, и когда вглядываешься поближе, то связь становится заметна, начинаешь разглядывать, что тот же самый гнет, который ведет нас в тюрьму, в ссылку, с другой стороны, морит голодом, болезнями».
Год за годом – 1849, 1850, 1851-й неумолимо приносили Герцену все новые несчастья. Укатали Сивку крутые горки… Что готовил год 1852-й?
Небольшие улучшения в течении болезни Натали чередовались с новой опасностью. 5 января врачи даже заявили о безнадежном состоянии больной. Ее мучили страшные головные боли, постоянно «перед глазами, точно открытая могила», возникала картина бушующего моря.
В эти невыносимые для Герценов дни Гервег вынашивал свой план мщения. Не в силах пережить поражение, ущемленный в своих давно признанных мужских достоинствах, он берется за перо. Месть, месть, пока на бумаге. Стоит перебелить черновик, исчерканный в поисках самых разящих слов (и они нашлись!), чтобы через несколько дней почта доставила до семейного дома, где, кажется, о нем хотят позабыть, это «страшное письмо». В роли отвергнутого любовника и отринутого друга семьи он не привык выступать.
Еще необходимо, чтоб о скандале узнали все – непосвященные и заинтересованные, все без разбора – друзья, враги. И, конечно, первая в этом списке, не раз покинутая, а теперь торжествующая Эмма, верная союзница мужа. Она уведомлена Гервегом, что на днях свершится: Герцен получит свое. Эмма спешит поделиться с их общими знакомыми К. Фогтом, К. Э. Хоецким и Ф. Орсини известием о посланном письме.
Это письмо Гервега жене не сохранилось. О нем известно лишь со слов Герцена, в свою очередь, получившего информацию о готовящемся ударе Гервега от К. Фогта. В «Былом и думах» читаем: «Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне страшное письмо,что он сбросит меня „с высоты, на которую меня поставила N[atalie]“ – что „он покроет нас позором,хотя бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде“». Цитируя письмо, которого сам не видел, Герцен продолжал: «Наконец, он писал своей жене: „Ты одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим“… т. е. стало быть, перерезать нас».
Двадцать восьмого января Герцен уже держал в руках зловещий пакет от Гервега и не мог его не вскрыть. На обороте конверта прочитывалась надпись рукой бывшего «близнеца»: «Дело честного вызова». Отослать обратно, не открыв, было невозможно.
Вот это письмо в русском переводе [120]120
Приводим это письмо впервые полностью в русском переводе, сделанном по моей просьбе праправнуком писателя – Михаилом (Майклом) Герценом. – Прим. авт.
[Закрыть]текста черновика, сохранившегося в записной книжке Гервега и обнародованного Э. Карром спустя 80 с лишним лет.
Гервег – Герцену 25 января 1852 года (дата белового оригинала):
«Зная ваши жестокие методы, мне приходится общаться с вами подобным способом. Я хочу исчерпать все мирные средства – и если они сведутся к нулю, я не исключу и скандала.В этом споре я буду вынужден призвать и третью сторону. Будьте уверены, что мой голос перекроет голос этого ребенка, плода кровосмешения и проституции, которого вы хотите предъявить всему миру как триумфальное доказательство, что вы не такой, как люди говорят. (Карр ставит здесь ссылку, что последние пять слов добавлены выше зачеркнутого слова „рогоносец“. – И. Ж.)Вот ваша великая душа – вы стараетесь решить проблему ценой унижения той, обладание которой вы оспариваете. Однако вы знаете из ее же собственных уст,что она никогда не принадлежала никому другому, кроме меня, что она осталась девственной в ваших объятиях, невзирая на всех ваших детей, – и таковой остается по сию пору. Вы также знаете, что мы были вместе в Женеве, в Ницце, день за днем, каждый день. Вам, наверное, говорили о таком союзе, где душа и тело едины, и о тех клятвах, которые только самая неописуемая любовь могла бы одухотворить и освятить. Когда же вы ее увидели, ее губы и тело еще пылали от моих поцелуев; вы узнали также, что в порыве любви она зачала от меня в Женеве ребенка, и я никогда не поверю, что вы и тогда не подозревали, как все остальные, – что не настолько обмануты, как хотите представить.
Вы не можете не знать, не понимать, что она была глубоко несчастна, и ей пришлось против воли родить ребенка от вас; что она просила у меня прощения, и я ее простил, ибо моя дружба к вам была тогда почти так же велика, как и моя любовь – я не хотел видеть ваших страданий. Мы доверились Эмме, на коленях умоляли ее принести себя в жертву и сохранить нашу тайну. Она видела нашу любовь; она видела нашу привязанность к вам; и она взвалила на себя это бремя – быть единственной несчастной. Но только вам одному известно, как можно обидеть женщину, когда всякой ложью, лицемерием, разными ухищрениями вы удачно изгоняете мужчин. Вы знаете, что целью нашей жизни с Натали было исправить несчастный случай в Женеве, что она думала и мечтала только о ребенке от меня и что все наше будущее заключалось в этой надежде. Когда она с вами говорила, она думала, что ей это удалось; возможно, вы не знали, что я остался неподалеку (то есть в Берне. – И. Ж.)только потому, что она была намерена уйти от вас.
Хватит. Вы не должны и дальше обладать женщиной, которую я не украл, а взял, ибо она сама говорила мне, что никогда вам не принадлежала. Что бы там ни было, мне не пережить, если вы будете вынуждать ее и далее.
К вашим незаслуженным оскорблениям Эммы вы добавляете позорное обвинение, что я соблазнил вашу жену. Есть достаточно причин, чтобы оправдать мое требование сатисфакции.
Будущий ребенок должен быть крещен в крови одного из нас. Другой был крещен совершенно иначе. Tempora mutantur [121]121
Времена меняются (лат.).
[Закрыть]. Я обращаюсь с последним призывом к вашей чести – избрать предпочтительное для вас оружие. Давайте перережем друг другу глотки – подобно диким зверям, – поскольку мы уже больше не люди… Блесните же хоть раз, если вы действительно способны на это, чем-нибудь иным, кроме вашего кошелька. Гибель за гибель. Довольно холодных размышлений…»
Карр добавлял, что хотя запись кончается здесь, очевидно, Гервег придумал еще один острый удар, когда написал, согласно «Былому и думам»: «В заключение он доносил на нееи говорил, что судьба решает между мной и им, что „она топит в море ваше исчадие (votre progéniture) и вашу семью“». Далее в тексте «Былого и дум» приводились слова Гервега (вариант начала письма, оставшегося в записной книжке) также в передаче Герцена: «Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно кончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения».
Герцен потом только раз раскрывал это письмо, а в годовщину рождения Натальи Александровны, 23 октября (по старому стилю) 1853 года, сжег его не читая. Трудно было даже через многие месяцы вновь пережить чудовищные обвинения и страшные признания. Взявшись за мемуары, Герцен напишет об этой первой своей «обиде, нанесенной ему со дня рождения»,но самые острые места из письма все же оставит без внимания, не будет ни цитировать (теперь уже по памяти), ни даже упоминать о них.
При сравнении текстов становится очевидным, что черновик письма не повторял полностью отосланный Герцену беловой вариант, в котором некоторые слова, вроде «рогоносец», были устранены; другие же нелицеприятные пассажи – добавлены. Тем не менее, отвлекшись от оценок и трактовок Гервегом всего происшедшего, событийный ряд, представленный с его точки зрения, соответствовал некоторым фактам, уже знакомым читателю. Их связь с Натали действительно началась в Женеве, и ее влюбленность не знала границ. Наталья Александровна, не доносив ребенка (его ребенка, как утверждал Гервег), вынуждена была через месяц отправиться к Герцену в Париж. Отъезд Гервега в Берн не исключал возможности скорой встречи с Натали. Но другая, неожиданная ее беременность и рождение Ольги, не оставившие сомнений в отцовстве Герцена, планы нарушили. За вызывающим письмом Гервега, ущемленного «изменой» Натали, действительно последовало ее «прощение», а идея «гнезда близнецов» (по многим причинам, в том числе страстной привязанности к Герцену) не была им отвергнута. Отношения же Гервега с Эммой, претерпевшие столько унизительных поворотов, с возложенной на нее новой миссией мщения, нельзя не расценить только как семейно-клановую солидарность. Особый гнев Гервега вызвали дошедшие до него слухи о новой беременности Натали (также не вызывавшей сомнений в отцовстве) и ее наладившейся жизни в союзе с Герценом. Проигрыша сопернику Гервег допустить не мог. Его уязвленное чувство искало ахиллесову пяту противника, и, как представлялось Гервегу, это были деньги, «кошелек» Герцена (из которого, впрочем, он беззастенчиво черпал необходимые для его семейства средства).
«Были люди, говорившие, что он сошел с ума от любви, от разрыва со мной, от униженного самолюбия, – позже писал Герцен, – это вздор. Человек этот не сделал ни одного поступка– опасного или неосторожного, сумасшествие было только на словах,он выходил из себя литературно.Самолюбие его было уязвлено, молчание для него было тягостнее всякого скандала…»
Тем временем скандалы, сплетни, угрозы Гервега обволакивали жизнь Герцена. В разговоре с В. Энгельсоном он вдруг узнает, что гнусное письмо Гервега давно для того не тайна. Она известна многим, и не только близким людям. «Грязный шантаж» недруга должен быть разоблачен.
Надо было действовать, отражать удар. Первая, яростная реакция Герцена – «ехать и убить» Гервега «как собаку», остановлена присутствием в доме умирающей женщины. Прежде ей даны клятвы и заверения: никаких дуэлей между «близнецами».
Последующее развитие событий можно определить как хронику безумств.
В тот же день 28 января Герцен обращается к Энгельсону с просьбой о посредничестве. Его письмо Гервегу должно расставить все точки над i: «…г. Герцен… поручил мне довести до вашего сведения, что, несмотря на все оскорбления, содержащиеся в вашем письме к нему, он в настоящее время не хочет отвечать на ваш вызов. – Вас, я полагаю, отнюдь не удивит, что он вообще не признает за вами никакого права на вызов и еще менее – выбирать в качестве удобного для дуэли времени такой момент, когда его жена тяжело больна…» Письма Гервега по-прежнему Герценом распечатываться не будут, а посредническую миссию во всех возникающих вопросах и возражениях возьмут на себя Владимир Энгельсон, исполнитель данного поручения, или же г. Сазонов.
Почему Герцен обратился за помощью именно к Энгельсону? Ведь многое их разделяло и развело впоследствии. Да только потому, что ближе человека, уже посвященного в его семейные тайны, в данный момент у Герцена не было. Привлечение других посредников, вроде «большого сплетника» Сазонова (по весьма распространенной молве), уже проявившего себя невольным вмешательством в интимное дело чужой семьи, в «Былом и думах» расценивалось как ошибка. Просьба Герцена содействовать в «дуэльном деле» давала Сазонову повод сказать впоследствии, что Герцен «принял дуэль, что только потом отказался от нее».
Рассуждения об истории дуэлей и об этических правомерностях их применения, о чем немало думал Герцен [122]122
См. также: «Былое и думы» (Собрание сочинений. Т. 10. С. 286–287); «Дневник Герцена», запись от 22 сентября 1843 года (Там же. Т. 2. С. 307); «Несколько замечаний об историческом развитии чести» (Там же. Т. 2. С. 151–176, 307).
[Закрыть], могли бы занять большое место в нашем рассказе. Ограничимся доводами и поведением Герцена в контексте той эпохи, нового общества, когда частые и порой нелепые и неоправданные феодальные поединки уже становились анахронизмом.
Новое время требовало нового подхода к дуэлям и нарушенной справедливости. Новые люди исповедовали новые принципы поведения и защиты собственного достоинства. В «Былом и думах» обосновывались эти принципы: «Доказывать нелепость дуэли не стоит – в теории его никто не оправдывает… Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца – или его почетнойсмертью, или тем, что делает из него почетногоубийцу. <…>
Казнь имеет ту выгоду, что ей предшествует суд, который может человека приговорить к смерти – но не может отнять права обличить – мертвого или живого врага… В дуэли остается все шито и крыто… Это институт, принадлежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в искусстве убивать – служебной обязанностью.
Пока миром будут управлять военные – дуэли не переведутся – но мы смело можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение, когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого – не верим, – и когда явиться во весь рост свободным человеком и, после борьбы с Богом и с властями, осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой расправе».
Гервег не успокоился, рассылал письма, искал всякой возможности примирения. На его письмо от 2 февраля с новыми обвинениями Герцена Энгельсон отвечал: «Ваш вызов, который на наш взгляд сводится к следующему: „Я виноват перед г. Герценом, а потому требую удовлетворения“, – рассматривается теми, кто вас знает и кто не знает, как акт безумия. Вот почему г. Герцен, оставляя за собой свободу действий на будущее, сейчас отвечает только презрением на ваши оскорбления, которые вы оправдываете тем, что якобы совершен акт насилия и бесчеловечности, о чем вы говорите в своем письме…» Грозящая катастрофа требовала немедленных распоряжений о судьбе детей и остающегося имущества. Все они излагались Герценом как раз 2 февраля в письме ближайшим и самым родным на Западе людям – Марии и Адольфу Рейхель. (Огарев был далеко. И надежды свидеться с ним не было никакой.)
На следующий день, 3 февраля, в письме, полученном от Сазонова, с прежними утверждениями о насильственном удержании (то есть нравственном принуждении) жены, Николай Иванович советовал, даже «не позволял» Герцену, драться с «безумным» Гервегом. Не без участия Герцена, которому бросался серьезный упрек, Натали, прочитав это письмо, решила отвечать. Дней через десять этот неизбежный шаг был сделан.
Письмо Гервега получало все большую огласку. Круг вовлеченных в дуэльную историю расширялся. Желание «казни» Гервега становилось для Герцена неотступной, навязчивой идеей. Но как отойти от постели больной, здоровье которой день ото дня убывало? И возможно ли показать жене зловещее письмо самого Гервега?
Все же свершилось. Герцен подробно передает один из частых их разговоров. Инициатива исходила от Натали. Она что-то подозревала, не сомневаясь, что письмо существует; понимала, что Гервег не оставит своим вниманием их дом. Терзаемый ревностью и сомнениями, Герцен все же сумел признаться себе, что ему «страстно хотелось знать, была ли доля истины в одном из его доносов». Несомненно, его ужасала мысль о двоедушии Натали, о ее «принадлежности» не только ему одному и, конечно, главное – о потерянном ребенке, якобы от Гервега.
Обо всем остальном Герцен был уже достаточно осведомлен. Невыносимо было перечитывать написанное рукой Гервега. Отогнув лист, он показал ей в письме только «то место» (не пояснив читателю мемуаров, какое именно). Здесь супругам имело смысл остаться тет-а-тет, не вмешивая посторонних даже нашего далекого будущего в их сугубо личное объяснение.
«…Скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное?..» – допытывался Герцен у Натали. Она все отрицала. И только прочувствовав предательство Гервега, раскрывшего мужу то, глубоко утаенное, интимное, что возбранялось знать всем, кроме них двоих, печально произнесла: « Подлец!».
«С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, – скорее всего, опрометчиво считал Герцен, – и никогда ни одним словом, ни одним намеком она не простилаего и не пожалела об нем. Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее письмо».
Далее в «Былом и думах» приводился его текст, датированный 15 февраля 1852 года.
Восстановим события. Необходимо было ответить на письмо Сазонова от 3 февраля, человека из дружеского стана, тем не менее, приятеля Гервега, поддержавшего его версию о насильственном удержании Натали, но «не позволявшего» Герцену драться с Гервегом («он поступает, как безумный»). Необходимо было прояснить двойственную позицию Сазонова в связи с полученным 28 января вызовом Гервега.
Пятнадцатого февраля Натали уже знала о письме Гервега, частично прочитанном ей Герценом, и не ответить не могла. Строки, обращенные к Сазонову, писала сама. Черновик письма сохранился и впервые попал в поле зрения М. Лемке. Вот текст, датированный 15 февраля: «Я желаю, Николай Иванович, вас, как и всех, принимающих живое участие в моем муже, вывести из заблуждения насчет нашего отношения с ним. Александр спишет для вас копию с письма, которое я написала… Вы увидите из него, что я не имею нужды в <его> великодушии моего мужа, в том смысле, как вы его понимаете. Хоть я для вас остаюсь и останусь, вероятно, навсегда такою же незнакомой, как и <всегда> прежде, – но, как женщина, пришедшая в себя после безумного увлеченья, и как жена вашего друга, – я прошу вас соединиться с ним и защитить меня от моего врага».
Более сил у нее не хватило. Она не покидала постели. Положилась на мужа. Ответ Натали Гервегу, который она решила написать после разговора с Герценом, ознакомившего ее со «страшным письмом»,написан его рукой. Ответ Натали был несколько раз им переписан, отредактирован, почему и сохранился в разных вариантах, в частности с датой 18 февраля.
Первоначальная редакция была присоединена к ее черновому письму Сазонову; окончательная редакция опубликована в 1920 году во французском оригинале М. К. Лемке (Т. XIV), и собственно русский текст в несколько измененном виде появился в «Былом и думах» как письмо, написанное Натали.
Письмо потрясало прежде всего словами его начала, казалось бы, совершенно не свойственными ни Натали, ни Герцену: «Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить – и притом при свидетеле – то, что я уже несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было велико, слепо, – но ваш характер – вероломный, низко еврейский [123]123
В оригинале: «Votre caractère – traitre, vil, juif…» Перевод: «Ваш характер – вероломный, низкий, еврейский…»
[Закрыть], ваш необузданный эгоизм открылись во всей безобразной наготе своей – во время вашего отъезда и после – в то самое время, как достоинство и преданность Александра] росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталем, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедесталь вы хотели забросать грязью. – Но вам ничего не удастся сделать против нашего союза…»
Здесь вновь возникал образ пьедестала (несомненно, образ Герцена), на котором впоследствии он воздвигнет свой нерукотворный памятник жене. Его перо проводит ряд собственных идей и обвинений Гервега, и прежде существовавших в ее официальных письмах «близнецу». Она повторит, что остается с семьей, с детьми, с Александром, в любой роли, даже «как нянька, как служанка». В конце подведен итог: «„Между мной и вами нет моста!“ – говорю это вам я, вы мне сделали отвратительным самое прошедшее». (Слова из беловика «говорю это вам я» в мемуарах опущены.)
Во всех, не раз повторенных ею обвинениях Гервега чувствуется какая-то натянутая вынужденность, беспомощная безысходность угасающей Натали, точно она уже не в состоянии владеть своими разнополярными чувствами.
Письмо возвратилось из Цюриха, Гервег его не распечатал.
В эти февральские дни среди друзей Герцена, его европейских коллег-демократов, эмигрантов, соратников и почитателей впервые зарождается мысль о трибунале демократии. Первым об этом заговорил Ф. Орсини, человек страшной энергии, честный, противоречивый, но до самоотвержения преданный Герцену, который просто, без лишних фраз заявил ему, что «весть о письме Гервега возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают составить „jury d'honneur“ [124]124
Суд чести (фр.).
[Закрыть]». Не спросив мнения Герцена (что вновь задело его), Орсини, оказывается, уже писал Маццини. Открывал ему все подробности дела и советовался с этим самым уважаемым, несгибаемым человеком их демократического сообщества. И вскоре сама идея суда не казалась Герцену такой уж несбыточной. Ответ Маццини на его собственное письмо не замедлил последовать. Этот подлинно третейский судья, авторитет которого не подвергался сомнению, считал, что раз уж предпочтительное молчание вокруг дела нарушено, следует «явиться смело обвинителем» в этом суде.
Со всех сторон шли письма поддержки. В марте Герценом получено «превосходное письмо от Гаука по этому делу, т. е. дуэльному». Оно было ответом на одно из его же писем к Маццини (6 февраля). «…Если такие люди за нас, – полагал Герцен, – то еще можно пожить и опозоренному. Мне надобно одно – год времени,тогда я восторжествую вполне, но… мои силы истощаются на борьбу, а главное – на перенесение дерзостей и сплетней; первая минута слабости – и я оправдаюсь перед дураками, и я дам волю чувству мести… и сспорчу великую позицию». Друзья Герцена сомкнулись вокруг него и своей действенной преданностью, как он считал, поддерживали его. Он платил им своей непередаваемой искренностью. Так в середине марта 1852 года появилось ответное его письмо генералу Э. Гаугу. Исповедоваться человеку даже не столь близкому, излагая на многих страницах все интимнейшие факты своей личной истории, «все, что было», Герцен считал необходимым. То был ответ глубокой благодарности за «выражение братской солидарности» истинного созидателя нового мира. Но предрассудки старого были неистребимы. Герцен страдал, был в растерянности от неожиданного, публичного поворота судьбы, в которую вовлечены столь многие (впрочем, в будущем некоторых ярых друзей, вроде Энгельсона, тогда обдумывавшего свой план мести Гервегу, он недосчитается).
Позднее Герцен объяснял М. Рейхель это свое состояние, которое было сродни безумию: в нем поселилась дерзкая мысль – «отказаться от чести драться с этой бестией, но отказаться не просто, но с шумом, открыто».
Сазонов твердил Гервегу о бессмысленном вызове человека, виноватого лишь в излишней доверчивости, призывал не мстить за собственные просчеты бывшему лучшему другу. Гервег не признавал герценовский трибунал «своим сердечным трибуналом»,писал жене о «трусости» Герцена: «…то, что мне, живому, не удается добиться от своего оскорбителя, того я добьюсь посредством своей смерти…» Через некоторое время уже воображал «дуэль без свидетелей»,где «с первого слова» они падут «друг другу на грудь» и всё будет забыто.
Эмма вновь пыталась через посредников вторгнуться в угасающую жизнь Натали со своими безумными планами и все еще хотела знать, останется ли она с Герценом или уйдет к Гервегу. Обвиняла ее в лишении Гервега всех средств «исповедаться» перед Герценом и «вымолить у него отпущение совершенного им преступления» и пр., и пр.
Когда же не получалось передать письма в дом Герцена, когда следовал резкий отказ во всяческих контактах с бывшим близнецом, Эмма выясняла отношения с Гервегом и требовала полного разрыва «с этой женщиной». Потом вдруг у нее возникали намерения сообщить Герцену «новые разоблачительные подробности» о его жене, что не отменяло ее желаний и просьб о свидании с ним. И всё ради налаживания отношений во имя «спасения обеих семей». И всё во имя истины и принципов гуманности, как она заявляла. И тут же – клеветы, сплетни, угрозы, в которых они, наконец, сошлись со своим мужем. Обе стороны не скупились на обвинения… У Герцена в столе всегда лежал пистолет, приготовленный на случай внезапного появления Гервега.
Эту хронику человеческих безумств можно продолжать…
Пока длилась вся эта бесчеловечная канитель, здоровье Натальи Александровны день ото дня ухудшалось. Теперь уже многое проходило мимо ее сознания. Но она продолжала уверять и Тучкову, и Рейхель, что никогда не чувствовала себя такой счастливой. «Сила моя – моя любовь к А., опора моя – его любовь ко мне…»
В двадцатых числах марта Наталья Александровна окончательно слегла, заразившись инфлюэнцей. Воспаление легких неумолимо вело к страшной развязке. 6 апреля, в день рождения Герцена, ей уже было не под силу даже выйти к столу. Лихорадка все сильнее развивалась.
Но надо было еще многое пережить. Ее письмо Гервегу (от 15 февраля), возвращенное им назад, должно было при всех условиях достигнуть адресата.
В какой-то из дней середины весеннего месяца апреля Наталья Александровна приглашает к себе только что приехавшего в Ниццу Э. Гауга (для разрешения сложившегося противостояния Герцена – Гервега). К нему присоединяются М. Э. Тесье дю Моте, В. Энгельсон, Ф. Орсини и К. Фогт. Она просит кого-нибудь из присутствующих прочесть при свидетелях ее письмо Гервегу. Возможно, ей не удастся пережить этой болезни. Гауг по-военному торжественно клянется: «Или я не останусь жив, или письмо ваше будет прочтено!»