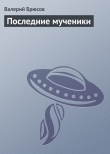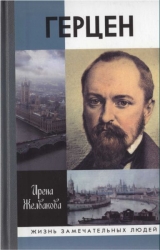
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 44 страниц)
…Еще шаг, и новая пропасть откроется под ногами.
А. И. Герцен – Н. П. Огареву
Натали Тучкова вполне осознавала важность деятельной жизни близких ей мужчин. Сколько людей она перевидала, какие замечательные личности собирались вокруг Герцена и Огарева. Сколько героев и знаменитых эмигрантов! Дж. Маццини и Дж. Гарибальди, А. Саффи, Л. Блан, Г. Кинкель… Какие вдохновляющие беседы они вели, как спорили, страдали за свои утраченные отечества, как просто – жили, ели, пили, любили, строили планы… И русское паломничество в Лондон расширялось, и «Колокол» все более укреплял свое влияние. С ее цепкой памятью и недюжинными литературными способностями, пусть порой пристрастно и поверхностно, она пыталась сохранить в своих «Воспоминаниях» эти картины ушедшей жизни. Много интересных мелочей, которые напрасно многими не признаются важными. Конечно, широкого понимания масштаба событий и лиц там не обнаружится, несмотря на желание проникнуться общественными интересами и Огарева, и Герцена, ибо вся она «обращена на личное», как самая обыкновенная женщина.
Второго мая 1857 года Натали вновь заявляет о своих чувствах, садясь за письмо Александру (традиции классической литературы хорошо ею усвоены): «Зачем я не скрыла от тебя? Тебе, может, лучше было бы; – прости мне эту требовательность, неудовлетворенье, иногда всего мало… больно не слышать полного ответа; но это минуты безумия, я, могу ли я сказать, почти их победила».
Где-то на переломе весны – начала лета Натали отказывается от своих умозрительных колебаний в отношениях с Герценом – оттолкнуть, стать преданной сестрой им обоим, или же… «С каждым днем Г. все более становится мне внутренно (так!)близок… – записывает она в свой дневник, – бесконечное чувство любви к нему захватывает меня всю более и более». «Когда я увидела, что побежденный моей страстной любовью Г. тоже меня полюбил, я вдруг бросилась к О.». И Огарев принял неизбежное. Больно ли ему? Силен ли удар? Так бесконечно широко понять, как «ни один человек не мог бы, он это сделал с каким-то простодушием, свойственным одной его нежной и широкой натуре, и тогда я все поняла и полюбила его еще больше, он как-то ближе еще мне стал, и я искала его руки, чтоб окончательно победить страстную привязанность к Г.». Но Огарев не принял этой жертвы.
Самобичевание, новая жизнь искупления, терзания от тяжести нанесенного Огареву несчастья, страхи, боязнь «недостатка полной любви со стороны Герцена»; и вопросы, вопросы, сомнения: выживет ли это чувство или для него «оно слишком лишнее и поверхностное в его жизни»? Может быть, вообще любовь для него – дело второстепенное? Свое душевное смятение, называя это откровенным анализом, она поверяла дневнику. Возможно, она совсем не та женщина, которую мог бы полюбить Герцен? От него «веет холодом», и она боится этой близости, «сдержанная семьей», вечно скрываясь от всех. «Я думаю, что наша любовь – уродство. Зачем? Что же она может нового внести в нашу жизнь? Собственную семью, ребенка, который бы мне был так дорог? Да он тоже этого боится, и он прав, – это была бы гибель, новый удар самым близким!»
Середина июня приносит ей четкое понимание отношений с Герценом. В первый раз они «резко коснулись до больных мест». А как все-таки с Огаревым? И Натали остается признаться самой себе: «Я отравила его жизнь, злейший враг не мог сделать ему больше зла…» И здесь уже выражена мысль, которой она будет суеверно придерживаться всю свою жизнь: «Да, проклятие на мне…»
Отрезвление от новой любви наступило сразу. «Чего я хочу? больше любить он не может, да и я не стою. <…> Я измучила и себя, и его, мне его смертельно жаль… его любовь мне являлась благороднее, выше, но это было только минутное увлеченье – зачем я так мало его знала, зачем я так много от него ждала?» – записала она 14 июля 1857 года.
Восьмого августа Тучкова продолжала исповедальный анализ, поверяя дневнику свои возвращающиеся сомнения: «Были светлые минуты и опять мученье… <…> я не сумела быть матерью этим детям? <…> Он не умеет любить, это вспышка, увлеченье, эта не та глубокая, чистая любовь, которая дает такую глубокую веру в человека».
Четвертого сентября она пишет Герцену после долгих разговоров и размышлений о перспективах их совместной жизни: «Попробуем жить мирно и ясно, часто мне это кажется очень возможно. <…> Я со смирением говорю тебе: Ну, не люби меня, пусть я этого слова больше не повторю, как упрек и обвиненье. Помнишь ли ты, как русский поп, крестив ребенка, уронил его и сказал: Бог дал, Бог и взял. Больше никаких требований, никаких оскорблений, буду тебя любить, как умею, не думая о взаимности, да ее и не нужно, все вздор. Умела же я тебя прежде любить, не видя и во сне, чтоб ты когда-нибудь мог меня любить».
Ей надо было покаяться перед Огаревым, и она садится за письмо к нему: «…он [Герцен] имел какое-то странное увлеченье, в котором странные вещи сорвались с его языка, я не немка, не стану вспоминать прошлого. Незнанье мое людей было причиной, что я приняла увлеченье за любовь, это была важная ошибка.
Долго я боролась, мысль о тебе и о N[atalie] сводила меня с ума; он меня убедил, что память N[atalie] не оскорблена нашим союзом; я просила тебя уехать со мной или отправить меня одну, ты не хотел и все принял, как ни один человек не мог бы. Однако двух-трех недель не прошло, как он изменил свой взгляд. Я не виню его – это было безнамеренно и естественно, страсть и увлеченье прошли, любви не было, осталось дружеское расположенье и желание покоя. Тут я выслушала страшные и холодные уроки, и вот где начинаются мои серьезные обвинения против меня. <…> Разве говорят игроку, поставившему все на карту, карта ваша проиграла?» Не прожив и года рядом с Герценом, она уже бежала топиться в Темзу.
Огарев, узнав от своей жены о любви ее к Герцену, пишет другу как-то ночью «секретное письмо». Ему трудно: как все выскажешь на бумаге, и он начинает «ab ovo», сначала. Не сразу поддался на признание Натали? Да. И это было не из ревности, а из недоверия к ее чувству, начавшемуся «ревнивым путем». Потому что еще верил «мечте соединения трех в одну любовь». Но скоро мечта растаяла, он страдал, и остался только страх разъединения, и оно началось. Теперь он боится «совершенного разъединения», конечно, не с ним, Александром, что совершенно невозможно, а своего – с Тучковой-Огаревой. Его любовь к ней перешла в сожаление.
«Оскорбленный и измученный, я не знал, куда деваться», – продолжал он своепризнание. И чем жестче становились отношения Натали к Герцену, к нему и к детям, тем больше ощущал он этот, внесший ею в их жизнь, диссонанс. Опять разрушалась вожделенная гармония, опять его «вталкивали в какую-то непроходимую пропасть». А ему все «сильнее хотелось хоть минуту побыть в какой-нибудь кроткой обстановке жизни». И Огарев находит ее в знакомстве, а потом и сближении с англичанкой Мери Сетерленд, встретившейся ему в одном из лондонских кабачков.
Огарев долго не решался признаться Герцену в своей связи с Мери («Ты говорил, что нам надо отринуть женщин»), хотя у него, как всегда, самые возвышенные цели – развить падшее существо, в общем-то спасти уличную женщину, вывести в люди ее сына, «страшно талантливой и доброй натуры». И, как обычно, его намерения не расходятся с делом, а идеи претворяются в жизнь. Он мягко и трогательно излагает другу историю своего неожиданного сближения с женщиной, «существом неразвитым», но способным понять его боль. Жалея его, внося в их жизнь «какое-то странное счастье», она сама отказывается от своих привычных уличных «прогулок» и начинает новое существование. Огареву же предназначено стать примерным отцом и воспитателем далеко не легкого подростка Генри, да и статус Мери, как его гражданской жены, тоже вскоре будет определен: всю оставшуюся жизнь он станет заботиться о новой семье. Подобная «измена» вызовет бешеную ярость Тучковой и полное неприятие Герцена.
Отношения trioвсе более усложняются. Шаг к пропасти сделан давно.
«Что влекло Александра так сильно ко мне? – вспоминала Тучкова о „роковом сближении“ с Герценом в своей поздней исповеди. – Именно то, что должно было сделать нашу близость немыслимою: безграничная любовь Огарева ко мне! Это был магнит, который невольно, но неудержимо притягивал его ко мне – и любовь его жены к своей „Consuela“. „Ты одна, говорил он, можешь залечить раны, сделанные ею“. Все остальное дремало в нем. Сначала он мечтал, как и Огарев, что это будет единение трех личностей во имя четвертой, отсутствующей. Впоследствии они убедились, что я не могла подняться на высоту их воззрения и выполнить (sic!) их заветную мечту».
Она умела «разоблачать свою душу» перед людьми, исповедоваться перед близкими и далекими, в надежде – поймут, простят, не повторят ошибки. Все в жизни можно объяснить, перетолковать, передернуть, подтасовать, признаваясь в хороших и дурных побуждениях и поступках. Истолковывала свой решительный шаг навстречу Александру как его «гуманную пощаду».
Однако теперь, во время вхождения в герценовскую семью, ее характер, прежде отмеченный некой романтикой и героикой в отношении к жизни, наглядно менялся, становился все более неровным, деспотически-прямолинейным, разрушительно страстным, не допускающим компромиссов. Она не уставала клеймить и сама себя: «…я яд, я вред, я – зло жизни». Ее нахождение внутри семьи, дилетантские методы воспитания детей (стремление любой ценой завоевать детскую привязанность) вызывали в доме полный «бедлам». Всякое отсутствие педагогических навыков у Тучковой вносило в жизнь друзей столько смут, несчастий и тревог, что просто виделось ими как существование в сумасшедшем доме. В интимном эскизе для незаконченной комедии «Бедлам, или День из нашей жизни», за которую Огарев взялся в 1857-м – начале 1858 года, передается сложившаяся в доме атмосфера: «Начнут с общего разговора очень умно, а потом Натали обидится, и они поссорятся, а потом помирятся, хотя каждый уверен, что прав. Герцен, в общем, конечно, прав, но неправ в том, что точно также дает волю своей раздражительности. Любовно-враждебные отношения между двумя людьми, которых я люблю больше всего на свете!»
Отношения особенно накалились с появлением «недостойной женщины», Мери Сетерленд, как презрительно называла ее Тучкова. Позже она пыталась покаяться: «Мы виноваты, мы толкнули Огарева в эту страшную жизнь». Но и в этом она ошибалась. Мери до конца его дней была верной «сиделкой» и подругой Ника, облегченьем в его праведно-порочной жизни.
В постоянных стычках и конфликтах с детьми, которых Натали почему-то принимала за взрослых, Герцен никогда не брал ее сторону. Особенно невзлюбила Тучкова Ольгу, заметив «дурное направление ребенка». Она считала, что ее «шалости должны были быть остановлены», но Герцен не соглашался. Сам он был в детстве резвым ребенком и постоянно упрекал Натали в нелюбви и придирках к его детям. Все это усугубляло ее ревнивое противостояние. Оно превратилось в подлинную трагедию, когда Тучкова почувствовала, что беременна. «Бедный, бедный ребенок, непрошеный, не приглашенный, никем не благословленный вступит он в жизнь, – признавалась она сестре. – Г. думает с ужасом, как примет это О.; я тоже боюсь, чтоб слишком глубоко не отозвалась эта боль… Толки посторонних, – я меньше о них думаю, чем Г.».
Четвертого сентября 1858 года Герцен извещал Александра: «Сегодня в 5 часов родилась маленькая девочка, а зовут ее как, не знаю еще. Натали, Огарев, все здоровы». Через два дня, когда уже было принято решение об имени новорожденной, Герцен вновь писал сыну, что «Елизавета Николаевна ведет себя хорошо, a Nat[alie], хотя и очень больна, но опасности нет».
Итак, даже в самом факте рождения Лизы, объявленной дочерью Огарева, уже заключалась тайна, которую «по общему согласию и ввиду русских родных» долгое время знали лишь трое. До одиннадцати лет Лиза ничего не знала о своем истинном отце: называла Герцена – «дядя», а Огарева – «папа Ага».
Эту тайну строго скрывали от друзей и знакомых (всегда найдутся недоброжелатели), с любопытством ловивших любые слухи о личной жизни лондонских изгнанников. Ее скрывали от врагов, использовавших любые средства для дискредитации имени своих политических противников. Скрывали ее и от детей, чтобы не осложнить и без того тяжелой атмосферы, сложившейся в доме Герцена.
Лиза появилась на свет именно в то время, когда семья Герцена фактически распадалась. Искренние намерения Тучковой-Огаревой заменить мать детям своей умершей подруги обернулись ревностью, ожесточением, враждебностью, даже ненавистью, ею посеянной, и фактическим отторжением детей от отца. Саша – отрезанный ломоть: как и подобает взрослому человеку, едет доучиваться в Швейцарию. Со строптивой Ольгой никак «не клеится». Вновь решено попробовать в качестве воспитательницы М. Мейзенбуг, что обернулось полным отчуждением дочери от отца. «Семья свелась на одну Тату», – горестно заметит Герцен, вынужденный в конце жизни признать, что «жизнь частная – погублена».
Лиза с самого рождения оказалась в «плену» у матери. Отныне вся их совместная с Герценом жизнь обратилась в постоянную «войну» за Лизу и вокруг Лизы. Редкие перемирия не в силах были сгладить той накаленной страхом и ревностью атмосферы, в которой подрастала их дочь, страстно любимая ими обоими.
Горькие нелегкие признания Герцена о «страшной», «раздирающей судьбе», когда роковой шаг в сторону пропасти все же был сделан, несмотря на все предостережения и приметы, объяснялись, в частности, и тем психическим состоянием, в котором пребывала Наталья Алексеевна с момента рождения дочери. Она требовала от Герцена невозможного – целиком сосредоточиться на их семье, отречься от собственных детей. Трагический конфликт взаимного непонимания усугублялся с годами все возрастающей мнительностью и постоянным самоуничижением Тучковой, ее верой в свою мученическую роль: «Мне на роду написано причинять горе тем, кого люблю». Даже великодушный, всепрощающий Огарев не мог не сказать своей бывшей жене: «Бедная, томящаяся страдалица – сколько ненужных мучений ты приносишь себе и всему окружающему!» Герцен говорил с ней жестче, считая, что она любит быть несчастной и недостаточно любит, чтоб другие были счастливы.
Лиза подрастала, и Герцен все больше привязывался к этому необыкновенному ребенку. «Ясное дитя», – говорил о Лизе Огарев.
В июле 1859 года Тучкова с восьмимесячной дочерью впервые уехала из герценовского дома. За ними на побережье в Вентнор последовал Огарев, тщетно пытавшийся смягчить то взаимное непонимание, которое все более разделяло Герцена и Натали. Герцен, бросившийся вслед ему, за Лизой, готов на любое примирение, и Тучкова «приняла его кротко». Осенью им еще удастся пожить всем вместе в их доме в Фулеме.
Письма Герцена этой поры полны тревоги, заботы о девочке и нескрываемого восхищения ею с первых шагов: вот Лиза начинает стоять совершенно одна, выговаривает все новые слова, очень весела, хохочет от души, вдруг внезапно занемогла…
Из-за вечных угроз Тучковой вернуться в Россию Герцен – в постоянном страхе. Он смертельно боится отлучения от дочери. При каждом новом расставании, даже недолгой разлуке, у него все тот же вопрос – заметила ли дочь его отсутствие. «Что Лиза – поминает ли она дядю?»
В мае 1860 года свой отъезд в Германию Наталья Алексеевна уже обставляет как окончательный разрыв. Но Герцен без Лизы жизни не представлял и шел на любые уступки, лишь бы не потерять дочь. В конце декабря Тучкова вернулась, но узел личного противостояния затягивался все туже.
Будущее жизни частной Герцена ужасало. Но жизнь общественная предоставляла огромное поле деятельности.
Здесь сложные перипетии страстных личных кружений следует прервать, чтобы обратиться к событиям в России, которые захватывают Герцена целиком. «Частное» никогда не выбьет у Герцена почву из-под ног, никогда не победит «общее». «Живу моей работой – она идет, звоним себе в „Колокол“ – да и только». Сколько бурь пронеслось над Россией, а «Колокол» – точный барометр смены погоды на родине.
Глава 25АПОФЕОЗ «КОЛОКОЛА». 1859–1860
…Эпоха нашего цветения и преуспеяния.
А. И. Герцен. Былое и думы
Российские события конца 1850-х годов требовали активизации деятельности типографии. «Полярная звезда», как известно, не поспевала за ходом жизни. Работа над «Былым и думами» хоть и продолжалась, но теперь время от времени.
Главные позиции занял «Колокол». Его уверенный взлет, его безграничное влияние позволили редакторам устроить «головомойку», как Герцен выразился, даже уважаемому «Современнику». «Very dangerous!!!», «Очень опасно!!!» – объявил Герцен названием своей статьи в 44-м листе газеты за 1859 год.
Опасность, по мнению Герцена, исходила от нескрываемого осуждения «гражданского направления» в русской литературе, выраженного в статьях передового российского органа. Хрестоматийная суть теоретических расхождений «Колокола» и «Современника» (с сатирическим «Свистком» в придачу) по существу обозначилась в разнонаправленном освещении двух вопросов – отношения к дворянской интеллигенции (к «лишним людям» и наследству 1840-х годов) и к так называемому «обличительному направлению», которое, по мнению «красных демократов», бессмысленной, частной критикой режима только отвлекает от настоящей борьбы.
Герцен, прочитав в «Современнике» (№ 1 и № 4 за 1859 год) статью Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» и его язвительные заметки с явными издевками над либеральной гласностью в сатирическом «Свистке», не мог стерпеть назидательного отношения и надменных выговоров новых людей.
Пренебрежительного осуждения русской литературы, дискредитации дворянской интеллигенции, породившей никчемных «лишних людей», что было развито в других добролюбовских статьях, прямо не затронувших Герцена, но так или иначе не забывших упомянуть о герое его романа «Кто виноват?» (кстати, наделенного автором лучшими чертами своего поколения), Герцен стерпеть не мог.
Подобное отношение Добролюбова отнюдь не касалось Белинского и еще «пяти-шести человек… людей высшего разбора, перед которыми с изумлением преклонится всякое поколение…» – замечал критик. Среди неназванных, чьи имена оказались в России под запретом, подразумевался, очевидно, и сам Герцен.
В духе пренебрежения к деятелям, не отмеченным достаточно радикальными настроениями, высказался в «Современнике» Н. Г. Чернышевский (№ 3–4 за 1859 год). В «Политическом обозрении» (№ 7) недвусмысленно осуждались те, которые хоть и любят «горячо» свое отечество, но «не удовлетворяют потребностям времени», ибо время требует «высших стремлений». В статьях Чернышевского и Добролюбова усматривались намеки на полный разрыв с властью и расчистки места для представителей другого, более радикального поколения.
Протест против «либерального пустозвонства», систематическая дискредитация предшествующего поколения подвигли Герцена на публичную отповедь противникам обличительства. Первый полемический выпад Герцена последовал за статьей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года». В запальчивости, защищая гласность и обличительную литературу, он предупредил «милых паяцев наших», что «на этой скользкой дороге можно досвистатьсяне только до Булгарина и Греча, но (чего, Боже сохрани) и до Станислава на шею!».
Обвинение донельзя тяжелое…
Руководители «Современника» были удивлены и возмущены резкостью высказываний издателей «Колокола». Тогда еще не виделось отчетливых признаков резкого размежевания между ними. В своем дневнике Добролюбов записал: «Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности! Я лично не очень убит неблаговолением Герцена… но Некрасов обеспокоен».
С некоторых пор Герцен не особенно жаловал (выражение слишком слабое!) главного редактора «Современника» Н. А. Некрасова. По причине неблаговидного поведения его гражданской жены – А. Я. Панаевой вышел крупный спор, скорее, даже скандал об огаревском наследстве [150]150
Я. Черняк (Спор об огаревских деньгах (Дело Огарева – Панаевой). М., 2004) и его оппонент А. Г. Дементьев (Огаревское дело // Русская литература. 1974. № 4. С. 127–143) высказали в научной литературе противоречивые оценки спорного, крайне запутанного дела, поссорившего Герцена с Некрасовым. Речь шла об А. Я. Панаевой и ее дальнем родственнике Шаншиеве, которые как доверенные лица М. Л. Рославлевой, первой жены Огарева, взыскали для нее с Огарева в 1851 году огромную сумму, которая не была ей передана. Это выяснилось после смерти Марьи Львовны. Тень легла и на Некрасова.
[Закрыть]. Поэтому в Лондон для объяснений отправился Чернышевский.
Шестого июля 1859 года Николай Гаврилович добрался до британской столицы и вечером того же дня явился в Фулем. Наталья Тучкова свидетельствовала, что она застала Александра Ивановича, ходящего взад и вперед по зале их дома с неожиданным собеседником, «о котором говорила чуть ли не вся Россия». Он был среднего роста, некрасив, с неправильными чертами лица, но его выражение, «это, особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, в которой светились самоотвержение и покорность судьбе». Тучкова запомнила, как их познакомили, как гость погладил маленькую Лизу по голове, проговорив: «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу». Содержания разговора она знать не могла, запомнив лишь поверхностное свое ощущение. Ей показалось, что в беседе с Чернышевским Герцену «недоставало откровенности», ибо гость «не высказывается вполне». Отсюда и невозможность сближения, заключила она. Предварительные переговоры кого-то из русских (имя она запамятовала) насчет издания в Лондоне «Современника» (на технической базе «Колокола») на случай его запрещения в России, по ее же свидетельству, были продолжены.
Но, главное, предстояло прояснить сложившуюся ситуацию со скандальной публикацией в «Колоколе». Двукратное появление Николая Гавриловича в Фулеме 6 и 9 июля не только не привело к выяснению отношений и преодолению конфликта, но вызвало резкое столкновение, породившее еще большую личную неприязнь.
Чернышевский свидетельствовал, как он «ломал» Герцена и какой «выговор» он ему задал. Тем не менее петербургский гость сразу же признал, что «ездил не зря», «хотя оставаться здесь долее было бы скучно». Подобное мнение в письме Добролюбову с места события, казалось бы, не согласовывалось с возникшим конфликтом.
И у Герцена, и у Чернышевского не было задачи ссориться. И тот и другой осознавали свое лидерство и стремились к равенству, хотя в духовной жизни России уже давно возникли два идеологических центра. Герценовская попытка «поучать» резко пресекалась. «Колокол» был на взлете, подцензурный «Современник» олицетворял все передовые российские веяния. Оба всемогущих издания поддерживались массой людей, и, естественно, перед Чернышевским стояла задача – не уступая авторитету герценовской, на его взгляд, отсталой либеральной пропаганде, искать возможного сближения.
Первый визит к Герцену в Фулем был достаточно мирным, и Герцен был готов поместить в «Колоколе» соответствующую заметку «для наших русских собратий», не предавая внешне чрезмерного значения своей публикации «Very dangerous!!!», которая содержала лишь «образ выражений», ироническую «manière de dire».
Первого августа 1859 года в 49-м листе Искандер писал: «Нам бы чрезвычайно было больно, если б ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек. Мы уверяем честным словом, что этого не было в уме нашем…»
Современники, до которых доходили разговоры и слухи о лондонском свидании двух лидеров, на протяжении многих лет не уставали передавать всевозможные сведения в своих письмах и свидетельствах. И эти разнотолки, всяческие предположения давали почву для противоречивых концепций. В спорах о встречах и переговорах двух подлинных властителей дум (как необходимого условия единения демократических сил в освободительной борьбе) советские историки страстно и не без идеологического напора схлестнулись в полемике, кардинально решая вопрос о целях приезда Чернышевского [151]151
Концепции М. В. Нечкиной о двух революционных центрах – вокруг «Колокола» и «Современника», об их взаимоотношениях в период первой революционной ситуации 1859–1861 годов, противопоставлено убедительное мнение Б. П. Козьмина. Для советского герценоведения 1940–1950-х годов характерно «подтягивание» Герцена в стан революционных демократов. Нечкина в работе «Встреча двух поколений» (М., 1980) и других трудах объединяет Герцена и Чернышевского не только на одной баррикаде, но и в одной революционной организации. В противопоставлении концепций Нечкиной и Козьмина подведен некий убедительный итог в работе В. А. Твардовской «Б. П. Козьмин. Историк и современность» (М., 2003). Суть полемики в начавшейся в 1950-х годах дискуссии состоит в следующем. Для Козьмина Герцен и Чернышевский – приверженцы одного антисамодержавного лагеря. Однако речи нет и о практической их договоренности, и о единстве действий, и совпадении взглядов. Козьмин отрицал: общий, якобы выработанный совместно прокламационный план; вхождение Герцена и Огарева в центр революционной организации «Земля и воля» для руководства общероссийским крестьянским восстанием; соотношение роли и места двух деятелей в русской общественной жизни, где Герцену отводилась роль персонажа, ведомого Чернышевским, им «воспитуемого». Для Козьмина Герцен – самобытная масштабная личность, которая не могла быть объектом чьего-либо влияния. Герцен и Чернышевский – фигуры равновеликие, самобытные. В итоге дискуссия была свернута, но концепция просуществовала весь советский период развития историографии, будучи признанной официально правильной. Так сложилось долгое существование двух концепций – романтической и реалистической. В пользу последней, при дифференцированном подходе к изучению демократического движения, высказались Э. С. Виленская, И. К. Пантин, А. И. Володин, Е. Г. Плимак, В. Ф. Антонов, Ю. Н. Коротков, Н. М. Пирумова и др. Значительный вклад в решение проблемы внесли и западные историки – М. Малия, С. Доусон, Ф. Рэнделл. Ф. Вентури, Г. Блюм и др.
[Закрыть].
В 1972 году в существующие концепции вмешалась неожиданная находка. Правнук Герцена Леонард Рист передал в дар Дому-музею Герцена книгу Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (СПб., 1855) с дарственной надписью: «Александру Ивановичу Герцену с благоговением подносит Автор». Написанная в тоне глубокого уважения, возможно, предназначенная для вручения Герцену при первом свидании, книга эта дала возможность еще раз подтвердить неоднозначность подходов к проблеме взаимоотношений Герцена и Чернышевского, не преувеличивая споры и расхождения и не увлекаясь чрезмерно позитивной стороной дела, даже на этой фазе их взаимодействия [152]152
Эйдельман Н. Я. К истории лондонской встречи Чернышевского с Герценом / Эйдельман Н.Свободное слово Герцена. М., 1999. С. 307–316.
Помимо мнения Н. Я. Эйдельмана, М. В. Нечкиной и И. Е. Баренбаума, существуют и другие точки зрения: книга могла быть передана Герцену раньше – с историком литературы, двоюродным братом Чернышевского, А. Н. Пыпиным, находившимся в мае 1858 года в Лондоне, или с кем-то из общих знакомых.
[Закрыть].
Подобный баланс в отношениях лидеров на этот период времени, даже если его принять, был вскоре нарушен по многим направлениям.
Непрекращающаяся критика деятелей революционного лагеря, постоянно задирающих лишних, праздных, ни на что не способных людей, «трутней» и «белоручек», заставила Герцена для новой защиты своих предшественников прибегнуть к более острому оружию, запустив стрелу в пугающих «радикальной бойкостью» желчных критиков «Современника». В известной статье «Колокола» «Лишние люди и желчевики» (13 октября 1860 года) они были припечатаны прозвищем «желчевики». Герцен, конечно, за «лишних» «заступился», в чем получил полную поддержку Тургенева, кстати, бывшего на грани разрыва с редакцией «Современника» (вышел из нее в 1861 году в числе лучших авторов), но выпад против первого российского журнала многими воспринимался как удар по его демократическим позициям.
Издатели «Колокола» были в ту пору в великой моде. Каких только писем не приходило, каких только секретов, добытых из тайных правительственных пещер, не передавалось в Лондон. Пройдет тайное заседание Государственного совета по крестьянскому делу, а отчет, скопированный кем-то из чиновников, да возможно и лицами посолиднее, тут как тут, на страницах «Колокола». Внушения государю, жалобы на несправедливость начальства – ворох полезной и бессмысленной информации, слова признательности и ненависти…
Доходят слухи, что император в разговоре с кем-то из знавших лондонского издателя будто бы заявлял: «Скажите Герцену, чтобы он не бранил меня, иначе я не буду абонироваться на его газету». Герцен вспомнит не раз тот период «апогея» его пропаганды: «Всякий писал, что попало: один – чтобы сорвать сердце, другой – чтобы себя уверить, что он опасный человек… но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличение ежедневных мерзостей».
При свидании с приезжими разговор не унимался – речь шла о баснословных злоупотреблениях, кражах, преступлениях власти, открывшихся после Крымской войны. Назывались конкретные имена. Как выразился один из поклонников вольной печати: «В „Колокол“-то попасть им не весело…» «Колоколу» подражали.
Явился в Лондон «кривоногий» (попросту, хромой) сиятельный князь П. В. Долгоруков, некогда, по слухам, замешанный в истории с подметными письмами Пушкину. Несравненный знаток дворянской генеалогии, собиратель наисекретнейших материалов династии был очень полезен Герцену. Обидевшийся на российскую власть, выдав сокровенные тайны дома Романовых и тем заручившись яростным преследованием Николая I, Петр Владимирович был одушевлен примером «Колокола», «усердного обличителя всякой неправды». Материалы «Будущности», собственного его детища, органа весьма благонамеренного, и последующих вызывающих публикаций князя очень пригодились Герцену для освещения потаенной истории и скрываемых преступлений власти.
Посетители, друзья, знакомые в открытом доме Герцена не переводились. 24 февраля 1860 года прямо из Петербурга в Фулем приехал «очень интересный гость», из той же когорты разночинной интеллигенции, что и Чернышевский. Герцен уже знал брата нового знакомца – Александра Серно-Соловьевича, умного, серьезного молодого человека, который год тому назад получил в доме самый теплый, искренний прием и всем очень понравился. (В дальнейшем, став политическим эмигрантом, он изменит своему кумиру, не оправдает великодушного, доброго отношения Герцена и напишет на него пасквиль – «Наши домашние дела».)
Старший из братьев – Николай Александрович Серно-Соловьевич показался Герцену человеком иного толка, более сосредоточенным на общих интересах и общественном служении. Может быть, он был менее даровит, менее интеллигентен, чем младший брат, замечала Н. Тучкова, но другие его качества – прямодушие, редкое благородство, настойчивость, самоотвержение выдавали несомненного деятеля, беззаветно преданного убеждениям и намеченной цели.
Герцен узнал его историю и рассказывал ее неоднократно.
Дело было в 1858 году. Питомец Царскосельского лицея, Н. Серно-Соловьевич «начинал свою карьеру в канцелярии Государственного совета… когда проект освобождения крестьян находился в руках нескольких ретроградов-сановников, относящихся к нему враждебно». Видя, как они запутывают вопрос, затягивают решения, ставя палки в колеса, молодой человек, «фанатически преданный делу освобождения», «решил отказаться от роли орудия в руках заговорщиков против народа» и прежде отставки написал царю. В откровенном письме он раскрывал все обстоятельства и враждебные намерения людей, которым свыше было доверено «великое дело». Проникнув в Царскосельский парк, встретил там императора и безбоязненно «подал ему письмо». В тот же вечер храбрец был вызван председателем Государственного совета графом А. Ф. Орловым (кстати, на закате своей жизни назначенным еще и председателем Секретного комитета по крестьянскому делу).
«Государь, – сказал он ему, видимо, недовольный этим поручением, – приказал мне благодарить вас и поцеловать. Он прочел ваше письмо и примет его во внимание».
Сохранился подлинный архивный документ, который подтверждает эту историю. Александр II наложил на записке Серно-Соловьевича следующую резолюцию, адресованную в первой части к высокому сановнику: «Призовите его, поблагодарите его от моего имени. Скажите ему, что я не только на него не сержусь, но искренно благодарю за откровенное изложение настоящего положения дел, хотя пылкость юношества и повела его, может быть, слишком далеко».
Герцен, зная историю из первых рук, не мог не обыграть подобный экстраординарный эпизод, о котором не единожды потом вспоминал (тем более что пути их с бывшим полицейским начальником не раз пересекались в России): «Император играл еще тогда в либерализм; но последний маркиз Поза скоро увидел, что бесполезно обращаться к этому монарху, даже когда он посылает через министра полиции [153]153
Граф Орлов был в должности шефа жандармов и начальника Третьего отделения в 1844–1856 годах.
[Закрыть]свое императорское лобызание».
Глубоко уважая незаурядного гостя, Герцен хотел, чтобы сын походил на него, ставил Николая Серно-Соловьевича в пример двадцатилетнему Саше, вдруг задумавшему жениться на юной девушке из чуждой среды: «…посмотри на упорную энергию его, это тот самый, который был у Александра II и написал ему, что дело освобождения не идет». «…Введи с совершеннолетием арифметическим больше возмужалости»; «Жизнь, начинающаяся с конца, – жизнь без борьбы… Семейная жизнь – гавань, а тебе надобно плыть», – выговаривал Герцен достаточно слабовольному Саше, на которого возлагал надежды иного рода. «Не пошлая или несчастная жизнь», а чувство России, «в которой идет борьба». И Саша к советам отца, как увидим в дальнейшем, на время прислушался.