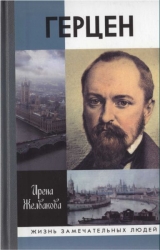
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 44 страниц)
ВРЕМЯ НАДЕЖД И ПОИСКОВ
…Я один в деревне. Мне смертельно хотелось отдохнуть поодаль от всех… дождь льет день и ночь, ветер рвет ставни, шагу нельзя сделать из комнаты, и – странное дело! – при всем этом я ожил, поправился, веселее вздохнул – нашел то, за чем ехал.
А. И. Герцен. Письма об изучении природы
В то дождливое и холодное лето, последнее, проведенное в Покровском, Герцен живет отшельником. Не свойственный ему мизантропический выпад против любезных друзей подкреплен «идиллической выходкой» (так он выразился) в сугубо научной статье, за которую только что принялся: здесь – свобода и воля, и природа содействует. Где, как не здесь, выплеснуть накопившиеся эмоции, где, как не здесь, писать о природе: «Выйдешь под вечер на балкон, ничто не мешает взгляду; вдохнешь в себя влажно-живой, насыщенный дыханием леса и лугов воздух, прислушаешься к дубравному шуму – и на душе легче, благороднее, светлее; какая-то благочестивая тишина кругом успокоивает, примиряет…»
Герцен буквально завален философскими фолиантами. Занимается историей натурфилософии. Хочет постигнуть ее современное состояние. Его интересует всё, вплоть до новых открытий в палеонтологии. Одних книг для своих «Писем об естествоведении» куплено на 375 рублей.
Потерянное время при обустройстве в собственном доме на Сивцевом Вражке и в кружении дружеских встреч восполнялось активным чтением. Герцен «штудировал Гегелеву историю философии и статьи», ибо Гегель сделал «первый опыт понять жизнь природы в ее диалектическом развитии…». Он погружался в «гётевские сочинения по части естествоведения» и восхищался: «Что за исполин, – нам следить невозможно за всем тем, что им сделано и как? Поэт не потерялся в натуралисте…»
Сколько авторов им освоено. Сколько рождено идей. Штудировалась история философии – Бэкон, Декарт… – загодя шла подготовка к новому циклу философских статей.
В это лето 1844 года Герцен наконец принялся работать для нового журнала, хотя будет ли он, один Бог знает, да еще министр народного просвещения граф Уваров, творец незабвенной триединой формулы – основы Русского государства. Собственный журнал, о котором они с Грановским давно мечтали, – дело весьма сложное, легче получить разрешение на передачу журналов уже существующих, чем добиться у напуганного правительства дозволения на новое издание. Вот и Кетчер пишет из Петербурга, что вновь оживился «присяжный доноситель» Булгарин, учуял в журналах «вредную тенденцию», кричит, что «Отечественные записки» Краевского подрывают «православие, самодержавие и народность», обвиняет самого Уварова в попустительстве либерализму. Отсюда меры, строгости, новые нападки на «вредные идеи», распространяемые «под видом философских и литературных исследований».
Фаддей Булгарин – литератор известный, но руку ему подавать люди порядочные поостереглись бы. Было это не только зазорно, но и компрометировало любое лицо. Новое пишущее и читающее поколение, по свидетельству И. И. Панаева, презирало Булгарина. Помимо пресмыкательства перед властью и неуемной жажды, только учуяв «угрозу», предупредить кого надо, от него всегда исходила опасность. А его «Северная пчела» могла так ужалить, что не избежать действенного противоядия. Угроза – недвусмысленная. И Герцен понимал, что «еще шаг – и „Отечественные записки“ рухнули бы со всеми участниками».
Собственный журнал, участие в нем Белинского, Панаева, Огарева и всех московских друзей сразу бы решили многие проблемы. Не мешало, однако, наконец расстаться с Краевским, освободиться от его неумеренного диктата, а заодно вызволить из журнала Белинского, буквально истерзанного «кровопийством» Андрея Александровича.
Девятнадцатого июня Герцен сообщает Кетчеру: Грановский подал просьбу об издании нового журнала. Совсем нового. Огарев согласен внести необходимую сумму. Следует отказаться от негодной идеи – покупки какого-либо дрянного журнальчика. Действительно, занятие весьма беспредметное заново создавать репутацию безликой «Галатее» Раича или непопулярному «Русскому вестнику», за которые долго и безуспешно идет торг. Будет ли толк от новых хлопот? Во всяком случае, в ожидании решения Герцен очень активен. Собирает материалы у друзей-литераторов. «Утрами очень дорожит, – свидетельствует Наталья Александровна, – потому что занимается, готовится к журналу».
Второго августа Герцен, мешая языки (латынь с французским и русским), пишет из Покровского Грановскому и серьезно, и весело. «Окончил статью для журнала и начал другую; но проблема так сложна, что я теряю надежду справиться с ней» (перевод с французского). Тут речь, конечно, о «Письмах об изучении природы», которые захватывают его теперь всецело. Послание другу продолжено: «Среди прочих литературных произведений у меня есть несколько пьес из знаменитой библиотеки Филиппа Депре, но я храню их, чтобы прочесть их вместе». Имя известного в Москве виноторговца Депре вряд ли кого-либо может обмануть.
Решение о журнале все ждут с нетерпением. Что журнал? Надежды, слухи… Вот-вот… Просьба уже пошла в Петербург… В октябре 1844 года разрешение все еще не получено. Вскоре приходит бесповоротный ответ: «Г[осударь] не соизволил разрешить Гран[овскому] издавать журнал». «Вот вам и деятельность! – только и может заключить Герцен. – Как глупо, нелепо таким образом гнать всякую мысль и как непоследовательно; может ли профессор быть терпим на кафедре, если он подозрителен как журналист? И на что у них отвратительнейшая ценсура, если и она не гарантия, что ничего прямого, ясного не проскочит; а для косвенного, скрытого есть пути. Состояние совершенного бесправия…»
На страницах дневника Герцена множество грустных предчувствий и пессимистических признаний… Подобные настроения захватывают многих из лучших, просвещенных людей.
«Наше состояние безвыходно. Потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей и наше дело – отчаянное страдание».
«Страшное время: силы истощаются на бесплодную борьбу, жизнь утекает, ни капли отрадной, ни близкой надежды – ничего».
«Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы. <…> Удар не минует моей головы, меня знают они давно».
Противоборство «мы» – «они», понятно, на стороне силы. Но не таков Герцен, чтобы сидеть сложа руки. Конечно, дикая тоска по деятельности… Он готов вновь повторять, что натура его «более деятельная – нежели созерцательная», а поэтому требует жизни simper in motu —всегда в движении. Нет надежды на собственный журнал – ничего не остается, как вновь прибегнуть к посредничеству Краевского. Все же «Отечественные записки» – единственно авторитетный и читаемый орган в России. И журнал, скорее, не Краевского, а Белинского, определяющего его истинно демократическое лицо.
В сочельник, когда в залу старого дома водворяется елка, а домашние (не прошло и года) более всего озабочены появлением на свет нового члена семьи – Натальи (всеми любимой Таты), рожденной 14 декабря, Герцен, отбросив черные мысли и обретя уверенность в покровительстве счастливой судьбы, садится за письмо:
«Во-первых, почтеннейший Андрей Александрович, прошу вас заметить, что я избрал самый скромный день в году, чтоб напомнить вам о себе, т. е. сочельник – день, в котором немцы делают елку, а мы, кроме елки, ничего не едим. <…> Пишу же я именно в сей день, приготовившись постом и молитвой, о деле довольно важном. <…>
Желаете ли вы на будущий год постоянного участия в „Отечественных] зап[исках]“ Грановского, Корша, Редкина и моей ничтожности? Так что мы почти бы могли завладеть отделом наук. Тогда „Отечественные] зап[иски]“ могут вполне сделаться органом не токмо петербургского литературно-ученого направления, но и московского. У нас много читается, за многим следится; наконец, надобно для того посылать статьи наши постоянно к вам, чтоб сколько-нибудь держать в пределах славянобесие, чтоб поднимать иногда голос против клеветы на науку, на Европу etc., etc. Мы предполагали журнал, он не состоялся, как говорят, по причинам, не зависящим от издателя, и мы охотно делимся с вами тем, что заготовили».
Планы сотрудничества в «Отечественных записках» всех московских членов кружка оказываются реальными лишь отчасти. Пожалуй, только Герцен остался их непременным участником. Ведь уже публиковались в журнале его статьи из «Дилетантизма», а в марте 1844 года, когда он напечатал «Москвитянина и вселенную» против обновленного славянофильского детища, язвительные сарказмы фельетона никого не могли обмануть. В прозрачном псевдониме «Ярополк Водянский» легко отражалось герценовское перо. Да и «Вёдрина статейка», вышучивающая Погодина и его путевой дневник «Год в чужих краях», наделала много шуму. Господа-издатели «Москвитянина» собирались специально для выдумывания острот «анти-Герцен», лишь бы чем-то ослабить эффект, произведенный его статьей. Были и такие, которые рассчитывали под благовидным предлогом, после «Москвитянина и вселенной», «остановить издание „Отечественных записок“ навсегда».
Несмотря на козни идейных недругов, сотрудничество продолжилось. И Герцен готовил в журнал Краевского свои новые «письма», безраздельно углубившись в ученые проблемы. Без философского осмысления явлений природы и жизни общества в их взаимосвязи невозможно приступить «к практическому действованию». В «Дилетантизме» уже сделан вывод, что вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами.
Особенно важным в истории написания «писем» стали занятия естествознанием. Естественным наукам следует уделить особое внимание: «…ими многое уясняется в вечных вопросах». Герцен понимал, что безнадежно отстал, лет десять как не занимался практической наукой.
Уже осенью 1844-го он превращается в студента. Бегает в университет, чтобы послушать сравнительную анатомию у профессора Глебова. В аудиториях и анатомическом театре «знакомится с новым поколением юношей». Вскоре с удивлением убеждается, что молодежь несравненно ближе к его воззрению, чем даже лучшие из друзей.
Да, новая молодежь – сильное поколение, далеко ушла вперед. Материалистические идеи, несмотря на чинимые властью и церковью препоны, в большом ходу. И наука стала взрослее, реалистичнее. С каждой новой лекцией, с каждой новой дискуссией совершенствуется, «приводится в ясность» и его теоретический багаж, укрепляются материалистические взгляды, прежде существовавшие на пересечении просветительской идеологии XVIII века, идей христианского и утопического социализма. Растет его влияние среди студентов, принявших «Дилетантизм в науке»: «Юноши тотчас оценили, в чем дело, и гурьбою ходили в кондитерские читать „Отечественные записки“». Лучшей признательности за труд не стоит и желать.
Постепенно у Герцена зреет убеждение, что вскоре он останется только с Белинским и Огаревым. Оторвется от прежних друзей – идейных союзников, ибо между их воззрениями наметилась заметная трещина. Да к тому же Герцен так далеко продвинулся в постижении философских основ и теорий, проштудировав десятки изданий, развив и сформулировав собственную концепцию, что отнюдь не всем, даже «крепкоголовым» его современникам, «оказывалось по силам» освоить нелегкий интеллектуальный запас и философские труды Искандера. В этом без стеснения признавался И. И. Панаев.
Неудивительно, что и нам следовало прибегнуть к краткому знакомству с мнениями философов-специалистов, правда, в советское время чрезмерно затянувших человека позапрошлого столетия в свои конъюнктурно-идеологические сети. В их трудах было произнесено много возвышенных, политизированных слов относительно философских сочинений Герцена, где фразы: «связь с революционной борьбой», «философский материализм» и другие, слишком оставались на поверхности. Маяком, с которым непременно идеологически сверялись, были ленинские слова из статьи «Памяти Герцена» (1912), что в «Письмах об изучении природы» (последовавшими за «Дилетантизмом») Герцен «вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом». Притом «в крепостной России 1840-х годов XIX века сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени».
Не беремся судить или опровергать. Тема философских исканий и достижений Герцена слишком сложна, объемна и специальна, чтобы в небольшой по объему книге развивать ее вширь и вглубь. Это задача профессионалов-исследователей, заинтересованных в философском наследии разностороннейшего Герцена [77]77
Значительны труды А. И. Володина, посвятившего философским взглядам Герцена немало работ (Герцен. М., 1970; Александр Герцен и его философские искания // А. И. Герцен.: В 2 т. Т. 1. М., 1985 и др.).
[Закрыть], привилегия, которой в наши дни они не слишком-то воспользовались. Новых работ практически нет. Ясно одно: статьи цикла «об изучении природы» и поныне считаются не только крупнейшей философской работой Герцена, но и одним из важнейших произведений русской материалистической философии XIX века. В «Письмах» были поставлены и частично решены некоторые из философских вопросов – о взаимоотношении философии и естествознания, о законах природы и мышления, об отношении сознания к природе, о методе познания и др. В главной теме – отношения философии и естественных наук, Герцен ставил целью «по мере возможности показать, что антагонизм между философией и естествоведением становится со всяким днем нелепее и невозможнее; что он держится на взаимном непонимании, что эмпирия так же истинна и действительна, как идеализм, что спекуляция есть их единство, их соединение».
Цикл «Писем об изучении природы» состоит из восьми статей, основанных на огромном количестве источников, прочитанных, проработанных, усвоенных Герценом, из которых он вынес собственное понимание сложнейших философских проблем. Это краткий очерк истории философии от древности до времени Просвещения, от изложения систем «пластического мышления древних» – греков и римлян, до постижения «методы» Бэкона и Декарта, Локка и Юма и других, которые Герцен пытается рассмотреть с современной ему точки зрения.
Общий замысел работы определен в «Письме первом» – «Эмпирия и идеализм». Цикл статей – своеобразное введение в науку; его ближайшая задача – ознакомление читателя с ее «главными вопросами» и устранение ложных и неверных мнений, обветшалых предрассудков. Что же до главных вопросов, то, по мысли Герцена, это – отношение мышления к бытию, сознания к природе и связанная с ними проблема метода познания. Значительное место в развитии философской мысли занимает разработка вопроса о союзе философии и естествознания. Автор стремится доказать, вывести к пониманию, что они едины.
«…Философия, не опертая на частных науках, на эмпирии, – призрак, метафизика, идеализм, – рассуждает Герцен. – Эмпирия, довлеющая себе вне философии, – сборник, лексикон, инвентарий – или, если это не так, она неверна себе». «Философия, не умевшая признать и понять эмпирию, хуже того, умевшая обойтись без нее, была холодна, как лед, бесчеловечно строга; законы, открытые ею, были так широки, что все частное выпадало из них; она не могла выпутаться из дуализма и, наконец, пришла к своему выходу: сама пошла навстречу эмпирии…»
Двадцатого июля 1844 года Герцен записывает в дневник о работе над первым письмом нового цикла «Эмпирия и идеализм»: «…кажется, хорошо, а впрочем, сначала все написанное кажется хорошо».
Двадцать седьмого июля «1-е письмо для журнала готово». Герцен собирается приняться за второе, но опасается цензуры. Еще нет решения, что новое издание, замышляемое друзьями, так и не состоится. Осенью работа продолжена. 16 ноября Герцен пишет Кетчеру, что занимается статьей «об отношении естествоведения к современной философии; идет недурно». Законченная в феврале 1845-го статья отослана Краевскому.
Вывод об органическом союзе философии и естествознания подразумевал материалистическую философию, основанную на признании объективной реальности природы. Герцен утверждал также необходимость диалектического метода в философии и естественных науках. Для данного этапа развития науки им с наибольшей мерой четкости высказано материалистическое решение вопроса об отношении мышления к бытию. Природа существует вне и независимо от сознания; попытка утвердить сознание над природой как первичное по отношению к материальному бытию – несостоятельна. В этом, как принято считать, отправное положение всех поставленных Герценом в «Письмах» вопросов, сопровождаемых критикой идеализма. Полемика с Гегелем и другими создателями философских систем и теорий предшествующих времен определила широту и злободневность его работы. Вместе с тем «Письма» выражали поиски дальнейших путей философии после Гегеля.
В конце июля Герцен пишет второе письмо – «Наука и природа – феноменология мышления», но в августе работа еще не окончена, хотя и помечена этим месяцем. Очевидно, Герцен дорабатывает обе статьи одновременно, чтобы вместе отправить их в «Отечественные записки». Он начинает письмо с определения науки и с общего обзора ее развития, формулирует важную мысль: «Дело науки – возведение всего сущего в мысль». Для Герцена философская наука – это «живой организм, которым раскрывается истина».
Осенью 1844 года Герцен трудится над третьей статьей, озаглавленной «Греческая философия». 8 февраля следующего года, отослав два первых письма Краевскому, отмечает в дневнике: «Занимался третьим; кажется, изложение греческих философов удачно, особенно софистов и Сократа».
К четвертому письму – «Последняя эпоха древней науки», Герцен приступает в декабре 1844 года, а 29 мая следующего, 1845-го, извещает Краевского о посылке ему «Письма» о «Риме» и просит охранить от попыток «кастрирования», подразумевая цензурные придирки.
Двенадцатого июня 1845 года, когда письмо пятое «Схоластика» «о средневековой философии» было готово, Герцен пишет Краевскому, пытаясь отвести упреки в сложности языка: «…стараюсь теперь всеми силами, чтоб изложение новой философии сделать как можно популярнее: все обвиняют в темноте мои статьи. Тем более постараюсь, что у меня образовался совершенно особый взгляд…»
В июне 1845 года Герцен, работая над шестым письмом – «Декарт и Бэкон», «знакомится ближе с Бэконом». О готовности письма об англичанине Бэконе и французе Декарте сообщает издателю: «…мне кажется, оно удачнее всех других, и знаю одно, что тот взгляд, который тут развит, не был таким образом развит ни в одной из современных историй философии».
Герцен предполагает, начиная шестое письмо в июне 1845-го, дать в нем изложение систем Декарта и Бэкона одновременно, но потом решает посвятить Бэкону и его школе специальную работу. Роль Бэкона в соединении естествознания и философии велика, и Герцен ее очень ценит. В августе письмо седьмое «Бэкон и его школа в Англии» уже окончено.
Очевидно, что Герцен, работая над последней, восьмой статьей «Реализм» в августе – сентябре 1845 года, имел намерение разделить ее на две части. Предварительно хотел написать о реализме в Англии и во Франции отдельно, но от намерения отказался. 27 сентября написал Краевскому: «Письмо о Локке, Юме и энциклопедистах готово». Дорабатывал ее Герцен еще несколько месяцев, до конца года.
Для характеристики основных направлений в философии Герцен употребляет термины: «идеализм», «материализм», «реализм». «Реализм», по Герцену, основан на признании объективности реального мира природы и противопоставлен «идеализму», то есть, по существу, обозначал материалистическое мировоззрение.
Все «письма» на протяжении 1845–1846 годов печатались в «Отечественных записках». Белинский, как всегда, следивший за творческим развитием Искандера, хотя и упрекал друга в трудностях языка, в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1846 года» среди «интересных статей ученого содержания» на первое место ставил седьмое и восьмое «Письма об изучении природы».
«Замечательного мыслителя», крупнейшего «представителя нашего умственного движения» в дальнейшем заметит Чернышевский (знакомящийся в 1840-е годы с его сочинениями) и узнают другие деятели из демократического лагеря. Сторонники и противники герценовских воззрений будут спорить об основных постулатах труда, а марксисты, как сказано, возьмут его на вооружение.
Глава 29«ТЫ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ…»
У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительной верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произвести суд.
В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года
Работа над «Письмами» на восьмой статье была прервана. Возможно, повлияли мнения осведомленных читателей или цензурные угрозы, но главное, кажется, было в другом…
Герцен давно мечтал взяться за повесть. Но на что похожи были его прежние приступы к жанру, его первые опыты? Да были ли они вообще успешны? Ведь самим им сказано: повесть не его род. И браться за нее нечего. Разве что «повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою…». Однако «забросать цветами один женский образ», похоронить порочащую вятскую любовь не удалось. И укор не ушел, да и с неоконченной повестью «Елена» («Там») случилась неудача. В ней «бездна натянутого, и, может, две-три порядочные страницы» – так посчитал сам автор. Зато законченный фрагмент «Город Малинов и малиновцы» из «Записок одного молодого человека» ждал успех, да к тому же скандальный, чуть не стоивший ему нового судебного разбирательства. Вятские прототипы-герои оживились, учуяли в сочинении «авктора» «пошквиль». Один вятский советник даже решил жаловаться министру и в доказательство тождества городских лице персонажами выставлял, как знамя, бальное платье брусничного цвета, в которое обряжалась жена директора гимназии. Директорша, как дама отменного вкуса, была взбешена, защищая свой особенный туалет, и вовсе не брусничный, а «цвету пенсе».Так «оттенок в колорите» спас Герцена от нависшей угрозы, и дело само собою закрылось.
Другая сторона успеха «Малинова» заставила Герцена взяться за давно отложенное сочинение, повесть, а в широком понимании – роман, оставивший в русской литературе свой вечный вопрос.
Начал он работать над повестью, которая давалась ему с трудом, во время новгородской ссылки. Вернувшись в Москву в 1842-м, показывал друзьям. Их отзывы, не слишком воодушевляющие, заставили бросить затею, и рукопись на несколько лет осталась невостребованной. Перебирая свои старые бумаги, скопившиеся во время ссыльных странствий, обнаружил рукопись первых глав повести, названия которой даже толком не помнил. Кажется, «Похождения одного учителя». Так, во всяком случае, он писал Краевскому 12 июня 1845 года, предлагая поместить ее в журнал, да еще с обещанием написать новую главу. Краевский с публикацией медлил, будучи неуверенным в скором завершении всей работы. Издательские сложности тоже предвиделись: образ помещика Негрова, безраздельного владетеля (собственника) своих наследственных рабов, вряд ли понравится цензуре. Герцен успокаивал: Негров «решительно сходит со сцены, отдавши Любу замуж за учителя, и тут начинается иная гистория…».
Месяца через полтора, «когда повесть решительно не писалась», а Краевский настойчиво торопил, Герцен строил разные планы относительно публикации отдельных отрывков, ну, хоть в новом, поджидаемом альманахе Некрасова «Петербургский сборник». Наконец, осенью того же 1845 года, он вернулся к замыслу, придав новому отрывку более самостоятельный характер. 24 октября Герцен, доверившись все же репутации журнала Краевского, просил его изменить название повести на «Кто виноват?», присовокупив эпиграф: «А дело оное предать суду Божию и, почислив его оконченным, сдать в архив» [78]78
Редакция эпиграфа в отдельном издании романа 1847 года иная, более точно соответствующая смыслу романа: «А случай сей за неоткрытием виновных предать воле Божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив. Протокол».
[Закрыть]. Первые главы появились в двенадцатом номере «Отечественных записок» за 1845 год.
Продолжение работы, прерванной на главе V и доведенной до главы VII, по авторской воле вылилось в «совсем новую повесть, в которой только те же лица». (Главы V–VII вышли в четвертом номере журнала Краевского за 1846 год.)
Рождалось сочинение, о котором потом будут много писать и спорить, а в анналах русской литературы критического реализма, в недрах «натуральной школы», выпестовавшей Герцена и его знаменитых современников, оно останется романом антикрепостническим, остро-социальным, хрестоматийно знаковым (как бы мы выразились теперь), вновь выдвинувшим на литературную авансцену «лишнего человека», преемника Онегиных и Печориных.
Откроем роман Искандера (с которым читатель, несомненно, давно знаком). Увидим, как в нем отразилась вся его предшествующая жизнь. Каким бесценным опытом во время тюрем и ссылок она с ним поделилась. Как персонажи обогатились характерами и чертами, конечно, обобщенными, не сказать, чтоб прототипов, но лиц реальных вполне. Как вывернулась вся бюрократическая изнанка общества, как обнажились зверские крепостнические установления. События, наблюдения, даже детали, слова, выражения, нанизавшиеся в памяти литератора, начиная со времен его детства и юности в отцовском владении, собственное его ощущение «незаконного» так или иначе в повести проступили. Сравнение с бытом отца, с его неумеренной, нерасторопной и капризной властью, оборачивающейся неумелым хозяйствованием, воровством приказчиков и безнаказанностью старосты, теперь пришлись сочинителю как нельзя кстати.
В общем, обычная, банальная российская история, в которой, казалось бы, и люди обыкновенные, и жизнь однообразная – ан, нет! Автора повествования «ужасно занимают биографии всех встречающихся ему лиц», ибо «ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задней мысли – куда вынесет!». Читатель, скромно полагает автор, вправе пропускать эти биографические отступления, «но вместе с тем он пропустит и повесть». Такие отступления ценятся им бесконечно: «Они раскрывают роскошь мироздания». «Былое и думы» подтвердят это устремление автора к подобному биографическому повествованию.
Итак, биографии… Действующие лица.
Первым в этой галерее персонажей появляется на сцене Алексей Абрамович Негров. Отставной генерал-майор, его превосходительство, в начале повести еще не обзавелся собственной биографией, но уже стоит, преодолевая зевотой послеобеденный сон, на балконе своего отменно богатого дома, чтобы встретить «определяющегося к месту» учителя, нанятого при содействии доктора Крупова для обучения тринадцатилетнего отрока Михаила, приготовляемого отцом к военной службе. (И ни в коем случае ему не нужно, чтобы «из сына вышел магистр или философ».)
Бедный сын уездного лекаря, робеющий, скромный, только представлен читателю в первой главе как кандидат, вышедший по физико-математическому отделению из Московского университета. И задерживается он ненадолго для утомительного для Негрова «ученого разговора» и представления его супруге – Глафире Львовне, встретившей «нового ментора» Миши крайне благосклонно, по-домашнему, заметив только, что Дмитрий Яковлевич Круциферский (так звали учителя) «с своими большими голубыми глазами был интересен».
Экспозиция повести была бы не полна, если бы помимо упитанного недоросля Миши, его десятилетней сестрицы «с чрезвычайно глупым видом», казачка, горничной, «миньятюрной старушки» – француженки-мадам, не промелькнула бы в комнате еще одна фигура. Молодые герои (а в повести они выйдут на первый план) еще не могут разглядеть друг друга, ибо лицо девушки, уже заявленной как «какая-то Любонька», «которую воспитывал добрый генерал», было наклонено к пяльцам.
Глава II – биография их превосходительств. В описании внешности Негрова, «толстого, рослого мужчины, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен», обнаруживаются резкие его черты, и сквозь кажущееся благодушие и не злобность от природы проступает «строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жесткий на деле» нрав.
Его богатый послужной список определен кампанией 1812 года. Бурная жизнь в Москве после отставки и «шум большого света», как водится, с картами, театрами и клубами, утомляют генерала. Скука загоняет его в деревню, «хозяйничать». С легкостью, вопреки эротической привязанности к «голубым глазкам», он расправляется со своей любовной связью, крестьянской дочерью Дунькой, которую называли «вполслуха полу-барыней», разрешив своему камердинеру жениться на ней, а прижитое с Авдотьей Емельяновной дитя со временем берет к себе в дом. Девочка (повторившая в некотором смысле судьбу Натальи Александровны), лишенная «всех радостей своего возраста, застращена, запугана, притеснена» и, подрастая, мечтает уйти в монастырь.
Кто стал новой избранницей бравого генерала? Биография Глафиры Львовны и вовсе не легкая судьба ее семьи представлены во всех подробностях. Она – типичная, скромная представительница «полубогатых дворянских домов, которых обитатели совершенно сошли со сцены», ибо имущество их было промотано до конца. Даже не имея поначалу ни малейшего представления о своем избраннике, юная и неопытная Глафира вскоре утвердилась полноправной хозяйкой, и брачная жизнь с генералом «текла как по маслу». Выброшенную из дома «дочь преступной любви» своего супруга, трехлетнюю Любоньку, по собственной воле она милостиво приблизила к себе. Причиной тому была «романтическая экзальтация» и прочие, вовсе не дурные побуждения сердобольной супруги, желающей достойно воспитать бедную сиротку.
В главе III развернута биография юноши из дальнего губернского города, сопровождаемая нехитрым родословием Круциферских. Отец – добрый, честный, не до времени состарившийся уездный лекарь, обремененный семьей из пяти детей. Мать – дочь какого-то немецкого провизора (не вспомнил ли Герцен здесь семейную историю своей «подснежной» вятской подруги, немки Полины Тромпетер?). Тяжелое житье Круциферских – вовсе не так занимательно, как жизнь Негрова с домочадцами, считает Герцен, ибо все их усилия направлены на «битву с нуждой».
Нашелся некий меценат, увезший Дмитрия в Москву, где дал ему место во флигеле своего особняка вместе с детьми управляющего. Дальнейшая судьба выучившегося Круциферского, дошедшего до крайности, потерпевшего фиаско «во всех предприятиях», сводит его с доктором Круповым. Его рекомендация – отправиться учителем в дом Негрова, соединяет героев повести.
Глава IV «Житье-бытье», расширяющая границы быта и порядков в доме помещика Негрова, вновь выводит на сцену повзрослевшую и похорошевшую Любоньку, душу нежную, чувствительную, нередко оскорбляемую надменным и жестоким поведением своего отца.
«Немного надобно проницательности, – заключает Герцен, – чтоб предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским… даром не пройдет». Дальше, как водится, пылкая влюбленность, скромное письмо, первый поцелуй любви… Но в нерешительные действия Круциферского неожиданно вмешивается далеко зашедшая в своих любовных притязаниях, соскучившаяся 40-летняя супруга Негрова. Разразившийся скандал, страшные недоразумения (интрига, острый сюжет!), приводящие в содрогание отчаявшегося Круциферского, в конце концов ведут к счастливому соединению с Любонькой.








