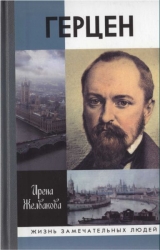
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 44 страниц)
Казалось бы, конец и делу венец, но Герцен, как известно, повесть продолжает, да она, считает, и «не начиналась». В главе V на сцену выходит новый герой, отставной губернский секретарь, лет тридцати, владелец «трех тысяч душ незаложенного имения», «свалившийся, как с неба», в город NN на дворянские выборы, – Владимир Бельтов. И тут завязка почти к новому роману – явился «третий лишний». И тема Бельтова в главах VI–VII получает широкое развитие.
Слухи о Бельтове распространились самые разные, даже мифологические. Из некоторых становилось ясно, что, выйдя из университета, он «попал в милость к министру», потом будто бы «рассорился с ним и вышел в отставку». Герцен не оставил без подробнейшей родословной – истории-биографии своего героя и его родителей: отца – игрока, «охотника пить» и «волочиться за всеми женщинами», которого Владимир потерял в раннем детстве, и мать, происходившую из крестьян, и, по распространенному мнению, дамы экзальтированной, прозванной «экзальте», с приписываемым ей «дурным поведением». На самом же деле бывшей любящей матерью, целиком посвятившей себя сыну.
Кончив блестяще университет, Бельтов с товарищами был еще полон надежд: «Молодые люди чертили себе колоссальные планы…» Мечтали о гражданской деятельности, о славном поприще. Самолюбивый, многосторонне образованный, с «пылким, пламенным умом», он принялся было рьяно за дело, впрягся в бюрократическое колесо, восхищался им, все поэтизировал и встал «на скользкую дорогу», ибо средства не смешивают с целью (в чем предостерегал его женевец – гувернер-идеалист Жозеф [79]79
Реальный прототип – гувернер Голохвастовых и учитель Герцена Маршаль.
[Закрыть], сделавший все, чтоб юноша «не понимал действительности»), «Служи делу, – наставлял учитель, – но, смотри, чтоб не вышло обратного; чтоб дело не служило тебе».
Никто не подозревал, что один из молодых мечтателей (Герцен обобщит опыт собственных наблюдений) «кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс; другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трех рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трех часов после обеда; третий – на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши – не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели».
«…Деятельность, деятельность!..» Надежды не свершились, проекты на новую жизнь в России не удались. Остался без дела и Бельтов – редкая птица в своей среде. Вечно ищущий, наделенный недюжинной силой, он словно бы являл протест, был «каким-то обличением» жизни, «каким-то возражением на весь порядок ее», – размышлял Герцен.
Прошло немало «романного» времени, многочисленных встреч, смены лиц и персонажей, их историй и перемещений по миру, прежде чем Бельтов вошел в жизнь Круциферских. «Судьба вынесла»…Много обещала, да ничего из этого не вышло. Бельтов полюбил – и всех погубил. Конец случился трагический…
Оставались вопросы: кто виноват, отчего все несчастны, почему жизнь заела благородных людей – бедного лекаря, не выдержавшего схватки с немилосердной судьбой; честного, кроткого Круциферского, не способного вступить в борьбу с действительностью и, по безвыходности, пристрастившегося к зеленому змию; угасавшую на глазах сильную и самостоятельную Любоньку; Владимира Бельтова, так и не нашедшего себя, и пр. и пр. Эпиграф, вставленный Герценом в отдельное издание романа, как приложение к «Современнику» (1847), виновных, «за неоткрытием», не обнаруживал.
Вторая часть герценовского романа, который был закончен осенью 1846 года (после написанных в январе – феврале двух повестей: «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов»), стала расширенной вариацией на заданную тему судеб трех героев. Все сочинение, по мнению автора, получило «относительную целость и внутреннюю связь». Однако временной водораздел – разные эпохи личной судьбы автора, в которых создавались отрывки, явно ощущался. Стилистическая манера Герцена, как всегда сатирически заостренная, тоже претерпела изменения. Но общая направленность романа как антикрепостнического, затронувшего и проблему бюрократического всевластия, и неизбежности краха самых возвышенных мечтаний человека об истинном деле, оставалась единой.
Вопросы семьи и брака, особенно волновавшие Герцена в ту пору, тоже не потеряли своей злободневности. Одним из проводников и выразителей этих идей выступил в повести холостяк доктор Крупов, образ которого займет немалое внимание в творчестве писателя. «Кто виноват?», будто бы провидчески, посвящался Герценом своей жене.
Целые страницы сочинения, как и опасался Герцен, бесконечно предупреждая Краевского о возможных осложнениях, – попали под нож «цензурной гильотины».
Реакционная критика обрушилась на роман. Не унимался Булгарин, не оставлял своим вниманием, науськивал (корпел над доносом в Третье отделение): «Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой – образцы добродетели». Глава тайной полиции Дубельт с «предосудительностью всей повести» соглашался, журнал «Сын отечества» подавал свою трактовку повести, чтобы нейтрализовать заложенный в ней идейный смысл. Ответ на вопрос представлялся очевидной банальностью: в людских трагедиях виновата одна судьба. Доносы в Третье отделение шли в своих разъяснениях дальше: «Автор – социалист, без сомнения рассчитывал, что некоторые станут вкушать вредный плод его воображения, признают виноватыми правительство и гражданский наш порядок, хотя он не выразил прямо всего его сознания».
Типичность героев романа отрицалась, особые нападки вызывал стиль герценовской беллетристики, которому несколько позже, в 1848 году, была навязана особая терминология. Шевырев в «Москвитянине» писал: «Искандер развил свой слог до чистого голословного искандеризма, как выражения его собственной личности». Этим словарем «искандеризмов» он в том же журнале открывал свой, составленный им «Словарь солецизмов, варваризмов и всяких измов современной русской литературы». Так начинала утверждаться легенда о «неполноценности» художественного творчества Искандера, бывшая последствием идейной вражды, разделившей интеллектуальное русское общество на два лагеря.
Демократическое крыло, в лице ближайших друзей, сподвижников Герцена и представителей новой писательской «волны», восприняло с воодушевлением его повесть в «Отечественных записках» с самых первых, опубликованных там глав. (Истинные баталии вокруг трактовки «лишнего человека» развернутся значительно позже, о чем будем еще иметь случай напомнить.)
Второго декабря 1845 года Некрасов просил Кетчера: «Скажи Герцену, что его повесть – поистине превосходная повесть, что лучше он никогда ничего не писывал и что, читая его повесть, так и кажется, что он только и делал весь век, что писал повести: такая ровность и ни одной фальшивой нотки».
Первого апреля 1846 года Ф. М. Достоевский писал брату Михаилу: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров».
В первом номере «Отечественных записок» за 1846 год в статье «Русская литература в 1845 году» Белинский включал «Кто виноват?» в «ряд оригинальных произведений по части изящной прозы»: «Автор повести… как-то чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, плоды своей наблюдательности – в действие, исполненное драматического движения. Какая во всем поразительная верность действительности, какая глубокая мысль, какое единство действия… какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумия, души, чувства!..мы смело можем поздравить публику с приобретением необыкновенного таланта в совершенно новом роде».
В начале января 1846 года критик писал Герцену из Петербурга, словно снимая свое прежнее табу на возможность рождения в его творчестве повести как жанра: «Милый мой Герцен, давно мне сильно хотелось поговорить с тобою и о том, и о сем… и о твоей превосходной повести, обнаружившей в тебе новый талант, который мне кажется лучше и выше всех твоих старых талантов (за исключением фельетонного)…»
Белинский предполагал к Пасхе 1846 года собрать свой собственный альманах «Левиафан» (увы, не состоявшийся) и уже, заручившись обещаниями Тургенева, Достоевского и Некрасова, обращался к Герцену: «Повесть или жизнь»Желая помочь другу, Герцен отвлекся от продолжения работы над второй частью «Кто виноват?» и в январе 1846-го взялся за «Сороку-воровку», вновь замахнувшись на крепостнический мир, безбрежно раскинувшийся от узких театральных подмостков до бескрайних российских просторов. Сюжет, подсказанный Щепкиным, воплотился в трагический рассказ о судьбе крепостной актрисы, предпочитающей гибель унижающему холопству.
Белинский сразу же откликнулся: «Твоя „Сорока-воровка“ отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор – прелесть, умно чертовски. Одного боюсь: всю запретят».
Вскоре явилась мысль о «Записках медика», «Докторе Крупове», небезосновательно полагавшем, что «человечество больно безумием». Подобная идея проскальзывала и в «Малиновской эпопее». Герой «Записок одного молодого человека» рассуждал о нравах, о жалкой жизни в городе: «…больные в доме умалишенных меньше бессмысленны». Безумие охватило все сословия России – от дворянства до крестьян. Причины этой «психической эпидемии» доктор Крупов усматривал не в натуре человека, а в нелепом устройстве общества с его замшелыми нравами и семейными традициями.
Повесть Белинский одобрил. Он писал Герцену 20 марта 1846 года: «„Записки доктора Крупова“ – превосходная вещь… твой талант – вещь не шуточная, и если ты будешь писать меньше тома в год, то будешь стоить быть повешенным за ленивые пальцы».
Суровый, взыскательный, непримиримый Белинский без устали восхищался всем, даже… недостатками, оригинальными, как всё у Герцена. «Я, – писал он Герцену, – окончательно убедился, что ты большой человек в нашей литературе…»
Глава 30СОКОЛОВСКИЙ ФОРУМ
В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости…
И. И. Панаев. Литературные воспоминания
Летом 1845 года Герцену с семьей, за неимением Покровского, отданного щедрой рукой кузену Голохвастову, пришлось снять дачу в двадцати верстах от Москвы по петербургской дороге, в старинном барском селе Соколово, некогда принадлежавшем графам Румянцевым. Так что работа над повестью «Кто виноват?» и тремя последними письмами «об изучении природы» продолжалась за городом, в живописнейшем месте, в прекрасном доме обширного имения помещика Дивова, где удобно разместилась вся разросшаяся герценовская семья. Друзья последовали за Герценом, поселившись по соседству в других взятых внаем домах, или, при случае, приезжали погостить на денек-другой.
Грановские, Корш с сестрой, Кетчер, Боткин появлялись обычно в субботу и оставались до понедельника. Однажды к ним присоединился Панаев, на долгие годы покоренный этим небывалым ощущением дружеского сплочения, радости интеллектуального общения и единства с природой:
«…Время, проведенное мною в Соколове, я никогда не забуду. Оно принадлежит к самым лучшим моим воспоминаниям. Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца, и в лунные ночи, наши прогулки, наши обеды на широкой лужайке перед домом, послеобеденное far niente [80]80
Ничегонеделание (ит.).
[Закрыть]на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходившие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие замечания Корша, дикий, но добродушный смех Кетчера, размахивавшего длинным чубуком – все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии…»
Какое счастливое было это время! «Ах, как тогда легко смеялось, и как было весело!» – непосредственное восклицание, вырвавшееся у М. К. Эрн, постоянной участницы соколовского бытия, передает настроение всех, кто жил в то далекое лето рядом с Герценом. Он и сам помнил, «как прекрасно» было в тот год в Соколове: «Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке».
Голос П. В. Анненкова – не последний в этом хоре участников счастливого и пока согласного времяпрепровождения: «Лето 1845 года оставило во мне такие живые воспоминания, что и теперь… по прошествии с лишком 25-ти лет, как будто вижу перед собой каждого из тогдашних лиц московского кружка…
<…> Вероятно, ни ранее, ни позже Соколово уже не представляло такой поразительной картины шума и движения… Приезд гостей к дачникам был невероятный, громадный.
Хозяева жили в страшном многолюдстве и, по-видимому, не имели времени сосредоточиться на каком-либо своем собственном, специальном занятии. Гости калейдоскопически сменялись гостями…» К привычным завсегдатаям герценовского дома присоединялся М. С. Щепкин, приходивший пешком со своей химкинской дачи, часто с кузовком набранных грибов, которых, по всему, в то лето была великая прорва. Гостил Н. А. Некрасов, «возбуждавший тогда общий симпатический интерес своей судьбою и своей поэзией». Наезжали литератор Д. А. Засядько и профессор П. Г. Редкин. (Как ни странно, среди гостей находилась и вятская пассия Александра Ивановича – Прасковья Медведева, которой, к слову сказать, он неизменно помогал.)
Герцен, личность которого неодолимо притягивала, оставался центром кружка. Недоставало Белинского, посещавшего Белокаменную лишь во время своих редких наездов из столицы; остро ощущалось отсутствие Огарева, странствовавшего в чужих краях.
Никогда еще прежде не скапливалось одновременно людей столь блестящих. В Соколове, как кто-то точно заметил, «не позволялось только одного – быть ограниченным человеком». П. В. Анненков назвал соколовскую жизнь «подвижным конгрессом из беспрестанно наезжавших и пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые, видимо, все имели целью перекинуться идеями и известиями друг с другом». Он подтверждал ощущения и рассказы других участников «соколовского форума».
В этом «водовороте гостей и наезжих со всех сторон» никто не забывал о деле, и хозяева дачи, как могло показаться вначале, жили вовсе не праздно. Герцен не прерывал своих ученых занятий. Грановский готовился к новому курсу публичных лекций. Кетчер в перерывах между своей бурной, «организаторской» деятельностью (подмечено, что Николай Христофорович имел обыкновение делаться «домашним человеком», где бы ни появлялся) трудился над своими переводами. Мемуаристам и живописцам в тот год оставалось участвовать, наблюдать и фиксировать все роскошество ускользающих моментов редкого человеческого единения.
Каждый из вспоминавших Соколово не может удержаться, чтобы не передать атмосферу того безудержного веселья, безотчетной, не омрачающейся ничем легкой радости, которая иногда случается в молодости.
Анненков сохранил карикатурный листок, изображающий его самого, Герцена, привычного виночерпия Кетчера, размахивающего бутылкой, Грановского, смиренно опершегося на палку, щеголеватого Панаева в клетчатых панталонах по столичной моде, остроумца Корша и К. Рейхеля, новгородского знакомца и создателя двух герценовских портретов, «в ночной беседе, какие тогда часто бывали на обрыве горы, в садовом павильоне соколовского парка», названном по традиции «Бельвю» из-за прекрасного обзора окрестностей. Беседка, которую Герцен окрестил «Пандевуй», переиначив французское point de vue,стала местом ночной пирушки, которую с веселой непосредственностью остановил карандаш художника. Под рисунком обозначены фамилии всех семи действующих лиц «Ночной сцены в Соколове в 1845 году» и подпись – «К. Горбунов». В этом наброске – Герцен в круглой шапочке, наподобие тюбетейки, устроился на краешке дивана, на котором лежит Панаев, очевидно, после неумеренного возлияния. Над ними наклонился Анненков. Щеголеватый остроумец Корш предстает в цилиндре и сюртуке. (Кстати, Анненков иронично заметит о нем, что «он стоял постоянно с ногой, занесенной, так сказать, из своего лагеря в противоположный, охлаждая слишком радужные чаяния или чересчур сангвинические порывы своих друзей».)
Сохранились свидетельства о существовании других набросков – картинок из жизни той далекой поры, которые приписывались легкому карандашу Натальи Александровны, и в дальнейшем проявившей себя недурной рисовальщицей. Но обнаружение этих рисунков спустя столетие с лишком в семье потомка Герцена Л. Риста, передача их в Дом-музей его московской кузиной Н. П. Герцен и сравнение с оригиналом – «Ночной сценой в Соколове», всякие сомнения исключили: те же действующие лица, часто в тех же ракурсах и сходных позах (как, например, Грановский). И рисовал их все тот же Горбунов.
Молодой талантливый художник из вольноотпущенных, а впоследствии академик, Кирилл Антонович Горбунов становится частым гостем в Соколове. Связанный тесной дружбой с Белинским и Боткиным, Горбунов знакомится с Герценом, очевидно, в 1839 году, а в 1845-м – он уже свой человек в его доме. Наблюдает, изображает почти всех участников герценовского кружка – Корша, Кетчера, Анненкова, не обходит вниманием и женскую половину общества. Начинает с серьезной портретной галереи, рисованной «с натуры и на камне», где появляется портрет Герцена нового возраста жизни. Александр Иванович уже не тот романтический красавец, как на ранних рисунках Витберга. Чувствуется, что нелегкая жизнь оставила след. Он погрузнел, над высоким лбом образовалась залысина, пополневшее лицо обрамляют пышные баки. Взгляд – сосредоточенный, но во всем облике – та же скрытая энергия.
На шаржированных набросках фигуру Герцена не так легко обнаружить, если не представить сцену купания на речке Сходне, привлекшей в свои воды немало соколовских любителей понырять. Герцен не единожды наблюдал, как Щепкин, «великий мастер плавать, – по свидетельству Панаева, – проделывал разные фокусы на воде и, между прочим, остров: он весь скрывался в воде, обнаруживая только один круглый и полный живот свой». Подобный фокус – «остров» – имитировался Герценом. Его фигура на шаржированном рисунке узнавалась в очертаниях пловца, освежающегося после бурно проведенной ночи в беседке «Пандевуй».
Светлая сторона соколовского лета постепенно затемнялась. Оно не было таким уж мирным и безоблачным. Не забыты гневные письма Белинского, обвинявшего друзей в заигрывании со славянофилами, которые не стеснялись упрекать своих врагов в отсутствии патриотизма и даже в «ненависти к России». Не утихали страстные споры вокруг крестьянской проблемы, нередко омрачавшие дружескую идиллию. До теоретических вопросов касались только поверхностно, слегка, а в этом, оказывается, и таилась главная опасность.
Дружба меркла, человеческие привязанности распадались – и все от различия в воззрениях, противоположности взглядов, что немедленно прекращало общение, даже в этой возвышенной, благородной среде.
Лето 1845 года в Соколове «действительно было закатом молодости этого кружка… но закатом великолепным, блестящим, ярко и картинно озарившим всех друзей своими последними лучами…» – свидетельствовал все тот же Панаев. «В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим, разъединение, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы…»
Герцен чувствовал: возникающее разномыслие вскоре проявится в чем-то глубоко сокровенном, что каждый выстрадал по-своему.
Глава 31ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО В РОССИИ. «ПРОЩАЙТЕ!»
Ну, радуйтесь! Я отпущен!
Н. П. Огарев. Юмор
В марте 1846 года на одну из лекций Грановского (начавшего в ту пору новый публичный курс) прибежал кто-то из общих знакомых и сообщил о приезде Огарева и Сатина: «Что-то они… как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к „Яру“, где они остановились». Это воспоминание никогда не оставляло Герцена. Ведь друзей так ждали, так надеялись на скорую встречу… Не прошло и двух месяцев, как из Петербурга явился Белинский. Так собиралась «старая семья друзей», шедшая вместе долго и без видимого разномыслия. Но впереди – неминуемое расхождение, «теоретический разрыв», как назовет его Герцен, когда из «оттенков и личных взглядов» вырастает разное миросозерцание, резко разведшее прежних друзей – идеалиста Грановского и материалиста Герцена.
Года полтора назад Герцен записал в дневнике: «Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена!»
«В этой зависти к силе Робеспьера», одобрившего приговор бывшему другу, вынесенный революционным трибуналом, «уже дремали зачатки злых споров 1846 года», полагал Герцен. Их отсрочка пришла с кончиной его отца, с необходимым устройством образовавшихся дел, свалившегося на него наследства и окончательным переездом семьи из «тучковского дома» в большой «ростопчинский» особняк.
Счастливое лето 1845 года не повторилось. Предчувствия Герцена оправдались. Дачная жизнь в Соколове, названная им красивым итальянским словом villeggiatura,во второй раз не удалась. Обнажились тщательно маскируемые противоречия. Но первое время, в одушевлении праздника встреч и неумеренных застолий, этого никто не замечал.
Теперь трудно представить, как спор о бессмертии души может вдребезги разбить «влюбленную дружбу» двух преданных друг другу людей. Но тогда разномыслие дружбу исключало. «Тождество в главных теоретических убеждениях», в миропонимании Герцена, было необходимо. Они «не составляли постороннее, а истинную основу жизни».
Решающий разговор как-то невзначай возник во время обеда в соколовском саду. Грановский с воодушевлением отозвался относительно одного из «Писем об изучении природы». Герцен поинтересовался: «Да что тебе нравится? <…> Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен».
Мнение Герцена, «что развитие науки, что современное состояние ее обязывает наск приятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет… и к признанию фактов неопровержимых, как нераздельность причины и действия, духа и материи», вызывало резкую отповедь Грановского. Он никогда не примет «сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души», а личное бессмертие ему необходимо.
Долгий диалог подвел черту. Точка в споре была поставлена. Выправить происшедшее не представлялось возможным. Дружба не сладила с холодом разногласий. Внешне друзья расстались мирно. Остались сомнения в «наивности» такой непреклонности, и все же Герцен уверен был в своей правоте: «В действительно близких отношениях… необходимо тождество в главных теоретических убеждениях». Он чувствовал только, как сердце щемит от боли, словно кусок его «отхватили». Уходила открытость в общении с друзьями, возникала натянутость. Мелочные ссоры вызывали неоправданные обиды, постоянные споры выходили порой за границы только методов варения кофея, в чем особую, «строптивую нетерпимость» проявлял Кетчер, и – прежний круг распался.
Огарев, несмотря на долгое отсутствие, «был совершенно в том направлении», что и Герцен. К ним «присоединилась Natalie». Их, единомышленников, оставалось только трое.
Да, ехать! Мысли о поездке в Европу возникали не раз. «Славянофилы жестоко освирепели, „Отечественные записки“ им пришлись солоно». «Темный фатум», в который всегда он верил, кажется, вновь готов «вовлечь в безвыходное положение». Герцен не уставал повторять: «Страшная эпоха для России, в которую мы живем, и не видать никакого выхода». «Где свобода?» Нет, не в эмиграции. В известных случаях она допустима, «но не для того, чтоб жить там праздному и проживать все свое состояние пошло… Да и такая жизнь за границей – безнравственное бегство». Его манили даль, открытая борьба. С другой стороны… В его дневнике остается запись: «Мы потеряли уважение в Европе, на русских смотрят с злобой, почти с презрением. Россия становится представительницей всего ретроградного, материальной силой, употребляемой для того, чтоб остановить течение европейского развития; да и как же иначе смотреть на нее?»
После «теоретического разрыва» Наталья Александровна окончательно уверилась, что следует менять жизнь семьи.
Первого ноября 1846 года она достает свой дневник: «Да, уехать, – мы уже несколько лет собираемся в чужие край, здоровье мое расстроено, для меня необходимо это путешествие, писала просьбу к императрице пять лет тому назад – все бесполезно… <…> Впрочем, я как-то спокойнее ожидаю теперь позволенье и отказ. Что это – равнодушие или твердость? – но на все смотришь спокойнее, удовлетворения все меньше и меньше и требовательности меньше… Не резигнация (покорность судьбе. – И. Ж.)ли это? Какое жалкое чувство; нет, лучше сердиться или страдать. Отчего же я не сержусь и не страдаю? <…> По временам я чувствую страшное развитие силы в себе, не могу себе представить несчастия, под которым бы я пала. Последний припадок слабости со мною был в июне, на даче, тогда, как разорвалась цепь дружеских отношений и каждое звено отпало само по себе».
Герцен прекрасно понимал, что получить разрешение на выезд непросто, даже ссылаясь на ухудшающееся здоровье жены. Ехать «к водам» – все одно, держат полицейские вериги. Он еще поднадзорный. Николай I злопамятен. Вряд ли выпустит из пределов отечества. Дело теперь – в заграничном паспорте.
Для начала, с огромным трудом, было получено от графа Орлова, заступившего на место Бенкендорфа в Третьем отделении, разрешение посетить Петербург. И все при содействии старой и верной заступницы – Ольги Александровны Жеребцовой. Семейные обстоятельства помешали Герцену сразу же отправиться в столицу, потом вмешались полицейско-бюрократические заморочки, и только 2 октября 1846 года стало возможным ехать. В Петербурге, как полагается, он оказался под мелочной опекой дворника, пришедшего спросить от квартального, «по какому виду» он приехал в столицу. «Единственным видом» (указ об отставке был передан в канцелярию генерал-губернатора с просьбой о паспорте) был билет, который служаку не вразумил. Дворник позволил себе заметить, «что билет годен для выезда из Москвы, а не для въезда в Петербург». Дальше бюрократическая канитель развертывалась то по вертикали, то по горизонтали, и каждый из мало-мальски облеченных властью проявлял свои, не ограниченные ничем, дикие повадки. Герцену эти «нормальные» и до боли знакомые «явления», которые он точно назвал «беспорядок в порядке», наблюдать было не впервой. Правда, Дубельт казался, как всегда, до чрезвычайности уклончиво обходительным и предлагал вернейшие пути для получения паспорта.
Все же дело о «пассе» поворачивалось скверным анекдотом, и Герцен, не солоно хлебавши отправляясь обратно из Петербурга, «присягнул себе не возвращаться в этот город самовластья голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии, в котором учтив один Дубельт, да и тот – начальник III Отделения».
Дело затягивалось. Московский генерал-губернатор Щербатов не торопился отвечать графу Орлову. Да к тому же секретарь градоначальника, ненавидевший Герцена как отчаянного гегельянца, не брал взяток. В «Былое и думы» вплетен еще один «медальон» с парадоксальным замечанием о неистребимом российском пороке: «В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взяток у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами, то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи бог».
По счастью, бюрократическая история шла к завершению, и Герцен был извещен 8 ноября 1846 года «о высочайшем повелении снять надзор», что давало ему «право на заграничный пасс». 26ноября «Московские ведомости», в № 142, поместили первое, непременное для отъезжающих, троекратное объявление, что за границу, в Италию и Германию, на воды, отправляется с семьей надворный советник А. Герцен, а вместе с ними – Л. Гааг, М. Корш и М. Эрн. Давно ожидаемое событие в жизни Герценов вновь омрачилось роковым несчастьем: наследующий день скончалась их дочь Лика, Елизавета, не прожив и года.
В январе 1847-го прощались с друзьями. Собрались у Грановского всей разношерстной компанией. Поднимали бокалы. Пели. Смеялись, но с явной натяжкой. Произносили речи. Вроде и нет никаких ссор, никаких расхождений. Да если б и были, как с К. Аксаковым, – Герцен так любил этого человека, даже в момент разрыва, когда и руку противнику подать грешно… И все же сцена случайной встречи с ним на улице для автора «Былого и дум» отнюдь не случайна, не забываема, до слез. Накануне отъезда Аксаков приехал с ним проститься, но в первый раз хозяина дома не застал.
В Сивцевом Вражке побывали многие. Из знакомых – К. Д. Кавелин и В. А. Соллогуб. В один из зимних дней пришел на прощальный обед Чаадаев. Снова отсутствовал ближайший из близких, Ник Огарев, погрязший в делах своих наследственных имений. Прощались письмами. Предотъездные хлопоты помешали Герценам отправиться к другу в пензенское Старое Акшено. Следовало подготовиться к отъезду. Покончить со всяческими обязательствами, передать брату Егору на хранение оставшееся на время имущество – дома, библиотеку, архив. Составить доверенность на имя душеприказчика Г. А. Ключарева для ведения финансовых и имущественных дел. Подать в герольдию прошение о внесении фамилии Герцен в родословную книгу дворянства Московской губернии. Уж отец позаботился о «воспитаннике»… Наследственное состояние значительно. Справедливость рождения восстановлена.
Уезжали зимним январским днем. Плакали, обнимались. Узы не порваны. Да стоит ли ехать… Новый журнал «Современник» Некрасова, Панаева и Белинского – вот-вот, на подходе. Объявлена подписка на 1847 год. И Герцен – в числе его первых сотрудников. Панаев уведомил московских друзей, «что ни одна строка» не появится больше в журнале Краевского, а «Кто виноват?» выйдет отдельным изданием как приложение к «Современнику» в виде премии его подписчикам.
Так и случилось. Герцен успел даже надписать и подарить книжку в зеленом переплете с грифом нового журнала П. Я. Чаадаеву, М. Ф. Корш и М. К. Эрн. Отклики единомышленников воодушевляли. В литературном обзоре критика В. Н. Майкова в «Отечественных записках» (1847, № 1) автор «Кто виноват?» назывался «нашим первым современным беллетристом», так что писательское тщеславие романиста Искандера тоже, кажется, удовлетворено.








