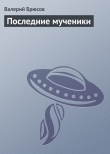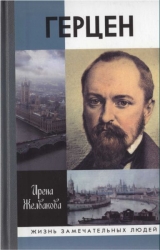
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 44 страниц)
До второй почтовой станции санкт-петербургского тракта – Черная Грязь, в белоснежный, искрящийся, солнечный день провожали шесть-семь троек. Так запомнилось Герцену. В памяти Татьяны Астраковой осталось, что ее брат Сергей, которому было поручено организовать проводы, в Дорогомиловой слободе нанял «не то десять, не то пятнадцать троек», а местные ямщики только диву дались: «Вот так проводы! Да так только царей провожают…»
Вновь прощались, вновь поднимали бокалы… Двинулись в путь только к вечеру. Никому не дано было знать, что дорога ведет к вечной разлуке.
Календарь зафиксировал дату по старому стилю: воскресенье, 19 января 1847 года. Обрывалась российская жизнь. Границу России предстояло пересечь по новому летоисчислению.
Ну, радуйтесь! Я отпущен! Я отпущен в страны чужие!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЕРЦЕН НА ЗАПАДЕ
Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недовольных, то есть отставных, удаленных, отправленных на покой; теперь есть общество независимых.
А. И. Герцен. Былое и думы
Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию – спасла меня на краю нравственной гибели. <…> За эту веру в нее, за это исцеление ею – благодарю я мою родину. Увидимся ли, нет ли – но чувство любви к ней проводит меня до могилы.
А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии
Глава 1
«ПО ТУ СТОРОНУ БЕРЕГА»
Вы-mo, Ваше высокоблагородие, кто такое?
Вопрос «ученого жандарма» на границе
«…Шлагбаум опустился, ветер мел снег из России на дорогу…» Дорога уводила Герцена все дальше от Дома, от Сивцева Вражка, от почтовой станции – Черная Грязь! – врезавшейся навсегда в его память белоснежным днем прощания с родиной и друзьями. Сумятица мыслей, благодарственных чувств – позже, когда придет в себя, будет говорить, писать бесценным своим друзьям – нежных слов хватит надолго.
Черно-белый шлагбаум словно рассекал его жизнь между двумя мирами, разводил меж двумя берегами, отмеривал две судьбы.
Старый приятель и неизменный «образчик родительского дома» Карл Иванович Зонненберг, вместе с кормилицей двухлетней Таты, красавицей Татьяной, были последние, кто 31 января (по старому стилю) 1847 года прощался с путниками в пограничном местечке Тауроген. В тот же день, 12 февраля (по новому стилю [81]81
Даты событий, происходящих в Европе, даются в тексте по новому стилю. Для определенных дат, охватывающих и Россию, в скобках приводятся числа по старому стилю.
[Закрыть]) русская граница была преодолена. Россия, как всегда, немного запаздывала.
Проверка паспортов в Лауцагене (Лаугсцаргене), на прусской стороне, обернулась трагической нелепостью. Бдительный заграничный страж принялся с усердием изучать «пассы», выданные по указу самодержца всероссийского, с множеством печатей и резолюций начальственных лиц и недосчитался главного – «вида» на въезд самого– «высокоблагородия» мужского пола.
Вопрос пристрастного стражника: «Вы-то, Euer Hochwohlgeboren, кто такое?» – Герцена озадачил. Он не понимал ничего. В руках усердного контролера было действительно только три женских паспорта: его матери и двух «фрейлейн» Марий – Эрн и Корш.
Уж столько преодолено, сколько напрасных усилий, надежд, и нате – потеря «пасса», глупая потеря! Опять просить, возвращаться, да не поверят: какие «минеральные воды» в январе, маршрут ведь принят совсем другой. Знакомые образы канцелярских «жимолостей» возникали, пугали повторением хлопот и мелочных преследований. «Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры…» – только и мог подумать Герцен. Что он без «пасса»? Этих нескольких сложенных листов бумаги с красноречивой подписью министра внутренних дел, «сенатора и кавалера ордена святого Владимира» Перовского, к тому же еще имеющего «золотое оружие с надписью за храбрость», хватает, чтоб решить судьбу человека, вырывающегося на волю.
Лошадь, отправлявшая в обратный путь на поиск потерянного «пасса» (может, лежит где-то, занесенный снегом, а может, оставлен при проверке в Таурогене), была уже заложена, когда пропажа внезапно обнаружилась. Где? Как? «Ваш русский сержант положил лист в лист, кто ж его там знал, я не догадался повернуть листа…» – объяснение «ученого сержанта», превзошедшего в усердной тупости своего русского, хоть и неграмотного коллегу в Таурогене, дело как-то разъяснило [82]82
Только взглянув на сохранившийся в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки многостраничный, большого формата паспорт Александра Ивановича Герцена (первая, титульная страница – по-русски, с именем лица; вторая, оборотная – по-немецки), можно предположить, что русский пограничник вложил его в другие три «женских» пасса, повернув лист паспорта Герцена второй страницей, а прусский сержант не удосужился всё внимательно пересмотреть.
[Закрыть].
Граница осталась позади. Неповоротливые, громоздкие дилижансы, «мамонтовской величины кареты на полозках», «маленькие бейшезы», в общем, все, что передвигалось и где не без труда удавалось разместиться, с частыми остановками, утомительными пересадками и потерями багажа перемещали путников вглубь Европы. Что чувствует, переживает прежде подневольный человек, первый раз вырывающийся за границы государства Российского?
Всякий почувствует: «И одного часа езды достаточно, чтоб очутиться совсем в другом мире…» По дороге в Берлин преодолели Тильзит и прочие прусские городки, наконец добрались до Кёнигсберга. Истинную Европу он, русский путник, встретил именно там: «Кенигсберг был первый город, в котором я отдохнул от двенадцатилетних преследований, там я почувствовал, наконец, что я на воле, что меня не отошлют в Вятку, если я скажу, что полицейские чиновники имеют также слабости, как и все смертные, и не отдадут в солдаты за то, что я не считаю главной обязанностью всякого честного человека делать доносы на друзей».
Ему казалось, что «все встречные смотрят весело и прямо в глаза», говорят громко и без боязни, а выставленные повсюду в витринах карикатуры на императора Николая, которые он закупил во множестве, – привычная банальность, занимающая разве что настороженное внимание русских. Герцен словно помолодел, был взволнован, полон надежд; «неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрения – отлетели»; ему передалась открытая веселость иноземной толпы.
«Да и как же было не веселиться», вырвавшись из-под полицейского надзора, когда ты «во всей силе развития» и таланта идешь вперед с доверием к жизни. Открытая даль манит, пробуждающаяся Европа подает надежды; ты ищешь арены, поприща, прислушиваешься к вольной речи.
Новые, «врасплох остановленные и наскоро закрепленные впечатления времени» – в письмах домой. В них – радость первого узнавания и веселое удивление от встречи с Европой. Пока это только начало. Пока он в Европе только турист и пользуется всем, предназначенным для этой беспечно-счастливой части человечества, – охоч до памятников и театров, до ресторанов и дорожной болтовни.
Ощущение раскованной свободы может и подвести. Парадоксально, что на тяжелом и длинном переезде из Кёнигсберга в Берлин невольным попутчиком по дилижансу, которому Герцен неосмотрительно доверился в разговорах о паспортах, строгости российской полиции и прочем, обсуждаемом в России вполголоса, оказался агент прусской полиции. «Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, – иронизировал впоследствии автор „Былого и дум“, – был шпион, зато он не был последний».
Размышления в пути и дорожные жалобы путников доведены до московских друзей с впечатляющей массой подробностей в первом, частном письме, отосланном Герценом 20–21 февраля 1847 года из берлинской Римской гостиницы («Stadt Rome»), что на центральной Unter den Linden. (Не забудем, что женская и детская часть кочующего общества, претерпевшая немалые сложности, с трудом и самоотвержением преодолевала обременительные препятствия дальнего путешествия.) «Представьте досаду наших дам, – отчитывался Герцен в письме, несколько придя в себя после треволнений пути, – когда в 15 минут надобно было напиться кофею, накормить детей, выгрузить пожитки и уложить их, долее 15 минут оставаться нельзя – почтальон трубит, кондуктор сердится, почтовый экспедитор ругается, зачем кондуктор ждет, а тот все трубит, и так скверно, что поневоле торопишься, а тут подушки летят в грязь, саки бросаются из кареты в карету так, как у нас льдом погреба набивают, да часто еще Коля кричит, Саша вертится между лошадями, Луиза Ив[ановна] в полнейшей десперации, не может найти своих вещей, в это время кондуктор, в утешение, бросает нас всех по местам, уверяя, что на той станции всё найдется, – а там ночь, та же сцена, но с освещением фонарями».
Берлин поразил масштабностью, высотой «огромных домов, часто серьезной и чистой архитектуры», а главное, чувством, «что это одно из больших соустий всемирного кровообращения». Без внимания путешественников не остались ни театры, ни музеи, ни кафе, притягивающие литераторов возможностью шумно подискутировать. Важным было посещение Берлинского университета, увы, пережившего свою былую славу. Но в памяти причастных к великой философии всё еще продолжали являться тени колоссальных фигур – Гегеля и Фихте. Герцена пробрало: ведь они, его герои ходили по тем же коридорам.
Как всегда, русских тянуло к своим. Герцен – не исключение. В Берлине оказался Иван Сергеевич Тургенев, неизменно следовавший за Полиной Виардо, гастролирующей в немецкой столице. Вот и повод, и удовольствие отправиться в оперу на «Севильского цирюльника», где она «удивительна мила Розиной». Вскоре следует встреча с сыном Михаила Семеновича Щепкина – археологом и филологом Дмитрием («чудо», что за ученый!). Вместе осматривали город, посетили картинную и скульптурную галереи в Берлинском музее. Знакомство Герцена с немецкими литераторами, в первую очередь с Германом Мюллером-Стрюбингом, очевидно, по рекомендации Огарева, и незамедлительно возникшая дружба между ними принесли Герцену множество воодушевляющих часов. Говорили об оставшихся в России друзьях, о русской литературе. И тут уж открытых споров, вольных разговоров, искренних воспоминаний, смешных анекдотов не избежать… «Вот она, свободная-то Европа!.. Вот они, Афины на Шпре!» Чего-чего, – усмехнется Герцен, – но «молчание никогда не было отличительным достоинством моим, несмотря на то что я всегда много говорил». Герцен стремительно входил в круг европейских интересов, неизменно обращенных и к России.
Огромная надежда возлагалась Герценами на берлинских врачей. Велись консультации с первейшими медицинскими светилами о здоровье Натальи Александровны, о глухоте маленького Коли. В специализированных заведениях для глухонемых, посещаемых Герценом, перспективы лечения сына, увы, не обнадеживали. «…Мне говорить… об этом трудно, это разлагает меня до тла», – писала Наталья Александровна своей подруге Лизе Грановской.
Из Берлина отправились в Кёльн. Как тут не восхититься деятельным городом, славным, вознесшимся до небес Кёльнским собором, как не закружиться в вихре сменяющихся картин. (Невольные ощущения туриста!) Изящество городов, свободное оживление улиц, стремительные перемещения по железной дороге – всё захватывает Герцена на первых порах, передается друзьям с поразительной силой восторженного удивления. Но вот в легкую веселость новых впечатлений врывается щемящая нота. То колокольный звон где-нибудь в чужестранном городе напомнит Белокаменную, то вдруг встреча с каким-нибудь случайным русским в толпе путешественников на таможне или станции дилижансов воскресит знакомой речью воспоминание… И тогда в голове всё одно, «не Кёльн, не его собор, а длинный ряд изб да хрустящий снег…».
Покидая пределы отечества, и в мыслях не было, что он, Александр Герцен-Искандер, уже снискавший славу автор «Кто виноват?», признанный философ с наследством «Писем об изучении природы», общественный деятель с тюремным стажем, может навсегда задержаться на Западе. Только потом, после нескольких лет кружения по взбаламученной революциями Европе, после лишения российского подданства и объявления государственным преступником с запретом на имя и труды, поверилось – мосты сожжены и обратно дороги нет.
А пока никаких сожалений. Летопись бродячей жизни новоявленного пилигрима фиксирует даты, встречи, города, которые, по его же слову, быстро «прореяли» перед глазами. После Германии, поразившей разумной добросовестностью порядка, 15 марта 1847-го – Бельгия, с изяществом «маленького Парижа» – Брюсселя, «превосходящего всякое описание», и трудно сказать, чему Герцен отдает предпочтение. Когда смотришь на все «полурассеянно, мимоходом» и стремишься только к одному – доехать до прекраснейшей из столиц, когда впервые туда попадаешь и живешь в шикарном Рейнском отеле на красивейшей Вандомской площади с видом на столп Наполеона, – эйфорию трудно сдержать.
Двадцать пятого марта по новому стилю путешественники достигли желанной цели. Свободному российскому гражданину Александру Герцену открывался долгожданный Париж.
Даже первое, ошеломляющее впечатление от города, полного имперских и революционных примет, мало изменившегося с эпохи Великой революции, остается неизменным в «Былом и думах», пересмотревших многое из того, что прежде восторженно принималось.
Глава 2ВРЕМЯ ЖИЗНИ – ПАРИЖ
Так это правда, это действительность – я в Париже – в Париже!..
А. И. Герцен. Русская колония (перевод из «Paris-Guide…», 1867)
«…Я отворил старинное, тяжелое окно в hôtel du Rhin; передо мной стояла колонна —
…с куклою чугунной,
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.
Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и rue de la Paix.
В Париже– едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове „Москва“. Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: „à la Bastille!“
Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря… искать Бакунина, Сазонова… Вот rue St.-Нопогé, Елисейские Поля – все эти имена, сроднившиеся с давних лет… да вот и сам Бакунин…
Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее прервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.
Я был вне себя от радости!
На ней я здесь и остановлюсь».
Парижские впечатления, предшествующие революции 1848 года, перехвачены письмами – коллективные частные послания друзьям неизбежно перерастут в мимолетные «записки о коротком времени» – «Письма из Франции и Италии».
В мемуарах, считает Герцен, нечего их повторять. Вот и объяснение той счастливой остановки на парижской площади Бурбон, когда, простившись с Бакуниным на палубе парохода в Петербурге без всякой надежды на новую встречу, через несколько лет старые друзья свиделись вновь.
Прекрасное время – парижская весна 1847 года. После утомительных холодов и дорожного ненастья – ласковые, мартовские денечки в лучшем из городов.
Для супругов Герценов с приездом в Париж наступала новая эра. Наталья Александровна словно предвидела возможность перемен. Ей хотелось жить, повелевать собственной судьбой. В ней ведь было столько скрытой, столько неизрасходованной энергии любви, ее привычного, судорожного счастья-страдания. Из тихой, задумчивой женщины, внутренне замкнутой, постоянно поддерживающей огонь семейного очага, она превратилась в блестящую туристку, почти светскую даму, элегантную, оживленную, которую совсем не трудно спутать с раскованными обитательницами вольного города. Герцен не отставал от жены. Он чудесно преобразился. Скинул, как змеиную кожу, неуклюжий российский долгополый сюртук и предстал в щегольском европейском облачении – ладном пиджаке и мягких панталонах. Длинные волосы пали под рукой модного парикмахера. Борода и усы обрели необходимые контуры по самой последней парижской моде.
Только взгляните на портрет, выполненный искусным литографом Леоном Ноэлем в 1847 году, и прежнего, уже несколько погрузневшего Герцена, запомнившегося по литографии К. Горбунова, выполненной пару лет назад, вы не узнаете. Изменилась даже его походка, приобретшая легкую непринужденность парижанина. Он был в своей стихии.
Из переулков Арбата, этого Сен-Жерменского предместья Москвы, из гнезда друзей – блестящих российских интеллектуалов, где ему отведено одно из первых мест, он вдруг перенесся в большой мир, в центр европейской столицы, о которой прежде приходилось только мечтать. Теперь ему предстояло завоевать этот город городов. Герценовская звезда там еще не взошла.
Кроме старых друзей, вновь обретенных в Париже – признанного летописца эпохи, знатока французской культуры Анненкова, непременного чичероне по столичным достопамятностям, регулярно отправляющего в «Современник» свои «Парижские письма»-отчеты, и вездесущего пустозвона, любителя вымышленных конспираций, заводилы Сазонова, среди поклонников мощного русского пришельца оказался приятель Бакунина, с которым они разделяли общую квартиру на улице Bourgogne. Немецкий композитор и музыкант Адольф Рейхель вскоре прочно войдет в дружеское окружение, женившись на Машеньке Эрн, ближайшей приятельнице, любимице герценовской семьи, которая в дальнейшей, издательской и личной судьбе Герцена окажет ему такую неоценимую поддержку.
У Бакунина Герцен познакомится с Жозефом Пьером Прудоном, чтимым и читаемым Александром Ивановичем еще с российских времен, личностью легендарной – философом, социалистом, публицистом, ставшим вскоре объектом полемики К. Маркса: его сочинение «Философия нищеты» грозно отзовется на Прудонову «Нищету философии». Герцен и прежде знал его нашумевшую брошюру «Что такое собственность?..» и считал ее замечательной. Позже, на «том берегу», в своей оценке Франции преддверия революции будет солидаризироваться с некоторыми из идей Прудона о важности экономических вопросов. В «Былом и думах» посвятит его деятельности целую главу.
Но самое главное, что на герценовском горизонте в те же мартовские дни 1847-го появится Георг Гервег. Лестный отзыв Огарева, снабдившего Герцена рекомендательным письмом, не оставит у лучшего друга сомнений: Гервег – это тот человек, образованный, поэт по призванию, философ по умозрению, европейская знаменитость, «изящная натура», с которой просто необходимо познакомиться. Так в личной судьбе Герцена и его семьи обозначится начало жуткой драмы.
Гервег появляется как раз в нужное время и для него, и для супругов Герценов. Наталья Александровна готова к новой жизни. Ветер перемен, климатических и политических, готов закружить наших героев.
Новые приятели сходятся очень быстро и взахлеб ведут откровенные разговоры. Их часто теперь видят вместе, оживленно беседующими на улице и в ресторациях. В знаменитом кафе Тортони – радости гурманов-интеллектуалов, замечаем Герцена и Гервега среди польских деятелей и русских друзей. Впрочем, Александра Ивановича, и с компанией приятелей, и в семейном окружении, можно встретить везде и всюду. Настроение – великолепное. (Боткин иронизирует в письме Белинскому, что у Герцена «глаза разбежались в Европе».)
Парижская жизнь увлекла, закружила Герцена, повернулась новой, неизведанной стороной. Свобода! Изящество чуда-города, бурлящие улицы, картины, перед которыми часами простаиваешь в музеях, скульптуры, созданные великими мастерами, загородные выезды, упоительные прогулки вдоль Сены, многочисленные театры на любой вкус – все захватывает на первых порах.
Герцен, как помним, отменный театрал. И не посетить модные спектакли, не увидеть знаменитого комика П. Левассора, гения перевоплощения, смешившего его до слез в «Будущем докторе», лучшей из пьес в театре Palais Royale, или не восхититься игрой прославленного Ф. Леметра на премьере пьесы Ф. Пиа «Парижский ветошник» в театре Porte St.-Martin просто исключено. На родине Мольера, Корнеля и Расина грех не пойти на «Мнимого больного», «Жоржа Дандена» или «Сида» и «Британника», эти пьесы он знает с детства и даже склонен пересмотреть свой прежний, скептический взгляд на классическую трагедию. Не забыть «минут истинного наслаждения», доставленных игрой несравненной Рашель в трагедиях Расина, в самой что ни на есть цитадели французского классицизма – Théâtre Français (Comédie Française). Есть о чем рассказать М. С. Щепкину, а заодно посоветовать ему пополнить свой репертуар «Парижским ветошником», которого намеревается даже переработать для великого актера, сделав «короче и лучше».
Почти каждый вечер отправляются они вместе с Анненковым на бульвары, в театральные залы – Palais Royale, Porte St.-Martin, Vaudeville, Variété. А всего их в Париже около двадцати пяти. В Петербурге – только три, а в Москве – и того меньше! Это не может не поражать. И у каждого театра – своя особенная роль, своя приверженность – к романтизму или классицизму, а то и вовсе к легкому жанру, без определений.
Но не все так радужно в восприятии парижской жизни. Даже театр, восхищающий Герцена-зрителя, подвергнут им критике, положившей начало дискуссии с близкими друзьями. Мнения о французском мещанстве, о пагубном влиянии буржуазии на сценическое искусство, изложенные им в письме Щепкину от 23/11 апреля 1847 года, находят продолжение в спорах и дружеских понуканиях, как всегда, умеренного Боткина.
«Сцена служит ответом, пополнением толпе зрителей, вы можете смело определить по пьесам господствующий класс в Париже, и наоборот, – обращался Герцен к Щепкину. – Господствующее большинство принадлежит здесь – мещанству, и мещанство ярко отражается во всей подробной пошлости своей и уличных романах и по крайней мере в 15 театрах. <…>
Было время, когда бойкий партер, с этой невероятной быстротой пониманья, которой одарен француз, – умел ловко встрепенуться от политического намека, от сарказма – отяжелевший от сытости мещанин отупел, его восторги так пошлы или его хладнокровие так отвратительно, что досада берет».
Вступивший в полемику Боткин пишет Анненкову: «Обнимите за меня Герцена. Я читал его письмо к Щепкину с большим огорчением. Он такого вздору наговорил! Bourgeois, видите, виноват в том, что на театрах играются гривуазные водевили. Не шутя! Недаром вы писали, что ж Герцен старается каждый предмет понять навыворот, чтоб потом иметь удовольствие поставить его на прежнее место. <…> Ну да что делать! Кто же, выехав первый раз в Европу, не начинал свои о ней суждения глупостями!» В письме Белинскому и Анненкову от 31(19) июля Боткин еще более категоричен: «Вы меня браните, милый мой Анненков, зато, что я защищаю bourgeoisie; но, ради бога, как же не защищать ее, когда наши друзья со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве? Я понимаю такие гиперболы в устах французского работника; но когда их говорит наш умный Герцен, то они кажутся мне не более как забавными. Там борьба, дух партий заставляет прибегать к преувеличениям; – это понятно, а здесь вместо самобытного взгляда, вместо живой, индивидуальной мысли вдруг встречать общие места…»
Спор о буржуазии, переросший на удивление друзей-западников в демарш Герцена против «больной» Европы, критика Франции – колыбели свободы и либерализма (всегда представлявшейся в авангарде европейского развития), затянулись надолго.
После первых оживленных дней праздничного времяпрепровождения – вечеров, застолий, встреч, проводов друзей и знакомых Герцен берется за свое привычное дело – работу, серьезные беседы, обсуждения, споры. И тут выясняется, что даже старые его друзья «строены не по одному ключу». «Сазонов и Бакунин, – вспомнит Герцен, – были недовольны… что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов».
Доходят слухи из России – друзья скучают без него, кружок осиротел, но не утратил трезвости оценок. Об идейном разладе, о недопонимании, мелких уколах самолюбий здесь просто следует забыть. «Нам надо проветриться, освежиться, – считает Герцен, – мы слишком близко подошли друг к другу», стали дома «семьей».
Огарев по большей части молчит (активно занимается своими хозяйственными проектами в унаследованных от отца имениях), а писать ленится. У Герцена тоже леность в пальцах. На первых порах их активная переписка замирает. Огарев даже иронизирует в одном из редких откликов: перечитываю «Кто виноват?», чтобы «оживить в памяти друга».
Вскоре после выхода в «Современнике» (1847, № 9) «Доктора Крупова», хоть и напечатанного с большими цензурными выпусками, Грановский восторженно отзывается в письме о повести Герцена: «Знаешь ли, что это гениальная вещь. Давно я не испытывал такого наслаждения… Так шутил Вольтер во время о но, но в Крупове более теплоты и поэзии».
В подцензурной российской печати – то и дело отклики – и лестные, и нелицеприятные на вышедшие сочинения знаменитого Искандера. Некоторые с опозданием, но все же доходят до Парижа. Старается, конечно, давний недруг Ф. Булгарин, восставший против «натуральной школы», но бесконечно радуют отзывы Некрасова, Аполлона Григорьева и других, часто анонимных рецензентов, отмечающих оригинальный, блистательный талант, создавший истинно прекрасный роман «Кто виноват?» с его глубочайшим проникновением в проблемы современного общества. С нетерпением ожидается «Современник», где все большее влияние завоевывает Белинский.
В Париже между тем ждут самого бескомпромиссного критика, отправившегося при поддержке друзей (и всенепременно Герцена) на лечение в Германию, в Зальцбрунн. 29 июля 1847 года в сопровождении Анненкова Виссарион Григорьевич появляется в отеле «Мишо», где уже поджидает их Герцен. Вечером в его доме в честь приезжих устроен ужин. Радость встречи омрачена прогрессирующей болезнью критика и его озабоченностью гоголевскими «Выбранными местами из переписки с друзьями». Белинский посчитал их «вызовом, полученным им» от большого художника, страстно им почитаемого, и не мог не ответить. Чтение Белинским чернового варианта письма Гоголю так поразило Герцена в тот день, что он, по свидетельству Анненкова, сказал ему на ухо: «Это – гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его» [83]83
Полемика вокруг «Выбранных мест…», ведущаяся более полуторасот лет (и действительно вызвавшая, по слову В. Набокова, «оглушительный скандал»), в последнее время более всего неоправданно склонна не только осуждать демократа Белинского за ответ Гоголю, но даже отвергать, принижать роль великого критика, а заодно и современников, разделяющих его взгляд, в частности, на гоголевскую переписку. В защиту сошлемся хотя бы на авторитет Набокова, который, даже при двойственном отношении к людям склада Белинского, не мог не отметить, что у критика, «как у гражданина и мыслителя было поразительное чутье на правду и свободу». В своей блестящей лекции о Гоголе, разбирая основное содержание «Выбранных мест…», он напоминает, что в середине XIX века «общественное мнение в России было в основе своей демократическим», существовало несколько течений общественной мысли, и «несомненно, что в гоголевскую эпоху „западники“ представляли собой культурную силу, далеко превосходящую численно и качественно все то, что могли собрать реакционные староверы. Поэтому, например, не вполне справедливо рассматривать Белинского как всего лишь предшественника (хотя филогенетически он им, конечно, был) тех писателей 1860–1870-х годов, которые яростно утверждали примат общественных ценностей над художественными…». Набоков считал, что «Гоголь явно отстал от века», а «знаменитое письмо Белинского, вскрывающее суть „Выбранных мест“ („эту надутую и неопрятную шумиху слов и фраз“), – благородный документ. В нем есть и горячие нападки на царизм, из-за чего распространение письма скоро стало караться каторжными работами в Сибири» (Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1999. С. 116–117).
[Закрыть].
Герцен с Гоголем лично не знаком, но, несомненно, осведомлен об отзыве автора так потрясших его в Новгороде «Мертвых душ». Гоголь пишет Анненкову 7 сентября: «В письме вашем вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партийотзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает…»
Почти за два месяца общения с Белинским о многом переговорено, многое увидено, прочитано, обсуждено. Герцен, так отвыкший от подлинно российских разговоров начистоту, взахлеб пользуется обществом гениального полемиста. С разными подходами Герцен выражает «свою любимую мысль, что покуда западники не завладеют со своей точки зрения всеми вопросами, задачами и поползновениями славянофильства, – до тех пор никакого дела не сделается ни в жизни, ни в литературе». Белинский вроде бы соглашается, посмеиваясь, единственно прибавляя, «что для этого прежде всего надобно, чтоб все мы, западники и славяне, перемерли до единого».
Белинский слушает чтение Герценом начала повести «Долг прежде всего» (вновь вторгнувшейся в «сферу» трудных личных отношений), продолжившей предшествующие размышления писателя о долге и браке, долге и страсти (его статья-рецензия «По поводу одной драмы» (1843) и, конечно, «Кто виноват?»). Пусть даже «долг побеждает» в анализируемой Герценом драме Арну и Фурнье «Преступление, или Восемь лет старше», но ее герои тем не менее гибнут. Тогда на вопрос, кто виноват в гибельности подобных последствий, Герцен предлагал ответ: «Преступное отчуждение от интересов всеобщих, преступный холод ко всему человеческому вне их тесного круга, исключительное занятие собой…» Постепенно к бытовой мотивации (действительно ли виновны только мы сами) присоединялись раздумья о выходе в «жизнь действительную». Неизбежный конфликт личности с социальными условиями существования уже проявлен в романе «Кто виноват?».
Двадцать второго сентября 1847 года в доме Герцена прощаются с Белинским. На вечере присутствуют Анненков, Бакунин и Сазонов. Герцен сердцем чувствует, что руку другу пожимает в последний раз. Видимых улучшений его здоровья не только не наблюдается, но всё говорит об обратном.
Белинского и Анненкова провожают до гостиницы, а Герцен, Бакунин и Сазонов, выйдя на Елисейские Поля, продолжают давно начатый ими спор о характере и видимой, истинной пользе общественного служения. Сазонов сожалеет: «Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подценсурной». Герцен возражает: одна статья Белинского «полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и государственных людей». Этот его упрек Бакунину и Сазонову, пребывающим «в бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане», будет повторен Герценом потом не раз.