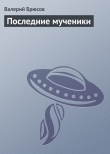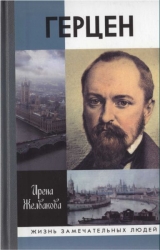
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
…Моя лодка должна была разбиться о подводные камни, и разбилась. Правда, я уцелел, но без всего…
А. И. Герцен. Былое и думы
Надежды на выздоровление постепенно угасали, но отчаянная борьба за жизнь, и теперь не только одну – продолжалась. В Россию шли письма об ухудшающемся ее здоровье. Мария Каспаровна Рейхель готовилась в дорогу, в Ниццу, на помощь. Натали хотела поручить ей детей, чтоб она стала «в главе воспитанья женского». У Герцена не оставалось иллюзий.
Двадцать шестого апреля он пишет Адольфу Рейхелю: «Я стою у поворотного пункта: или все погибнет, или что-нибудь будет спасено. В обоих случаях я начну новую жизнь. Ее последнюю часть».
В тот же день Натали получает письмо от Гервега. Силы ее оставляют. Но она не в состоянии противиться своему желанию отвечать. Упреки и самооправдания Гервега, его мольба подать хоть признак жизни не могут остановить ее. Последние слова возлюбленному в крошечной записке пишутся втайне от мужа за несколько дней до смерти: «„Признак жизни“ – а зачем? По-прежнему, чтобы оправдываться,осыпая меня упреками, обвиняя меня… Будь спокоен, хотя у тебя слишком много желания и средств, чтобы не иметь в этом удачи без моего участия, – будь спокоен: если я когда-нибудь открою рот перед кем-либо, кто мог бы меня понять, – это будет сделано не для того, чтобы оправдываться.
…Причинил ли ты мне зло?.. Ты должен знать это лучше, чем я… Я знаю только, что мои благословения будут следовать за тобою всюду, всегда…
Добавлять к этому что-либо было бы излишне»(курсив мой. – И. Ж).После слов «меня понять» Натали делает вставку-приписку: «Иначе я бы этого не сделала – иначе это было бы величайшим осквернением того, что остается самым святым для меня».
Двадцать девятого апреля Наталья Александровна получает от Э. Гервег записку, переданную Ф. Орсини: «Прости за все и за всех. Итак,забвение всему». (Воодушевившись прощением, Эмма расценивает свое раскаяние «слишком дорого»: просит Герцена безвозмездно возвратить ее вексель на десять тысяч франков.)
Вечером 29-го приезжает Мария Каспаровна. Видит, как сильно переменилась Наташа. Эта последняя встреча стала для нее потрясением.
Утром 30 апреля на свет появляется младенец, названный Владимиром. Не о том ли счастливом, венчанном Владимире вспомнилось, так и оставшемся светлой точкой в их переменчивой судьбе…
Вечером того же дня Наташа просит Герцена привести к ней детей и представить им брата. Силится напомнить Герцену: никакой дуэли!
Ночь с 30 апреля на 1 мая Герцен проводит у постели умирающей. Он уже много дней не спит.
Первого мая «около полудня», после многих часов забытья, Натали в последний раз приходит в себя. Ночью умирает новорожденный.
Второго мая Саша, рыдая, прощается с матерью. Дети потом долго будут помнить этот день.
Второго мая 1852 года в семь утра Наталья Александровна скончалась.
Умерла от любви. «Сердце, разорванное надвое», не выдержало. Спрашивала себя не раз: «…может быть, эта способность любить так велика во мне потому, что у меня нет других способностей?..» Сама и отвечала: «Такова моя натура, я люблю безумно… я люблю для себя…»
Глава 17СТРАСТНОЙ ГОДМоя высшая точка был этот страстной год. Кто хотел, кто мог вглядеться во все совершившееся во мне – тот не откажет мне в силе и последовательности.
А. И. Герцен – М. К. Рейхель
Третьего мая вечером Наталья Александровна была похоронена на кладбище Шато, на горе, над Ниццей и теплым морем, поглотившим ее близких. За гробом шли русские и итальянские друзья, единомышленники Герцена, эмигранты, городские жители.
На картине художника-гарибальдийца Каффи, потом долго сопровождавшей Герцена во всех его странствиях по миру, запечатлен момент похорон. В отсвете множества пламенеющих факелов видится большая группа людей. Над открытой могилой склонился Герцен, крепко держащий за руку своего первенца, двенадцатилетнего Александра.
Потрясенный таким небывалым сборищем русский консул спешит донести в центр о «беглецах», о настоящей демонстрации, ими устроенной. Местная демократическая газета «Avenir de Nice» сочувственно пишет о народной симпатии к Герцену, которая налагает на него обязательства и дальше также исполнять свой гражданский долг. Главный интендант, градоправитель Ниццы благодарит «почтенного изгнанника» за пожертвования неимущим гражданам города; часть средств будет передана детскому приюту.
Дней через пять после похорон на сообщение Эммы о смерти Натали Гервег отозвался, что больше нет препятствий для общения с ним.15 мая он писал жене, что исчезла причина раздора с Герценом: «Лишь бы мне его увидеть с глаза на глаз – он один в состоянии понять меня!»Встречи не произошло.
Двадцать второго мая Мария Каспаровна Рейхель уехала с девочками в Париж. Ницца опустела. Старая и верная подруга – единственный человек, которому с доверием и любовью Герцен может поручить «руководство» своей шестилетней Татой и совсем крошечной Олей – ей не исполнилось и двух. Огаревы далеко. И только под покровительством Марии Каспаровны («Вы ведь моя сестра» – обращается к ней Герцен) можно сделать из детей русских и «развить в них сильную любовь к России». Разлука с детьми невыносима, но он сделает все возможное, чтобы добиться возвращения в Париж, откуда его изгнали, и тогда поселится рядом с Рейхелями. И с Ниццей больно расстаться – «это последнее подтверждение всех несчастий»: оставить холодный дом, где «черное воспоминание тут как тут», а сны так реальны, совсем непросто. Привидится вдруг Наташа, и покажется ему, будто можно ее спасти. А то явятся лица из прошлого…
Все его фантазии, сны и были – «всё обращено на былое, на кладбище». На нем «еще лежат обязанности сказать погребальное слово и слово благодарности». Порой ему кажется, что и будущего у него нет, да и «в будущем ничего нет». Герцену только сорок лет, а он именует себя «скучным, вечно хныкающим стариком». Кому он способен вот так, вдруг, признаться, обнажить душу – только ближайшей из близких, сестре Марии. Вскоре, предвидя «торжественную гласность» общественного суда и поддержку друзей, он может определенно написать ей: «… я нравственно не погиб,совсем напротив: выше я никогда не стоял, я гордо несу венок с терниями на голове…»
Письмо Натали от 15 февраля 1852 года, как и завещалось герценовским друзьям, было прочитано Гервегу генералом Э. Гаугом. Судя по всему, содержание письма не было ново для адресата, а последующая реакция и непредсказуемость его поведения остались в свидетельствах участников трагедии (о чем позже расскажут «Былое и думы» в «прибавлении» «Гауг»).
Восемнадцатого июля 1852 года посредническое письмо-заявление, подписанное Э. Гаугом и другим эмигрантом-революционером М. Э. Тесье дю Моте, вместе с секундантом Гервега врачом Ф. Вилле, отвечало «на картель», вторичный вызов, полученный Герценом от Гервега: «От имени вызванного мы заявляем, что господин Герцен не может принять этот вызов, ибо с морально преступным человеком нельзя иметь ничего общего, а, следовательно, – и дела чести».
«Jury никакого не было, – свидетельствовал Герцен, – но я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Г[ервегу], подписанное дорогими мне именами и, между прочим, героем-мучеником Пизакане, Мордини, Орсини, Бертани, Медичи, Меццакаппо…»
Двадцать третьего июля 1852 года все подписавшиеся, «будучи приглашены г. Герценом» (дружбою которого они гордятся, «вследствие его выдающихся достоинств»), заявили, что, отвергнув при данных обстоятельствах дуэль с Гервегом, «Герцен поступил согласно нашим убеждениям» (читай: правилам новых, свободных людей).
Уже ничто не держало Герцена на континенте. Немилосердная, бродячая жизнь гнала его в Лондон. Опять Генуя, Берн, Фрибур, «родина № 2» (где составлено завещание в гостинице Zœhringen). Потом Женева, Интерлакен – забрать оставленного там на время сына и кружным путем добраться до Парижа. Через неделю отправиться с ним к побережью, да и махнуть в Англию. Он все еще рассчитывал, что окончательный суд международной демократии над Гервегом свершится именно там, ведь поддержка, сочувствие посвященных в историю – Прудона, Мишле, Фогта, Маццини, Жорж Санд (так и не откликнувшейся на его исповедальное послание) давала основание (правда, весьма иллюзорное) добиться осуждения «цюрихского злодея», отомстить, реабилитировать память Натали, доказав правоту свою и своей жены как представителей «будущего общества».
Позже Герцен признается: последняя мечта, вера в возможность такого суда и в подобное правосудие, это слишком откровенное его верование в принципы «нового общества» (и добавим, банальная неспособность даже выдающегося человека «старого мира» преодолеть силу страстей) обернулись дорогой платой за ошибку.
Герцен еще в России, чувствуя душевные метания Натали и прекрасно осознавая, что время недопонимания и обид вносило в семейное счастье иные оттенки, не уставал повторять свои искренние заклинания: «Моя любовь к Natalie – моя святая святых…», «Высокая святая женщина!»
«Какая страшная судьба постигла такое высоко и широко развитое существо, за одуренье, за чад, за круженье сердца…» – писал он Марии Рейхель в июне 1852-го, когда, несомненно, зрел уже замысел его «мемуара» – «надгробного памятника» Натали, и найдены были пронзительные слова – «круженье сердца».
Крушение «частного» и «общего», подведшее Герцена к роковой черте, предчувствие новой жизни, поворотного момента судьбы, когда еще не отыгран последний акт, побудили его взяться за перо, как только вступил на далекий берег «суровой Англии».
Глава 18НА АНГЛИЙСКОЙ ЗЕМЛЕКто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки.
А. И. Герцен. Былое и думы
«С уваженьем, с истинным уваженьем поставил я ногу на английскую землю, – какая разница с Францией!» – Герцену вдруг показалось, что он свободен, что на время сброшен груз следовавших за ним повсюду мучительных раздумий. Пароход, на который они сели с Сашей 23 августа 1852 года, на следующий день, в пять часов утра, доставил их в Дувр.
Миновав множество государственных границ, не раз претерпев ужас потери «пасса», он отметил особую легкость вступления на английский берег и в письме к Марии Рейхель, чуть ли не единственному душевному его адресату той одинокой поры, не удержался от каламбура; поиграл со словом vapeur(пароход), повторив его в два слога: « va peur», что обернулось выражением – «долой страх». Страха не было. На время появилось ощущение гостеприимства, которое самая в ту пору цивилизованная страна с ее гражданскими свободами могла предъявить изгнанникам. По приезде отчитался Марии Каспаровне: «Один, единственныйконстабль на границе подошел к нам – для того, чтоб помочь Саше пройти по доске. – На таможне написано в углу: „Здесь иностранцы предъявляют паспорты, кто не предъявит, может подвергнуться штрафу до двух фунтов“. Мимо этого бюро иностранцы идут с хохотом. Ни одинне отдал своего и не показал…»
Вынужденная «охота к перемене мест», как ни странно, снимала его раздражение и беспокойство. «Воля-то, воля-то какая». Его «реальная натура», как он полагал, брала верх, а «призрачный мир», в котором пребывал все последнее время, постепенно отступал, рассеивался как туман.
Если взглянуть на живописные виды Лондона, ставшие популярными в XIX веке, они отнюдь не представляют английской столицы в пелене угольно-пыльного смога, закрывающего оттененную художниками (вроде Тёрнера) синеву небес. Хотя Лондон вовсе не чистенький и не стерильный, а часто промозглый, грязный и туманный, каким и представлен в романах Диккенса. (Достаточно напомнить, что в середине XIX столетия город еще источает заразу и нечистоты, что ватерклозеты здесь появились только в 1859 году, а до этого времени Темза, как слив нечистот, ассоциировалась с великим лондонским зловонием.)
Герцен видел Лондон разным. Город был поделен на богатые кварталы, естественно, благополучные, и районы трущоб, где «сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову».
Думал ли он долго жить в Лондоне? Полагал, что нет, но примерно месяца через два, сменив несколько квартир, решил остаться. Понял окончательно: прибило к новому, чужому берегу, но ехать ему некуда и незачем. Подыскал себе дом в отдаленной части города с видом на великолепный Риджент-парк, да и взял себе за правило и ежедневную привычку прогуливаться после работы.
Дом, принадлежавший какому-то скульптору, носил следы художественного беспорядка. Там и сям торчали статуи и модели, в которых угадывались лица исторических персонажей. Можно вообразить, что комнаты напоминали Герцену их семейный особняк на Тверском бульваре, куда, захламленными залами, сквозь хаос громоздких артефактов – запылившихся скульптур, снятых со стен картин, он часто пробирался в маленький кабинет своего двоюродного брата, оригинала Химика. Да и вообще, теперь собственная жизнь виделась ему заброшенным старым домом, где для него «сохранился еще обитаемый уголок».
Последний акт трагедии недоигран, «fatum влечет», – написал Герцен московским друзьям, еще не ступив на английский берег. Сказал пронзительные слова: «За одно объятие теплое, братское с вами отдал бы годы…» После стольких утрат он стремится выговориться, но нет сил. Однако главное сказано, рассказано начистоту: да будет свята им «память великого существа – раз увлекшегося и так велико восставшего и так страшно казненного… Может, все величие ее я узнал после падения. Но спасти физически было нельзя. – Нравственно она будет мною спасена – и это сделано уже. – Но пока этот человек дышит, нет даже recueillement… [125]125
Возможности собраться с мыслями (фр.).
[Закрыть]». «Дети и гроб» – мысли только об этом.
Ему невыносима разлука с детьми: скоро ли с ними свидится. Он заботится о девочках, посылает игрушки, пишет ласковые письма, наставляет старшую дочь: «Душечка Тата… Ты русская девочка – и должна Олю учить по-русски». Любимица Тата, натура душевная и «несообщительная», страшно похожая на мать, очень близка отцу. Конечно, большие надежды возложены на Сашу – вот кому он «мог бы преемственно передать» свое дело, и до поры в этом уверен. Сын должен учиться: сначала у Фогта в Женеве, а потом в Париже. «В Париже он должен жить у вас, – пишет Герцен Рейхель. – <…> Дело в том, что кроме вашего пристрастия к нам, вы сделаете из детей русских. <…> Я вам завещаю развить в них сильную любовь к России. Пусть даже со временем они едут туда…» Жить среди иностранцев и остаться русскими… Мысль, не покидавшая его никогда.
Европейские революции вымели с континента множество разных людей. Лондон превратился в средоточие эмиграции. Теперь Герцену предстояло столкнуться с вынужденными поселенцами этой «вольницы пятидесятых годов»: довериться «святому» А. Саффи, которого особо выделяет из эмигрантов, встретиться вновь с благородным Маццини, «личностью колоссальных размеров», начать дружбу с венгром Кошутом, поляком Ворцелем, сотрудничать с другими лидерами международной демократии, возвысившимися, по его словам, как «горные вершины» над низменной повседневностью эмигрантской политической суеты. Однако чрезмерные надежды на прилив новой революционной волны в их родных странах, которым посвящается вся жизнь, кажутся Герцену неоправданными.
В Лондоне Герцен ведет разговоры и пишет искренние, многостраничные, до предела обнаженные письма с благодарностью своим, единомышленникам из революционной и демократической среды, за моральную поддержку в борьбе с Гервегом. Герцен слишком открыт, порывист, однако не беспристрастен. Его не оставляет вера в свободу и абсолютную ценность личности нового человека. Самовыражение – его потребность, заложенная в прямом характере. («Может же случиться, что человеку в объяснении – главное дело, может быть ему восстановление правдыдороже мести», – напишет он позже в мемуарах.)
Но где же они, эти свои,кто должен рассудить во имя правды, – их просто нет. (Герцен все более убеждался в своей ошибке.) Своиу него когда-то были в России, но некоторые из прежних, «наших», отошли, резко возражали, не поняли его. Молчали. «Отучили» его от речи с ними, как он ни старался. Один остался – верный друг Огарев, и Герцен ждет его в Лондоне «как величайшее и последнее благо».
На первых порах новоявленный житель Альбиона оценил и туман, дававший ощущение одинокого покоя («продымленный», «дымчатый», «опаловый» – эпитеты подобраны им тщательно), и все преимущества островного климата, и оторванность от целого мира, когда всё надо было решать самому и уже ни на кого не надеяться. Жизнь выставляла новые задачи.
Что ждало в дальнейшем пожившего (но еще не пожилого) человека с погасшим взором, каким запечатлела его старомодная камера в фотографическом заведении на Риджент-стрит?.. В сорок лет, когда с недолгими, счастливыми промежутками «изящнейших и поэтических эпох» промелькнули годы «педагогические», «страстные» (как сам определил), им пережит решительный перелом. В письме к М. К. Рейхель повторит кому-то уже высказанную максиму: «Жизнь – это злосчастный дар, его можно принять лишь при условии борьбы…» «Да, я останусь до конца жизни той же движущейся, революционной натурой, simper in motu [126]126
Всегда в движении (лат.).
[Закрыть], как я вырезал на печати. – Это горенье, это бродящее начало – спасает меня середь бедствий и страшных событий», – в который раз, словно заклинание, предъявит он свой жизненный девиз в письме своему постоянному конфиденту.
Скажет еще, не менее высокопарно, любя «до безумия» свою независимость: «Единственное, что мне остается – это энергия борьбы, и я буду бороться. Борьба – моя поэзия…» Однако, для того чтобы донести эту «поэзию» до несвободных людей, необходимо самому стать внутренне свободным. «…Начнем с того, чтобы освободить самих себя», – напишет он в одном из писем той нелегкой поры. И тогда, быть может, вольное слово дойдет до русского слушателя, у которого «ухо… железом завешено, ему больно слышать свободную речь…».
Стало быть, раз он отрезан от России, задержавшись на чужбине и, по-видимому, надолго, следует снова «завести речь с своими». «Писем не пропускают – книги сами пройдут»; писать нельзя – будет печатать.
Раз «бурями, волей и неволей» прибило его «к самому средоточию, к самой вершине», то здесь, «на нескладном, но сильном концерте» международной демократии, он «представит собою русскую мысль».
Герцен «решился на труд», взялся за два главных Дела своей жизни – за «Былое и думы» и Вольную русскую типографию.
Глава 19«НАДОБНО ЖЕ, ХОТЬ ЧТОБ КТО-НИБУДЬ НЕ ПОКИДАЛ ОРУЖИЯ…»
(ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ЛОНДОНЕ
1853–1854)
Отчего мы молчим? Неужели нам нечего сказать?
А. И. Герцен. Братьям на Руси
Страстное обращение к соотечественникам не замедлило последовать. Задачи оставались все те же – борьба против рабства, тирании власти, против угнетения личности, «война против всякой неволи, во имя безусловной независимости лица». Идея русской бесцензурной печати, маячившая с 1849 года, постепенно обретала реальные контуры, воплощалась в жизнь. Когда Россия безмолвствовала, когда число обязательных цензур возрастало там с каждым днем, а печатное слово напоминало Герцену того героя из Моцартовой «Волшебной флейты», который пел с замком на губах, ему показалось – время пришло. «Охота говорить с чужими проходит», – посчитал он. Пора «дать русской мысли свободную трибуну, чтобы разоблачать чудовищные деяния петербургского правительства».
Герцен взялся за перо и бумагу, обозначил заголовок «Братьям на Руси», вывел обращение: «Братия»… Цели ему слишком ясны: «Быть вашим органом, вашей свободной, бесцензурной речью».
Поначалу казалось, что людей, особенно друзей, столько претерпевших от дикости цензуры дома, не надо убеждать в важности начатого дела: «Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв». Верно говорил Огарев: «Не высказанное убеждение – не убеждение».
Энергичные, отточенные в слове декларации решительного Издателя, взвалившего на себя невиданную ношу, обязательно должны дойти до слуха соотечественников.
«Открытая вольная речь – великое дело; без вольной речи – нет вольного человека. <…> „Молчание – знак согласия“, – оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознанную безвыходность.
Открытое слово – торжественное признание, переход в действие».
Не «сидеть сложа руки и довольствоваться бесплотным ропотом и благородным негодованием…». Не отступать от всякой опасности.
«Ничто не делается… без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека – страшно велика».
Герцен призывал: присылать «все писанное в духе свободы», – от научных и фактических статей до потаенных сочинений Пушкина, декабристов… Двери открыты для всех. И это был первый прорыв в бесцензурную, вольную, организованную за границей печать, «тамиздат», так сказать.
Первая литографированная листовка сошла с вольного печатного станка при активном содействии членов Польской демократической централизации в июне 1853 года. Польские эмигранты, организаторы собственной типографии, где поначалу печатались русские издания, снабдили Герцена всем необходимым. Раздобыли в Париже русский шрифт, открыли возможности тайных путей для переброски в Россию нелегальной литературы, да и сами решили включиться в ее распространение. Русский шрифт был приобретен «в той же самой парижской словолитне, которая обслуживает государственную печать в Петербурге, отчего он [Герцен] имеет обыкновение в шутку называть свое учреждение „Типография императорская и революционная“», – информировала западную публику одна немецкая газета.
Неоценимую помощь в организации типографии оказал Станислав Ворцель, славный руководитель демократической части польской эмиграции и Центрального европейского демократического комитета. В «Былом и думах» Герцен вспомнит этого благородного защитника польского и русского дела: «Из всех поляков, с которыми я сблизился тогда, он был наиболее симпатичный и, может, наименее исключительный в своей нелюбви к нам. Он не то чтоб любил русских, но он понимал вещи гуманно, поэтому далек был от гуловых проклятий и ограниченной ненависти». Он же познакомил Герцена со своим соотечественником Людвигом Чернецким, неизменно заведовавшим в Лондоне русской типографией. К главным помощникам по издательским делам вскоре присоединился Станислав Тхоржевский, бесконечно преданный Герцену.
Как радовался Ворцель, держа в руке первый корректурный лист «Братьям на Руси»: ведь просто «клочок бумаги, замаранный голландской сажей», а «сколько дурных воспоминаний стирает с моей души». Герцен помнил и другие его слова, когда обратился к постоянно волнующему польскому вопросу: «Нам надобно идти вместе… нам одна дорога и одно дело…» Осенью 1853 года в Русской типографии появилась в виде листовки герценовская статья «Поляки прощают нас» как «русский» ответ на адрес, составленный польскими демократами.
Статья, напоминавшая мучительную политическую историю взаимоотношений России и Польши, давала надежду на соединение с поляками «в общую борьбу „за нашу и их вольность“».
В организации работы типографии у Герцена не было особых затруднений. Достаточными средствами он располагал. Связи с целой сетью западных торговцев и распространителей были установлены – солидная лондонская книготорговая фирма Н. Трюбнера, не говоря о прочих европейских книжных лавках, готова была взять на себя необходимые обязательства.
Станок заработал. Типография не останавливалась ни на минуту. А друзья и российские жители всё молчали.
В конце июня – начале июля вышла прокламация «Юрьев день! Юрьев день!» с подзаголовком «Русскому дворянству». Образованный класс призывался, не дожидаясь правительственного решения или народного возмущения, освободить крестьян. Тогда еще Герцен, при известных обстоятельствах, действительно колебался, допускал возможность развития событий по нежелательному пути: «Крещение кровью – великое дело, но мы не разделяем свирепой веры, что всякое освобождение, всякий успех должен непременно пройти через него». При разрешении крестьянского вопроса снизу возможны «страшные последствия», порождаемые «страшными преступлениями». «Страшна и пугачевщина, но… если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено». Подобный поворот событий Герцен расценивал как «одну из тех грозных исторических бед, которые предвидеть и избегнуть заблаговременно можно, но от которых спастись в минуту разгрома трудно или совсем нельзя».
Слово «топор», впервые употребленное в тексте как символ народного мятежа, вскоре широко распространится в печати, но отнюдь не станет «символом веры» лондонского пропагандиста, в чем упрекнут его позже крайне радикальные соотечественники из рядов революционной демократии («Письмо из провинции» с подписью «Русского человека»через семь лет появится в «Колоколе»), Вопрос о соотношении революции и реформы станет одной из самых важных проблем, постоянно проходящих в переписке и публицистике Искандера. Его отвращение от «топора», его стремление выработать различные пути русского развития, неизменно свяжется с освобождением «сверху», с надеждой найти мирный, бескровный исход для назревших перемен.
Пока Зимний дворец не приступил к осознанию необходимых реформ, Герцен, понимая последствия взрыва, все же достаточно радикален и вместе с тем не реален. Ставка на образованное меньшинство дворянства после свершившихся европейских революций, без инициатив «сверху», не оставляет надежды хоть на какие-то, робкие упорядочения отношений между крестьянами и помещиками. Но Герцен упорно продолжает обсуждение этого главного вопроса вопросов. Отдельной брошюрой выходит с вольного станка его «Крещеная собственность» – переработанная им статья «Русское крепостничество», негодующая против преступного бездействия правительства. 22 июля 1853 года он пишет М. К. Рейхель о печатании этой книги и весело замечает: «…а „Юрьев день“ послан уже высшим чиновникам в Питер по почте – пусть потешатся».
Прокламация вскоре дошла до столицы и легла на стол императору. «Любо читать!» – неожиданно отозвался Николай, припомнив своего верного и последовательного противника. Запретительных мер и расследований долго ждать не пришлось. Отныне преследование вольных герценовских изданий – одна из обязанностей и священных привилегий Третьего отделения.
В 1854 году вышли не только материалы, написанные Герценом. Автором четырех прокламаций, по два выпуска каждая («Видение св. отца Кондратия» и «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон»), обращенных к русскому крестьянству, был В. А. Энгельсон. Связанный в России с петрашевцами, а после освобождения из крепости эмигрировавший в Европу, он был близок Герцену в пору семейных крушений («он первый обтер глубокие раны», «он был моим братом, сестрой», – вспоминал Герцен). Их активное сотрудничество продолжалось при налаживании работы Вольной типографии. Однако о полном единомыслии Герцена со своим самолюбивым и психически неустойчивым помощником речи не было. Их разрыв был неминуем [127]127
О человеческом типе Энгельсом, о драме человеческого одиночества Герцен написал в главе «Энгельсоны» (в «Отделении втором» части пятой «Былого и дум», озаглавленной «Русские тени»).
[Закрыть].
Герценовский призыв свободно печататься в его Вольной типографии, посылать потаенные материалы, чтобы в России они обрели силу печатного слова, до поры не был услышан.
Молчали по-прежнему московские друзья. Наконец, дошедшие до них герценовские прокламации только напугали. В России становилось слишком опасно. В сентябре 1853-го в Лондон поехал мягкий, податливый Щепкин, призванный уговорить своего давнего, горячо любимого друга в ошибочности его пропаганды. Приехал умолять, готов был встать «на свои старые колени», чтобы попросить «остановиться, пока есть время».
Герцен, так ждавший подробностей из России, недоумевал:
«Что же вы, Михаил Семенович, и ваши друзья хотите от меня?
– Я говорю за одного себя и прямо скажу: по-моему, поезжай в Америку, ничего не пиши, дай себя забыть, и тогда года через два-три мы начнем работать, чтоб тебе разрешили въезд в Россию».
Герцен был сражен, глубоко разочарован. Что тут скажешь… Не подвергать опасности друзей. Это он, конечно, понимает. Но отречься от себя, от своего главного дела?.. Не для того ли, чтобы жить здесь праздному?.. И тогда, проводив Щепкина, ему вдруг стало так «сиротливо, страшно», и безнадежное одиночество заставило его сесть за письмо, чтоб объяснить всепонимающей Марии Каспаровне: «Мне кажется, я в лице его простился с Русью. Мы разошлись или развелись обстоятельствами так, что друг друга не достанешь и голос становится непонятен». На следующий день он вновь высказывал ей свое выстраданное убеждение: «…надобно же, хоть чтоб кто-нибудь не покидал оружия…» Его «глубочайшее убеждение», что «основание русской типографии вне России является в настоящий момент наиболее революционным делом, какое только русский может предпринять», оставалось непреклонным.
Искреннее сотрудничество с М. К. Рейхель, теперь целиком поглощенной его делом, ставшим их общей обязанностью, никогда не прерывалось. Через ее парижский адрес, не взятый на подозрение русским сыском, должна идти вся его корреспонденция, то есть осуществляться постоянные, конспиративные контакты с родиной. Ей первой сообщаются все сокровенные мысли и замыслы. 5 ноября 1852 года Герцен пишет своему верному связному о возникшем у него «френетическом [128]128
От frénétique– исступленный, неистовый, необузданный (фр.).
[Закрыть]желании написать мемуар». Воспоминания – выход, спасение от одиночества в чужой стране.