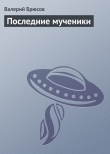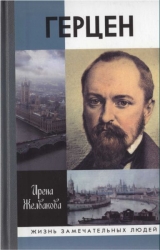
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц)
Тема гибели во имя любви, проблема брака и невольных перипетий семейной драмы предоставили простор для широких обобщений. Противоречивый опыт собственной семейной жизни постоянно подталкивал Герцена к подобным раздумьям о вопросах этики и морали, к анализу «психологического быта», хотя сюжет драмы, скрупулезно, на нескольких страницах изложенный Герценом в статье, пока,до времени, которое трудно было предвидеть, не давал никакого повода для прямых аналогий.
В дневнике после просмотра драмы Герцен обошелся более сжатым описанием ее вполне банального содержания: «Юноша влюбился в девицу старее себя. Она его любит, и они женились. Прошло пять лет, молодой человек влюбляется в другую. <…> Муж – человек честный, благородный, он понимает свою обязанность относительно жены, уважает ее высокие достоинства, но не любит ее и скрывает. Жена необыкновенно благородное создание, любит мужа до безумия, и все понимает в страданиях. Она решает умертвиться. Муж в отчаянии. Проходит год, она осталась в живых, но ее считают умершей, и первый он убежден в этом. Он женится на другой и встречает на дороге свою первую жену. <…> Ему кажется, что он сделал что-то чудовищное. Жена (первая) умирает, он хочет убить себя. Но его друг заставляет его жить для второй жены etc. Вот что тут ужасно: все правы».
Последняя фраза многое объясняет. Жизнь так сложна, все правы. И Герцену важно было доказать это самому себе… Но к этой жизни, ограниченной единственным уделом «любиться», у него множество вопросов (и в частности, к театральным персонажам): «…неужели одна любовь дает Grundton [57]57
Основной тон (нем.).
[Закрыть]всей жизни, – на все есть время. Зачем это человек не раскрыл свою душу общим человеческим интересам, зачем он не дорос до них? Зачем и женщина эта построила весь храм своей жизни на таком песчаном грунте? Как можно иметь единым якорем спасения индивидуальность чью-нибудь? Все оттого, что мы дети, дети и дети». «Брак, когда от него отлетит дух, – не устает размышлять Герцен, – позорнейшая и нелепейшая цепь. Как, на каких условиях дозволяется ее (героиню. – И. Ж.)бросить, – трудный вопрос…» И «фактическое разрешение» этой задачи Герцен, не справившись, отдает на откуп «грядущим поколениям».
Утопические идеи сенсимонизма о социальном положении женщины давно усвоены им. «Общее», по его признаниям и реальному поведению, должно превалировать над «частным». И это – его принципиальное убеждение. Формула жизни.
В октябре работу «По поводу одной драмы» Герцен завершил, поставил дату, подправил статью в надежде увидеть ее в будущем альманахе Грановского. Издание не состоялось. Но подхватил статью А. А. Краевский, напечатавший ее в своих «Отечественных записках» (1843, № 8). Так случилось, что именно эту статью Герцен посчитал этапной в беспрерывных разборах своей семейной жизни: «заключительным словом прожитой болезни».
Всегда существовали угрозы со стороны цензуры. Возможно, даже кажущейся невинной, научной статье «Дилетанты-романтики» из продолженного цикла «Дилетантизм в науке» грозит не только запрет, но и тяжелые последствия (может, и третья ссылка). Что тут скажешь… Герцен – известный мастер формулировок: «В образованных государствах каждый, чувствующий призвание писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талант свой, у нас весь талант должен быть употреблен на то, чтоб закрыть свою мысль под рабски вымышленными, условными словами и оборотами. И какую мысль? Пусть бы революционную, возмутительную. Нет, мысль теоретическую, которая до пошлости повторялась в Пруссии и в других монархиях. Может, правительство и промолчало бы – патриоты укажут, растолкуют, перетолкуют! Ужасное, безвыходное состояние!»
Москва раскованных 1840-х годов питала энергией дружества и таланта плеяду замечательныхлюдей (эпитет этот благодаря внимательному летописцу времени П. В. Анненкову без всякого преувеличения вошел в сознание целых поколений). И Герцен вписался в эту славную когорту одним из первых.
После отшельничества ссылок московская жизнь предоставляла ему возможность «жить во все стороны». С радостью дружеского общения, веселыми пирушками, неутихающими спорами (конечно, о судьбах отечества), с разгоравшейся войной со славянофилами и началом бескомпромиссных дискуссий с ними сливается постоянное творческое возбуждение. Работа, горение, работа и работа, выводящая Герцена в круг первейших российских литераторов. Постоянное самоусовершенствование вело к пониманию перехода через определенный жизненный рубеж. В дневнике, полном искренних признаний и глубочайших раздумий, он записал: «Испив всю чашу наслажденья индивидуального бытия, надобно продолжать службу роду человеческому, хотя бы она была нелегка».
Кто же остался и царствует в Москве 1842 года? Безумный басманный отшельник, как хотелось бы власти, а на самом деле, фигура № 1, которую стремятся посетить не только друзья и сочувствующие. Целые вереницы экипажей сиятельных господ, этих «патрициев Тверского бульвара», выстраиваются возле флигеля Чаадаева в надежде снискать внимание интеллектуальной достопримечательности, поднять себя в собственных глазах, а заодно «отметиться» в напускном либерализме.
Герцен, большой почитатель философа, еще при чтении в Вятке его «Философического письма» начинает с ним свой внутренний спор по некоторым принципиальным вопросам. Многие страницы своих мемуаров он отдает характеристике этого уникального российского явления, имя которому – Чаадаев. Но лучше Пушкина не скажешь: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Переклес, а здесь он офицер гусарский».
Между двумя посланиями Пушкина Чаадаеву («Товарищ, верь…» и «Чадаев, помнишь ли былое?..»), считает Герцен, пролегла «целая эпоха, жизнь целого поколения», до и после декабрьского возмущения, выразившаяся в печальной смене несбывшихся намерений злыми разочарованиями. И это выразил Поэт в этих двух своих обращениях к Чаадаеву, непременно приведенных будущим лондонским издателем в «Былом и думах».
Чаадаева он очень любил, пользовался взаимностью и не раз публично отражал клеветы и презрительные нападки на пострадавшего от власти философа. Только освоившись в Москве, буквально через две недели после приезда, Герцен отправился к нему. Говорили о страшной утрате – смерти Михаила Федоровича Орлова, о реакции лучшей части московского общества: «оценили, поняли, благословили в путь», но слишком поздно.
Около 10 сентября Герцен опять на Старой Басманной. Спорят с Чаадаевым «о католицизме и современности». Вернувшись домой в некотором смятении, что за пару лет многое изменилось, Герцен запишет в дневник: «При всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал».
Тем не менее мысли и высказывания философа дают толчок размышлениям Герцена по кардинальным историко-религиозным вопросам развития общества, которые он постоянно соразмеряет с собственными воззрениями: «Чаадаев превосходно заметил однажды, что один из величайших характеров христианского воззрения есть поднятие надежды в добродетель и постановление ее с верою и любовью. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой надежды в, по-видимому, безвыходном положении должны по преимуществу осуществить мы. Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего».
Споры, визиты, новые и старые знакомства и продолжающиеся семейные сложности… Смена настроений, достойная самооценка и неустанное самокопание заставляют его за несколько дней до нового, 1843 года вновь открыть свой, полный искренних признаний, дневник: «Я иногда задыхаюсь от какого-то сокрушительного огня в крови. Потребность всяческих потрясений, впечатлений, потребность беспрерывной деятельности и невозможность сосредоточиться на одной книжной заставляет дух беспокойно бросаться на все без разбора, без разума. А после (далее, написанное по-французски, даем в переводе. – И. Ж.)я чувствую себя запятнанным, запятнанным вдвойне самим раскаянием слабого человека, который может завтра пасть еще ниже».
Летнее безвременье 1843 года, когда почти все друзья и знакомые разъехались, а деловая Москва почти пуста, предоставило Герцену спасительный выход из внезапной хандры – Покровское.
Передышка в подмосковной вотчине братьев Яковлевых, не слишком ими обихаживаемой, делала свое дело. В уединенном, «задвинутом лесами» Покровском, где вольно дышалось, понемногу улетучивались скорбные мысли.
С Покровским связывалось детство, вожделенные выезды на волю из тесных, давящих городских стен, где ребенком ему не хватало простора. В будущем, при воспоминании о Покровском у него, эмигранта, отлученного от России, возникали бесконечно влекущие, еле улавливаемые, но не потерянные ощущения: «Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание мух, пчел, шмелей… и запах… этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами… которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом и почти никогда не находил. Иногда будто пахнёт им, после скошенного сена, при широкко, перед грозой… и вспомнится небольшое местечко перед домом, на котором, к великому оскорблению старосты и дворовых людей, я не велел косить траву под гребенку; на траве трехлетний мальчик [58]58
Сын Саша.
[Закрыть], валяющийся в клевере и одуванчиках, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!»
Друзья являлись на радость хозяевам.
«Солнце село, еще очень тепло, домой идти не хочется. Мы сидим на траве. К[етчер] разбирает грибы и бранится со мной без причины. Что это, будто колокольчик? К нам, что ли? Сегодня суббота – может быть. <…>
Тройка катит селом, стучит по мосту, ушла за пригорок, тут одна дорога и есть – к нам. Пока мы бежим навстречу, тройка у подъезда; Михаил Семенович [Щепкин[, как лавина, уже скатился с нее, смеется, целуется и морит со смеха, в то время как Белинский, проклиная даль Покровского, устройство русских телег, русских дорог, еще слезает, расправляя поясницу А К[етчер] уже бранит их:
– Да что вас эта нелегкая принесла в восемь часов вечера, не могли раньше ехать! Все привередник Белинский – не может рано встать. Вы что смотрели!
– Да он еще больше одичал у тебя, – говорит Белинский, – да и волосы какие отрастил! Ты, К[етчер], мог бы в „Макбете“ представлять подвижной лес. Погоди, не истощай всего запаса ругательств, есть злодеи, которые позже нашего приезжают.
– Другая тройка уже загибает на двор: Грановский, Е. К[орш].
Надолго ли вы?»
Потом будет много потерь и разочарований, а пока, в 1843-м, жизнь «в кругу друзей» казалась счастливой и согласной, «какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная!».
Видимую гармонию этой светлой полосы нарушила гибель слуги Матвея. К Герцену он имел «безграничное доверие и слепую преданность, которые шли из пониманья, что он не в самом деле барин».(Конечно, отсюда и своеволие слуги – чрезмерно занесся, лентяйничал, взял власть над хозяевами, считала неуступчивая Т. П. Пассек.) Вместе с Матвеем Герценом многое пережито: и ссылки, и безденежное существование. Он так прирос к жизни любимой семьи, сделался таким близким, своим, что смерть этого цветущего человека стала подлинной трагедией. Герцен вновь возвращался к главному вопросу времени – об «общественном неравенстве», которое «нигде не является с таким унижающим, оскорбительным характером, как в отношении между барином и слугой».
Окружающая жизнь крепостных, даже в мирном, родственном Покровском, давала немало жестоких примеров, наводила на тягостные мысли о беззаконии и рабском принуждении, обреченных на голод, барщину и рекрутство крестьян: «А как взглянешь около себя… Бедный, бедный русский мужик. А что досаднее всего видеть – средство поправить его состояние по большей части под руками, алчность помещиков и неустройство государственных крестьян повергает их в это положение. Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно преступным жить в роскоши…»
Лето кончалось, пора возвращаться в Москву, и уж конечно, не под отцовский кров. Следовало всерьез подумать о постоянном жилье. Временное устройство на квартирах дела не решало.
Вот и пришлось ему начать так долго оттягиваемую «квартирную комиссию». В один из июльских дней в письме-наставлении Кетчеру он уже выразил свои жилищные предпочтения:
«1-е. Из записки Петра Александровича] (Захарьина, брата Н. А. Герцен. – И. Ж.)о квартирах я нахожу несколько знакомых и которые недурны; пожалуйста, хорошо осмотри на Арбате… дом Сергеева, за него можно дать до 2750 р. – этот дом я давно знаю. Да еще дом Менщикова в Кривом переулке, также на Арбате. <…> Дом Телегина наводит на скорбные мысли и вреден пищеварению, я его найму только в том случае, если 2000 приплотится».
Герцен еще не подозревает, что после тщетности хлопот, когда «все квартиры лопнули», ему придется обосноваться в маленьком особнячке с мезонином в три окна, купленном отцом в 1839 году рядом с двумя своими домовладениями. Заброшенный дом на Сивцевом Вражке, прозванный в семье «тучковским» (по имени бывшего владельца, генерала С. Тучкова), почти на три года, с сентября 1843-го, станет для него счастливым пристанищем и постоянным адресом: «Пречистенской части, IV квартала, в Старой Конюшенной, в доме Яковлева за № 357».
«Жительство имею…» – сообщает Герцен свой новый адрес друзьям и знакомым, и на Сивцев Вражек летят их легкие листки. Сохранившаяся переписка и развернутые записи в дневнике приоткрывают сиюминутную жизнь Герценов в доме.
1843 год, сентябрь 9-е. Дневник:
«С 26 в Москве. Время сует, внешних занятий, – почти потерянное…»
Едва переступив порог «тучковского» дома, Герцен делает эту запись. Она вполне передает его ощущение неустроенности и тревоги в преддверии новых хлопот московской жизни, где все не как в Покровском, на воле…
Наталья Александровна разделяет настроения мужа, полностью лишенного хозяйственной практичности. В письме Юлии Федоровне Курута рассказывает: «А мы с приезда в Москву в ужасных хлопотах, всё искали квартиру, бедный Александр с Уфа до вечера суетился и ничего не мог сделать, и мы принуждены были поселиться в том маленьком доме, в котором вы у нас были, и теперь также хлопочем его устроить – суета суетствий!..»
Дом не обжит, запущен, устройство его требует немалых средств, и Наталья Александровна бросается в хозяйственные предприятия, лишь бы только облегчить жизнь Александру.
В дом свозятся необходимые вещи. В гостиную водворяется диван (на котором потом так уютно сиживали с друзьями), в спальню – оттоман; вырастает большое трюмо (кстати, как неудачно поставлено! – четырехлетний Саша упадет на «вострый» угол зеркала и сильно поранит лоб) [59]59
Все эти оставшиеся в памяти детали помогут при создании в 1976 году в Москве, на Сивцевом Вражке, 27, литературно-мемориальной экспозиции Дома-музея А. И. Герцена.
[Закрыть]. Домашние, включая шумную компанию пришлых – прислугу, меняющихся кормилиц (вскоре в доме появятся еще два малыша – Коля и Тата), снуют и кочуют из комнаты в комнату, чтобы разместиться наиудобнейшим для Александра образом. Но дом слишком тесен, анфилада мала, комнаты сообщаются: и слова нельзя сказать в гостиной, чтобы не услышалось в спальной.
Поэтому мезонин – единственное спасительное убежище, возвысившееся над суетностью домашнего быта.
«Бэкон и Декарт представляют генезис философии как науки, без методы того и другого она никогда не развилась бы в наукообразной форме». Уже 18 сентября Герцен приступает к своим обычным занятиям, читает и размышляет, вносит в дневник наблюдения и заметки, которые вскоре понадобятся ему для цикла философских статей – «Письма об изучении природы».
Жизнь входит в свою колею, и Герцены постепенно привыкают к дому. Пока их с Шушкой (ласковое имя отца, как помним, подходит и сыну) всего трое, не считая неизменной помощницы, Луизы Ивановны, живущей рядом, на своей половине в яковлевском особняке. В мае 1846-го, после смерти Ивана Алексеевича, когда предстоит перебраться в «большой» дом, их уже пятеро – с двухлетним Колей и годовалой Татой (Натальей).
В иные редкие минуты Герцен как-то особенно тихо счастлив. Его посещает то «кроткое чувство» «спокойного обладания счастием очага своего», которое захватывало его и прежде, за тихой Лыбедью во Владимире, или на первых порах их новгородской жизни, когда семья казалась единственным спасением от провинции, бездействия, скуки. Но «тихий уголок, полный гармонии и счастия семейной жизни не наполняет всего…». Он уже давно определил свои общественные предпочтения: «…обязанность жизни всеобщей, универсальной, деятельности общей, деятельности в благо человечества…»
Глава 23СЕМЬЯ ДРУЗЕЙ
Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых, я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического.
А. И. Герцен. Былое и думы
Временем, проведенным в тихом Покровском, и хлопотами по обустройству семьи в маленьком доме на Сивцевом Вражке Герцен отмерял начало новой – «изящной, возмужалой и деятельной полосы» в своей московской жизни.
Большинства из своих друзей, и прежде всего Огарева, путешествующего в «чужих краях», в Москве он не застал. Но знакомства, встречи, бурные споры в московских гостиных и салонах, которыми обзавелась старая столица, пробуждавшаяся от немоты последекабристской эпохи, постоянно притягивали в его круг новых людей. Первое место в этом дружеском окружении принадлежало Грановскому.
Счастливая встреча с ним в 1839-м, когда на ссыльных перепутьях увиделись только мельком, не оставила у Герцена никаких сомнений в близости ему этого человека, одаренного «удивительным тактомсердца». «У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко, – вспомнит Герцен после ранней смерти Грановского, в 1855-м, когда и надежды побывать на могиле друга не было никакой. – Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного „все равно“».
Дружбу Герцен понимал как «великое поэтическое вознаграждение». На дружбу, как сам признавался, ушли лучшие силы его души. В его дневнике не раз варьировалась мысль о радости дружеских обретений. 28 августа 1844 года он записал: «…не мечтательный, не сосредоточенный в себе, я искал наслаждения на людях, делил мысль и печаль с людьми. Дружба меня привела к любви. Я не от любви перешел к дружбе, а от дружбы к любви. И эта потребность симпатии, обмена, уважения и признания сохранилась во всей силе».
Неудивительно поэтому, что в доме Герценов, только успели там обосноваться, Грановский – уже завсегдатай. Видятся почти каждый день. Иногда засиживаются в мезонине, не замечают, как в разговорах промелькнула ночь. Жена Грановского – Елизавета Богдановна, с которой он два года как «чудно счастлив», – ближайшая подруга Натальи Александровны (хоть и моложе ее на семь лет) и, значит, не менее желанная гостья в дружеском кружке.
Старый преданный друг Кетчер, одинаково востребованный и в счастье и в несчастье, – полномочный представитель в герценовском семействе (всегда и во всем участвующий, будь то Сашина простуда или дружеская пирушка).
Кетчер – человек особый. Друг до такой крайней преданности, что может, не желая того, доставлять близким неприятности. Несмотря на возникающие ссоры, обиды, ворчанья, даже взрывы гнева, которые посещали Кетчера столь же внезапно, как и отпускали, после новой, радостной встречи в Москве в отношениях друзей еще не ощущалось «первых шероховатостей». Отрезвев после «несчастного столкновения», Кетчер «старался всему придать вид шутки». И Герцен до поры терпел его «обличительную любовь» и навязываемую им «цензуру нравов».
«Неизменный столб Москвы», как давно окрестила его Наталья Александровна, в октябре 1843 года пытается расстаться со своими друзьями, которых «любит до притеснения», и отправиться в Петербург, где открылась недурная вакансия медика. Одними переводами Шекспира и Шиллера, на которых он, несомненно, собаку съел, сыт не будешь.
Весь октябрь Кетчера провожают. Рассылаются приглашения на прощальные завтраки и званые вечера, обсуждается меню и состав гостей: 7-го – у Герценов, 9-го – у Грановских, а под занавес – в ресторации Гофмана. Сочиняется шуточное послание к осиротевшим друзьям, которое Герцен собственноручно обводит траурной рамкой.
«Тимофей Николаевич Грановский с душевным прискорбием извещает о кончине московской жизни Николая Кристофоровича Кетчера, врача и переводчика, и просит пожаловать на вынос ужина и отпивание тела его в субботу в седмь часов к Николе в Драчах, в доме Гурьева», – каламбурит Герцен, дописывая адрес Грановских в Драчевском переулке на Сретенке. Наконец, Кетчер уезжает, но жизнь без московского круга ему не под силу. Чтобы как-то облегчить другу вынужденную разлуку, москвичи шлют о себе подробнейшие отчеты. Более всего писем от Герценов. Отосланы из Сивцева Вражка в ноябре 1843-го – апреле 1845 года. Благодаря этим письмам вновь приоткрываются двери «тучковского» дома, давно захлопнутые временем.
Пишет Наталья Александровна: «Вот и письмо – слава Богу! Уж мы ждали, ждали, ждали… Да, нечего делать, пришлось прибегнуть к последнему средству – писать – грустно! Великая и единственная отрада в разлуке – письма, – но что они? Запах цветка в склянке духов… voir c'est avoir [60]60
Видеть – это иметь (фр.).
[Закрыть]. Вот хотелось бы послушать раскаты как будто еще не устроившегося голоса допотопного человека, гул страшного спора, иногда (не в осуждение буди вам сказано) похожего на бред горячечного, хотелось бы увидеть сквозь густой табачный дым прическу, напоминающую сосновую рощу в Покровском, брови, говорящие – где гнев, там и милость. <…>…право, ужасный человек: тут он – там стулья, столы и диваны не на месте; нет его – так сердце и душа не на месте. Присутствие и отсутствие его равный производит беспорядок!»
Когда Герцен берется за очередное письмо Кетчеру, Наталья Александровна не упускает возможности сделать приписку: «Генваря 31-е. Понед[ельник]. 3 часа попол[удни]. [1844] <…> Чтобы тебе живо представилась наша жизнь, опишу настоящую минуту: Саша поехал кататься под Новинск, потом заедет к дедушке, там ему бабушка обещала дать маленький блинок, нарочно для него испеченный, Николашка лежит распеленатый на подушке и делает гримасы, Александр сидит возле меня и выписывает рецепт из Гуфланда (немецкого врача. – И. Ж.)от припадков катара, которыми он одержим почти с рождения Ник[олашки], не правда ли, каждый рисуется ярко с своим характером?»
К Николаю Христофоровичу Наталья Александровна особенно нежна и «пристрастна». «Папенька-рыцарь», как ласково его называет. Ведь он свидетель их счастья. А этого нельзя забыть. Да можно ли вообще представить их с Герценом женитьбу без его пособничества?
Волею судеб в 1844 году Герцен сам оказывается вовлеченным в историю женитьбы Василия Петровича Боткина, вошедшего в круг знакомых Герцена в 1839 году вместе с Белинским и Грановским. Давно зарекомендовавший себя на ниве литературной критики, не без некоторых колебаний принявший Герцена и признавший его талант, он – непременный, восторженный адепт Белинского, теперь оказывается среди ближайших герценовских друзей.
Базиль, в ту пору сорокалетний, уже основательно полысевший («волос начал падать с возвышенного чела» – так, пародируя Василия Петровича, скажет Герцен), своей характерностью и колоритностью давал столь значительный материал к собственному портрету, что Герцен, касаясь воспоминаний, не может сдержать улыбки, воображая этого «резонера в музыке» и «философа в живописи». Один из стойких приверженцев московских ультрагегельянцев, «он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях… Возводя все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое, пережеванным все свежее…». Когда же столкнулся с реалиями практической жизни (неравный брак с легкомысленной француженкой, «приехавшей отыскивать фортунув России»; или готовность отца, богача-миллионщика, лишить наследства блудного сына), был вынужден сбросить, по замечанию тонкого наблюдателя Анненкова, «всю одежду крайнего идеалиста, какую он носил постоянно вопреки новым модам». Упорство Боткина в отстаивании своих гуманных идеалов с выспренними фразами о правах женщины сменилось его раскаянием. Брак долго не продержался, и несчастная заезжая парижанка была покинута. «Эпизод из 1844 года», рассказавший эту немудреную жизненную историю, вошел в «Былое и думы».
Герцен множество раз перебирал в памяти подробности их удивительного житья в Сивцевом Вражке; вспоминал друзей, их рассказы. Представлял их московские трапезы, где остроты и шутки искрились «как шипучее вино». Но как остановить тот «хороший миг», когда жизнь была так полна и так неумолимо быстротечна?
Вот университетский профессор, издатель «Юридических записок» [61]61
В феврале 1844 года в дневнике Герцена появилась запись: «…в Европе всегда уважались лица, у нас именно лицо (как в Азии) и считается за ничтожность.
A propos. Киевский генерал Бибиков донес на Редкина „Юридические записки“, что в них была помещена статья о Литовском статуте, апологическая ему, в то время как он заменяется русским законодательством. <…> Министр, Бенкендорф тотчас начали переписку, запросы, вопросы, и, если б не хотел того Строганов, дело кончилось бы хуже замечания. В то же время и через того же Бибикова Маркевич, сочинитель истории Малороссии, и с ним сорок человек малороссов, подали донос на Сенковского, что он оскорбительно отзывался о Малороссии в „Библиотеке для чтения“, что он называл их беглыми холопами польскими, и для того, чтоб доказать, что они не холопы, а свободные люди, они подают донос баринову управляющему немцу, прося защитить народность. Истинно, через десять лет закроют III отделение собственной канцелярии, потому что оно, а равно и шпионы будут не нужны, донос будет обыкновенное дело, знак преданности отечеству и государю, acte de dévouement» (доказательством преданности – фр.).
[Закрыть]Петр Григорьевич Редкин, «радыкальный» юрист (Герцен каждый раз подтрунивает над ним, передавая его малороссийский говор), основательный ученый, до того «идентифицировавший» себя с наукой, что «нельзя шутить над ним, не обижая ее». Вот профессор римской словесности и древностей в Московском университете Дмитрий Львович Крюков, «милый, блестящий, умный ученый», острящий «с изящной античной отделкой по классическим образцам» и с неутомимой серьезностью выводящий личного Бога. Ему досталось жить недолго. 7 марта 1845 года его схоронили, и Герцен, вернувшись домой, записал: «Студенты несли до кладбища. В церкви было видно, сколько ценили его; величаво и благородно быть так отпету не попами, а толпою друзей и почитателей». «Еще одним светлым, прекрасным человеком» стало меньше в их круге.
Иван Петрович Галахов тоже рано умрет. Благородный, талантливый, добрый, печальный, с тихой улыбкой, поражающий рассказами и каким-то непередаваемым, грустным юмором. В нем было «высокое понятие долга, чести, прямизны». Сколько же вечеров провел с ним Герцен «в откровенности и взаимном доверии»…
Подобрать какие-либо определения для официальной характеристики этого близкого Герцену человека нелегко: ни профессор, ни ученый, ни даже литератор… Просто тончайший, деликатнейший интеллигент из возросшей на русской почве особой породы – «лишних людей». Мятущийся, ищущий, увлекающийся, он бросался в философские, религиозные, политические крайности, но цель его – поиск «успокоительной истины» – постоянно от него ускользала.
Герцен запомнил тот день, когда Кетчера проводили в Петербург, и только он явился к себе на Сивцев Вражек, как «зазвенел колокольчик и взошел Галахов». «Это так глупо, так досадно, что и слов нет, – рассказывал Герцен в письме Кетчеру, – он два дня искал всех нас и никого не нашел, у Гра[новского] был, да не застал, твоей и моей квартиры не знал и наконец приехал в наш большой дом». О рассеянности Галахова ходили легенды.
С нетерпением ждали Коршей – самого «ледахтора» «Московских ведомостей» Евгения Федоровича и его сестру Марью Федоровну. Иногда их просили приехать «вне срока», просто так, потому что соскучились. «…Я и решился, – пишет Герцен М. Ф. Корш зимой 1844 года, – велеть заложить лошадь, похожую на пряник, и отправить ее к стопам вашим и умолять вас приехать». Своим знакомством с Герценом и тесным общением с его кругом они обязаны Грановскому. Приятный, остроумный, умелый собеседник, Корш и его сердобольная, отзывчивая сестра вскоре станут своими людьми среди особо доверенных друзей Герцена и его семьи.
Молодой преуспевающий писатель Иван Тургенев тоже войдет в жизнь Герцена в конце 1844 года, а память о своих посещениях Старой Конюшенной оставит в повести «Гамлет Щигровского уезда», где скажет о бдениях на Трубе, на Арбате и в Сивцевом Вражке, явно подразумевая герценовские собрания.
Всегда радовались приезду Щепкина. Он был постоянным собеседником (и каким собеседником!) в герценовском кружке. Спорили о театре, о репертуаре, который может подвести даже великого артиста, обсуждали «чтебные», вечера для чтения, заведенные Михаилом Семеновичем в марте 1844-го с участием крупнейших актеров Малого театра и еженедельно посещаемые на Мясницкой, в доме Е. И. Новосильцева, множеством народа. Вносили оживление его малороссийские анекдоты, которыми он «морил» до колик, а от щемящих душу рассказов хотелось плакать. Сын крепостного, он только в 35 лет смог вырваться из рабской неволи.
Щепкина всегда «просили рассказать что-нибудь из его молодости, когда он еще был провинциальным актером и служил у антрепренеров, – вспоминала А. Я. Панаева, бывавшая в доме на Сивцевом Вражке весной 1844 года. – Между прочим, Щепкин рассказал однажды печальную историю одной молоденькой актрисы, и этот рассказ послужил Герцену сюжетом для повести „Сорока-воровка“». Превосходные рассказы Михаила Семеновича о чудовищном взяточничестве и полной судебной безнаказанности часто обращались к мелкому чиновничеству, ненавидимому народом и презираемому вышестоящей властью. Известно, что в годы ссылок чего только Герцен не перевидал, не насмотрелся, но история о протоколисте Котельникове («имя которого не должно изгладиться из истории бюрократии») его особенно поразила. «Котельников говорил, – рассказывал Щепкин, – что „он ездил на 11 исправниках, ведь всякие бывают, к иному подойти страшно, точно бешеный жеребец, и фыркает, и бьет, а смотришь – в езде куда хорош“».
Особое удовольствие доставляли спектакли с участием артиста. Начиная с 1839 года, когда только с ним познакомился, Герцен старался их не пропускать. Уже написал статью под впечатлением сыгранной Щепкиным роли в пьесе «Преступление, или Восемь лет старше» О. Арну и Н. Фурнье (в Большом театре 11 сентября 1842 года). Присутствовал на блестящем бенефисе артиста на той же сцене, где давали «Женитьбу» и «Игроков» Н. В. Гоголя (1843). Менее восторженно принял не слишком удачное его выступление 13 января 1844 года (репертуар, подобранный для бенефиса, «был составлен бог знает из чего», – записал Герцен, подразумевая неудачную инсценировку «Айвенго» В. Скотта вкупе с первым актом оперы «Наталка-Полтавка»). Герцен разделял мнение множества восторженных почитателей таланта Щепкина, заявляющих, что живая жизнь и сцена, как сообщающиеся сосуды, для него неразрывны. В истории русской сцены так и осталось навсегда справедливое утверждение о великой заслуге гениального артиста: он первый стал не театрален на театре.
На Сивцевом с нетерпением ждали Щепкина, когда он отправлялся на гастроли. Раз, увидевши в окошко сани Михаила Семеновича, имевшего обыкновение сразу взбираться к Герцену в мезонин, Наталья Александровна с Шушкой бросились наверх, чтобы встретиться с ним поскорее и, конечно, порасспросить о Кетчере. Щепкин только что вернулся из Петербурга и обнадеживал скорым появлением друга. Этот приезд в «тучковский» дом Михаила Семеновича описала Наталья Александровна в письме Кетчеру 16 ноября 1844 года, как всегда, сопроводив множеством деталей из бытовой повседневности.