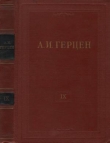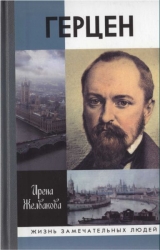
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Ирена Желвакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 44 страниц)
КРУШЕНИЯ И ОБРЕТЕНИЯ
Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность – я остаюсь здесь…
А. И. Герцен. С того берега
Незадолго до отъезда Анненкова в Россию летом 1848-го Герцен прогуливался по Парижу с всезнающим приятелем, столь скрасившим ему европейское житье. Их разговор был не легок. Анненков опасался, что Герцена ждет раскаяние, если он не возвратится домой. Мысли об эмиграции уже не раз обсуждались им с Огаревым, еще в России, но пока для себя Герцен не видел такой возможности. До поры не было и тени подозрений, что за ним пристально следят.
После Июньских дней стало ясно, что пути назад для него уже отрезаны. Он должен остаться, чтобы действовать, хотя стремления и желания еще смутны. Но вот перспектива вольного слова, без цензуры и без цензоров, невольно мерещится… Какой подарок всем, кто пострадал в России «от красных чернил», кто не выпустил свой выстраданный журнал, кто так и не мог сказать свое слово вслух.
Не раскается ли он, если останется? – задает свой вопрос Анненков. Герцен уверен, что если и раскается, – причина одна. Повторит ее в «Былом и думах»: «…не взял ружье, когда… его подавал работник за баррикадой на Place Maubert».
С тех пор прошел год, и какой год – «педагогический». Рубеж, когда многое можно осмыслить и подвести без иллюзий некий итог, – 13 июня 1849-го.
Теперь он в мирной Швейцарии, «этой старинной гавани гонимых», принявшей и радушно встретившей его. Сам президент женевского кантона Джеймс Фази избавил Герцена от необходимых формальностей: взял на себя всю ответственность и закрыл глаза на неувязки в идентификации личности пришельца с его подозрительными бумагами. Восторженное отношение к швейцарскому лидеру вскоре должно померкнуть, уж слишком не сходятся их жизненные, идеологические позиции.
Но пора Герцену осмотреться и принять наболевшие решения. На первых порах Швейцария подкупает его своей «демократической простотой». Вот и пример, где на практике можно «посмотреть, что такое республика…». Да и «нравы здесь приготовлены в тысячу раз больше к свободе, нежели во Франции…» – напишет он жене сразу же по приезде.
Герцен восхищен и своим спасительным, комфортным пристанищем на правом берегу Роны возле островка Руссо, в самом центре Женевы, и ослеплен природой Гельвеции. Тени Руссо, Байрона и Карамзина опять, как и в юности, его непременные спутники. Кажется, все сосредоточилось на берегах прекрасного голубого Лемана – кто их только не облюбовывал.
Однако будущее охладит чрезмерность его восторженных оценок свободной Швейцарии: стоит получить письмо о «гнусной» полицейской мере – исключении его шестилетнего сына Коли из цюрихской школы глухонемых. Этот факт репрессивных мер против отца, перенесенных на малолетнего ребенка, достоин публичного порицания, и Герцен спешит рассказать о нем Тургеневу и оповестить читателей анонимной заметкой в газете «Voix du Peuple».
В Женеве 1849 года – «вавилонское столпотворение» эмигрантов, «любовников революции», как называет Герцен некоторых из них. Немецкие «делатели переворотов», «французские красные горцы» (представители «Горы», группы мелкобуржуазных демократов в Учредительном собрании, выражавших свое сочувствие рабочему классу. – И. Ж.),итальянские изгнанники вызывают в нем противоречивые чувства. Их вера, что поражение не продолжительно, а удачи врагов не долговременны, подпитывалась в них «хмелем недавних успехов», а между тем контрреволюция в Европе торжествовала. И умнейшим из вынужденных беглецов было ясно, «что эта эмиграция не минутна». Теперь, находясь бок о бок с этой разноплеменной толпой, Герцен окончательно уверился, что «все эмиграции, отрезанные от живой среды», «предпринимаемые не с определенной целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают развитие и утягивают людей из живой действительности в призрачную…». Главное для Герцена – окончательно определить цель европейского пребывания и не оказаться в фантастическом плену несбыточных надежд.
В разноязычной, пестрой среде Герцену встретились люди замечательные, уже привлекшие внимание своих стран огромными заслугами перед ними. Следовало наладить деловые контакты. Итальянец Джузеппе Маццини – глава подпольной организации «Молодая Россия», разгромленной в 1830-х годах, много сделавший для объединения своей страны, был в числе новых знакомых Александра Ивановича. Его внимание к этой «великой, святой личности и огненной натуре» было привлечено еще в России. В разбуженной Италии 1848–1849 годов, куда вновь призвала родина бесстрашного борца, им встретиться не удалось. После падения Римской республики во главе с триумвиратом (Дж. Маццини, А. Саффи, К. Армеллини) Маццини вновь оказался на положении эмигранта. Здесь, в Швейцарии, они и увиделись впервые в конце августа (по другим сведениям, в сентябре) 1849-го. Сам Маццини пожелал познакомиться с видным русским деятелем. Дружеский обмен мнениями дал надежды на продолжение политического сотрудничества: Герцену предложено участвовать в газете «Italia del Popolo». (В дальнейшем тесные контакты, не исключающие резкую полемику оппонентов, будут продолжены.)
В доме Маццини в Паки, в пригороде Женевы, Герцен встретил и других легендарных итальянских изгнанников – Аурелио Саффи – товарища Маццини по триумвирату и предводителя римских легионеров, сподвижника Гарибальди – Джакомо Медичи.
В числе новых знакомых Герцена оказался и молодой литератор, «деликатнейший в мире человек», Фридрих Капп, помогавший Герцену в переписывании и переводе на немецкий его русских статей, вошедших затем в книгу «С того берега». Старшие приятели-компатриоты Каппа – известные деятели баденского восстания – Густав Струве и Карл Петер Гейнцен, вызвали не столь одобрительное отношение Герцена. Он полон иронии, услышав от Струве о «водворении какой-то новой демократической и революционной религии», и расценивает «как вредный вздор» «филантропическую программу» Гейнцена, «этого Собакевича революции». Их портреты, как всегда у Герцена, ювелирно отточенные, с красочными дефинициями, останутся в его мемуарах.
На примере поведения представителей эмиграции разных национальностей Герцен делает выводы, сравнивая народы, их повадки, нравы и воспитание, выявляя противоположность традиций двух европейских «пород», обозначенных им как англо-германская и франко-романская. Предпочтение он отдает второй, менее грубой породе («с этим делать нечего, это ее физиологический признак») и заключает пессимистически: «…сколько хочешь грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь».
Собирается целая когорта деятелей унесшейся революции, готовых объединиться вокруг новой демократической газеты, которую затевает Прудон при непременном литературном, а главное, финансовом пособничестве Герцена. («Издание журналов было тогда повальной болезнью», они возникали и тут же исчезали, и кто только не обращался к кошельку Герцена.) Программа «Voix du Peuple» Герцену ближе, он вносит 24 тысячи франков залога и четко оговаривает с Прудоном условия соглашения: право независимого участия, редактирования и возвращения ссуды в случае запрещения издания. (В числе ходатаев за демократическую газету – польский демократ Карл Эдмон Хоецкий, немало способствовавший вместе с Сазоновым финансовому вкладу Герцена.)
Герцен всегда очень осторожен и аккуратен в подобных вопросах, тем более что дело идет к секвестру его российской собственности. Он давно уже сформулировал для себя свое финансовое кредо, не имея «ни жажды стяжания, ни любви к безумной роскоши», и в очередном письме душеприказчику Ключареву сводил расходование средств к трем назначениям: 1) известный достаток в жизни с семьей; 2) средства на воспитание и образование детей; 3) «доставление возможности не отказывать в иных случаях приятелям и знакомым». И, действительно, порой был щедр в отношении оскудевшей эмиграции. Его дом был открыт, и в Париже обычно накрывали стол на двадцать кувертов. Да и тут Герцен как в воду смотрел: в его доме вскоре, во всех смыслах, обоснуется новый требовательный приятель.
Высочайшие приказы возвратиться следуют один за другим. Видно и по письмам друзей, как сильно накаляется атмосфера в России после краха европейских революций. С посредником, выезжающим на Запад, Грановский передает Герцену письмо, которое летом 1849-го уже невозможно послать по почте: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами… Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. <…> Благо Белинскому, умершему вовремя… Вопрос об эмансипации отставлен…»
Герцену не дано узнать, что заседающая в Петербурге Следственная комиссия допрашивает арестованных членов общества Петрашевского и ставит в вину им, в частности, чтение на их журфиксах письма Белинского Гоголю и его давней статьи «Москва и Петербург». Ф. М. Достоевский, привлеченный по «делу», дает показания, что «легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя и бездна парадоксов», рассматривалась на собраниях лишь с литературной точки зрения.
Уход на «другой берег», во всех смыслах, станет идейным, идеологическим решением Герцена, сопровождаемым мучительным поиском новых путей жизни и борьбы «за рубежом революции», и физическим перемещением, состоящим в поиске нового места жительства.
Обосновавшись «по ту сторону берега»,который постепенно становился своим, приняв участие во многих европейских событиях грозовых лет, Герцен с полным правом может о них размышлять, анализировать в новом цикле лирических очерков, составивших первую печатную книгу на Западе, включившую многое из прежде написанного и не раз концептуально переработанного. «Моя логическая исповедь, история недуга… осталась в ряде статей, составивших „С того берега“», – скажет он.
Из наблюдений, разбора событий предшествующих лет – блестящих публицистических эссе, написанных в пору высокого воодушевления перед наступающей грозой и в моменты глубокого душевного разлада, «плача по революции», составится книга «С того берега» (1847–1851).
В письме П. Ж. Прудону от 27 августа 1849 года Герцен объяснит конкретнее свой замысел: «Я печатаю в Цюрихе на немецком языке сочинение, которое можно было бы назвать философией революций 48 г.».
«Никогда не было время лучше, для того чтоб поднять русскому голос. Разговоры мои, переведенные мною и неким Каппом, исправленные Гервегом, имели большой успех, – напишет Герцен Грановскому 27 сентября 1849 года, – они в корректурных листах ходили из рук в руки. Я прибавил большое письмо к Гервегу, все вместе, если успею, пришлю. <…> Заглавие „Vom andern Ufer“. Покажите Петру Яковлевичу [Чаадаеву], это написано об нем, он скажет: „Да, я его формировал, мой ставленник“…»
Издание на немецком языке вышло анонимно в 1850 году в издательстве Гофмана и Кампе. (Отдельные статьи печатались и ранее в западной прессе.) Первая часть, имевшая общее заглавие «Wer hat Recht?» («Кто прав?»), объединила статьи-диалоги «Перед грозой», «Vixerunt!» («Отжили!»), «Consolatio» («Утешение»). Во вторую часть с общим заглавием «23, 24, 25 июня 1848 г.» вошли главы «После грозы», «LVII год республики, единой и нераздельной». Книга завершалась отдельными статьями «An Giuseppe Mazzini» и «An Georg Herweg» (в дальнейшем адресат статьи «К Георгу Гервегу» будет устранен из названия и французский ее перевод выйдет под заголовком «La Russie»).
Три главы, объединенные заголовком-вопросом «Кто прав?», написаны в диалогической форме спора автора с его оппонентами: две первые – диалог автора и «мечтателя-идеалиста», прототипом которого был И. Галахов, один из «наших» друзей-западников. Споры и «долгие разговоры» с ним, как вспоминал Герцен в «Былом и думах», и послужили началом книги. Идеалист привержен к мнениям, общим для многих либеральных деятелей, готовивших теоретически события 1848 года. За их политическими, антимонархическими и национально-освободительными лозунгами не стояло то важное, о чем размышлял Герцен – экономический вопрос. Ему было важно высказаться после всего происшедшего в Европе, показать несостоятельность буржуазной демократии.
Третья статья заключала диалог молодой дамы и доктора-материалиста, смотрящего на мир глазами естествоиспытателя («он не учит, он учится»). Диалогическая композиция подчеркивала лишь разность, оригинальность точек зрения спорящих, высказанных талантливо, независимо и не претендующих на окончательную истину, хотя в парадоксальности взглядов автора и в сознательной непоследовательности его оппонентов не всегда легко уловить, какие именно мысли доверяет Герцен своим героям и на чьей стороне быть ему предпочтительнее. Заметим, что в зависимости от политической конъюнктуры в научной литературе XX века менялись предпочтения исследователей темы в оценках взглядов Герцена: насколько, например, прав Герцен, отказываясь от надежд на европейское либеральное движение или же оценивая социальные перспективы России, в частности, крестьянскую общину.
В статье «La Russie», обращенной к западному читателю, Герцен впервые поставил задачу «знакомить Европу с Русью». Его цель: рассеять недоброжелательные предубеждения, представить Россию народную, ее историю, отождествляемую в отдельных западноевропейских кругах с историей самодержавия. Это убеждение в важности Дела даст Герцену возможность, наряду с первоначальным замыслом о создании Вольной печати, подготовить платформу для работы на Западе.
Особое внимание он обратит на два сочинения о России: маркиза де Кюстина, прежде знакомую ему книгу «Россия в 1839 году» («Russie en 1839», 1843) и барона Гакстгаузена «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России» («Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands». Т. I, 1847). Еще в Москве, встретившись с бароном Гакстгаузеном, Герцен ознакомится с его теорией русской крестьянской общины, но в тот исторический момент она не покажется ему слишком злободневной. Теперь, после проигранных революций, проклиная «год крови и безумия», в поисках путей мирного общественного преобразования России, минуя капитализм и все, связанные с ним катастрофические явления, Герцен заострит свое внимание на патриархальной сельской общине – «животворящем принципе русского народа», – с помощью которой его родине обеспечен путь к социалистическому переустройству.
Воспитанный на диалектике Гегеля, Герцен напишет о процессе постоянного движения, «вечной игры жизни», ее неотвратимых перемен, где «старческое варварство» поколений заменится «дикой, свежей мощью» юных народов и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.
«Основной тон его мы можем понять теперь, – скажет Герцен в своей выстраданной книге. – Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией…»
Размышления о поражении идей утопического социализма в качестве революционной теории периода классовых сражений 1848 года заставили Герцена искать почву, которая была бы благоприятнее для восприятия и развития социалистических начал. И ее он увидел в крестьянском мире.
Вера в творческие силы крестьянства, однако, никак не подтвердила жизненность герценовской народнической теории. Об этом, вкупе с разбором социальных утопических доктрин и оценкой Герценом социализма и коммунизма, дореволюционные и советские исследователи писали много и подробно [101]101
В работе В. Ф. Антонова (А. И. Герцен. Общественный идеал анархиста. М., 2000. С. 13–37) выделено пять периодов в изучении Герцена и дана краткая характеристика главных представителей – ученых разных течений. Первый период еще свободной историографии следует датировать 1905–1917 годами, когда в России было снято табу с имени «государственного преступника»; второй – с 1917-го до середины 1930-х годов; третий – от середины 1930-х до середины 1950-х годов; четвертый – с середины 1950-х до начала 1990-х годов и пятый – с начала 1990-х годов до наших дней (когда вновь появилась возможность свободы суждений о деятельности и творческом наследии Герцена. Пока, увы, добавим мы, ею не слишком воспользовались новые исследователи).
Из работ авторов «четвертого периода» по означенным темам, помимо указанных трудов А. И. Володина, отметим книги Н. М. Пирумовой (Александр Герцен – революционер, мыслитель, человек. М., 1989; «Русский социализм» Герцена // Революционеры и либералы России. М., 1990).
[Закрыть]. Высказывания классиков марксизма-ленинизма у многих читателей, вероятно, на слуху. Понятно, отошедшая литература по этим вопросам – бескрайняя, и в дальнейшем мы лишь вкратце коснемся историографии наиболее злободневных из них, некогда волновавших Герцена.
Немецкое издание «С того берега» представляло своеобразный ответ на события 13 июня 1849 года, последнюю, вялую попытку потребовать от правительства исполнения конституции. В «Былом и думах» Герцен вспомнит о своих настроениях той поры, когда «наскучив бесплодными спорами», он «схватился за перо и сам в себе, с каким-то внутренним озлоблением убивал прежние упования и надежды».
Несомненно, границы книги, поведавшей о сомнениях и разочарованиях автора и подвергшей критике обветшалые воззрения времени, будут намного шире. В нее будут добавляться все новые главы, отличающиеся рядом проницательных прогнозов на будущее, состав будет пересматриваться, текст и композиция меняться, и первое русское издание выйдет в свет в 1855 году с посвящением «Сыну моему Александру» (1 января 1855 года) и с введением – обращением к русским друзьям: «Прощайте!» (1 марта 1849 года). Причем в первой, немецкой редакции пессимистические настроения автора в отношении перспектив и возможностей народов выразятся резче, чем в русском издании.
Состав книги в окончательном русском варианте (2-е издание – в 1858 году) будет выглядеть следующим образом.
Первые три главы книги «С того берега»: I. «Перед грозой» (с датой 31 декабря 1847 года), II. «После грозы», (с датой 24 июля 1848 года), III. «LVII год республики, единой и нераздельной» (с датой 1 октября 1848 года) соответствуют двум этапам развития политических событий, увиденных глазами Герцена, уже во многом известных и пережитых читателем. Кроме того, в книгу войдут статьи «Эпилог 1849» (с датой 21 декабря 1849 года), «Omnia mea mecum porto» («Все мое ношу с собой») (с датой 3 апреля 1850 года) и «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император римский» (с датой 18 марта 1850 года).
В книге Герцен проследит этическую сторону поведения человека, оказавшегося на дороге истории в переломный, трагический момент. Это будут «скрижали завета» независимой личности, его протест «против воззрения устарелого, рабского и полного лжи», исповедь свободного человека.
Герцен окончательно объявит русским друзьям, что принял решение. Он не может «переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту… пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает чего-нибудьдостойным уважения в русском человеке!». И хотя он видит «неминуемую гибель Европы», и на отдых, на безопасность и какое-либо рассеяние нечего рассчитывать – «время прежних обманов, упований миновало», – он остается здесь. Препятствий, горестей, страданий в этом старом мире предостаточно, «при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах», можно и погибнуть. Тогда зачем же он остается? Герцен отвечает, и главка книги «Прощайте!», датированная 1 марта 1849 года, – это целый катехизис свободного человека:
«Остаюсь затем, что борьба здесь,что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны,борьба открытая, никто не прячется. <…> Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность – я остаюсь здесь…
Дорого мне стоило решиться… вы знаете меня… и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет… Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву:
Человеческому достоинству,
Свободной речи.
<…>Свобода лица – величайшее дело; на ней и только на нейможет вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. <…>
В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости – некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты.
<…>В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.
У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность – за крамолу, человек пропадал в государстве, распускался в общине. <…> Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм.
Если б Россия не была так пространна, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя бы было жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство. <…>
Я остаюсь здесь… для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашегодела.
<…> Я здесь полезнее, я здесь бесценсурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель».
Свое лирическое послание Герцен обратит и собственному сыну, когда тот достигнет пятнадцатилетия, надеясь увидеть в нем продолжателя своего дела, своего «ставленника». Во время празднования нового, 1855 года (когда обоснуется на берегах Темзы) Герцен публично, в присутствии друзей-эмигрантов, передаст Саше экземпляр своего труда. Он прочтет слова, адресованные лично ему: «Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я ее знаю, тебе эта истина достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства. <…>
Мы не строим, мы ломаем, мы не возвещаем нового откровения, а устраняем старую ложь. Современный человек, печальный pontifex maximus [102]102
Великий строитель мостов (лат.).
[Закрыть], ставит только мост – иной, неизвестный, будущий пройдет по нем. Ты, может, увидишь его… Не останься на старом берегу…Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции.
Религия грядущего общественного пересоздания – одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждения, кроме собственного сознания, кроме совести. Иди в свое время проповедовать ее к нам домой; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня».
Еще в письме М. Гессу от 3 марта 1850 года Герцен говорил о своей немецкой «брошюре»: «…я освободился от всех горестных ощущений, когда написал ее». Тогда же разъяснил смысл ее заглавия, который ввел многих в заблуждение: «…„С того берега“ означает только – за рубежом революции и ровно ничего больше». Очевидно, что в этот заголовок Герценом вкладывался более широкий смысл. В обращении к сыну, неоднократно редактируемом автором, берег революции противопоставлялся берегу реакции.
Неокончательность решений, их эволюция, подвижность мышления человека, идущего в ногу с историей, кое-где отставая, а то и предвосхищая события, – это характерно для воззрений Герцена той поры. В посвящении сыну он так и скажет: «Не ищи решений в этой книге – их нет в ней, их вообще нет у современного человека…» Но поиск этих путей во имя справедливого общественного устройства («грядущий переворот только начинается…»), ради воли для крестьян и «свободы лица» был постоянным и порой очень мучительным. Идея о «колоссальном» будущем русского народа его не оставляла.
Завершающей главой книги «С того берега», даже нарушившей хронологию, Герцен сознательно сделает статью «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император римский». В финале книги должны отразиться: его вера, его поиск; его желание, когда мир рушится, подвергнуть суду «наши старые заповеди»; его протест против консерваторов, его глубокое понимание, что «дряхлый мир должен возродиться в иных формах и что роль слова в его спасении огромна». («Мир спасается словом».)
Поиски верных решений приводили Герцена к неминуемым противоречиям в рассуждениях о демократии, в которой «бездна аскетического романтизма, либерального идеализма: в ней страшная мощь разрушения, но как примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах».
Не стоит упрекать Герцена в некой «поверхностности», идеализации и «недопонимании» того-то и того-то, как делали исследователи и политики, взращенные на курсах исторического материализма. Герцен – активный участник, а отнюдь не безучастный наблюдатель исторического времени, предоставившего невероятный размах событий. Герцен, как один из самых смелых русских мыслителей, жил в переломный момент этой истории, фиксировал масштаб происшедшего в мире, размышляя о будущем своей страны. Выход на берег «спасения» после краха революций 1848 года виделся ему как «русский социализм», но пути достижения «другого берега», не имевшего четких контуров, представлялись, естественно, туманными. Он действительно колебался, сомневался, впадал в отчаяние, оказывался в тупике, но всегда искал выход из лабиринта. Так и осталась его книга «памятником борьбы» и сражением за истину, ради которой он «пожертвовал многим, но не отвагой знания».
Книга Герцена имела значительный отклик и в Западной Европе, и в России, где стали известны списки ее отдельных глав. 12 сентября 1848 года Некрасов писал Тургеневу: «Я плакал, читая „После грозы“ – это чертовски хватает за душу». Читатели опубликованной книги, даже весьма просвещенные, толковали ее смысл по-разному. Заложенная в ней полемика не могла не вызвать противоречивых отзывов. Цели и задачи, поставленные Герценом перед собой в Западной Европе, не были ими поняты. Даже в стане друзей не было единства. Некоторые из них были готовы упрекнуть автора в скептической проповеди общественной пассивности. Другие, как Грановский, не могли «помириться» с герценовским «воззрением на историю и на человека». В конце мая 1851 года историк отправил другу полное любви и горьких, не всегда справедливых упреков послание: «О тебе осталось исполненное любви воспоминанье не в одних нас, близких тебе. Я должен был раздать все бывшие у меня портреты твои… разным юношам. Есть негодяи, бранящие тебя, – потому – бедны умом и подлы сердцем. Книги твои (речь, в частности, о работе „С того берега“. – И. Ж.)дошли до нас. Я читал их с радостью и горьким чувством. Какой огромный талант у тебя, Герцен, какая страшная потеря для России, что ты должен был оторваться от нее и говорить чужим языком; <…> Все, что ты писал до сих пор, бесконечно умно, но оно обличает какую-то усталость, отрешено от живого движения событий. Ты стоишь одиноко. Ты, скажу без увлечения, значительный писатель, у тебя есть условия сделаться великим писателем, но то, что было в России живого и симпатичного для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чуждой почве. Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею».
Реакционная российская публицистика особенно задерживалась на вопросах герценовского атеизма. Западная демократическая печать, представившая отзывы о книге в лице сторонников Герцена (Прудон, Гесс) и противников (Р. Зольгер), обвиняла автора в чрезмерном пессимизме, так как не исключала в скором времени нового революционного подъема.
«Скрижали завета» Герцена, обращенные к его сыну Александру, как и вся книга огромного духовного наполнения, не могла не восхитить Л. Н. Толстого. Художественные достоинства «С того берега» отметил в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский. И они были не одиноки.
Для самого Александра Ивановича «С того берега» так и осталась незабываемой и любимой книгой, лирическим посланием к новому поколению в лице сына Саши.