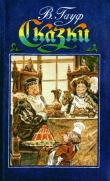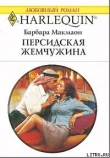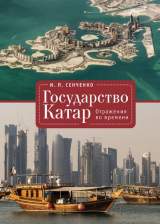
Текст книги "Государство Катар. Отражения во времени"
Автор книги: Игорь Сенченко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
В прошлом в племенах Катара были сильны традиции эндогамии: браки предпочитали заключать внутри своих семейно-родовых кланов, племен и племенных союзов. Бытовало поверье, что «браки с чужаками» плохо отражаются на детях: на их внешности и характере, уме и воле.
Чужеземец на катарке мог жениться только после того, как «выявит свое лицо», то есть покажет, кто он есть на самом деле.
Существовал в племенах языческой Аравии, как повествуют собиратели «аравийской старины», и обычай так называемой короткой женитьбы. Женщины становились женами лишь на время. Притом на основании соответствующих компенсационных соглашений, как теперь бы сказали. Смысл «короткой женитьбы» состоял в том, чтобы женщина родила столь желанного в аравийской семье мальчика, наследника. Если женщина рожала дочь, то с ней и с «ее дочерью» сразу же расставались.
Адюльтеров в былые времена в семьях катарцев, как и других арабов Аравии, практически не случалось. Если же и имели место, то для женщины они заканчивались плачевно – смертью. Довольно часто – от рук ее же близких и родственников. Согласно обычаям и законам аравийской пустыни, отец, братья и кузены такой женщины не могли принимать участия в маджалисах, то есть в популярных и почитаемых в Аравии и поныне мужских встречах-посиделках по вечерам за чашкой кофе с кальяном.
В языческой Аравии женщина, изменившая мужу, могла избежать смерти только одним путем, – выйдя замуж за соблазнившего ее мужчину. Во всеуслышание он должен был объявить, что берет ее в жены, а также заплатить отцу, братьям и кузенам такой женщины некоторую сумму денег – за «причиненный им стыд» (хашм).
Когда вспыхивали войны между племенами, свидетельствует в одной из своих поэм Антара, величайший воин и поэт Древней Аравии, то женщины, «возбуждая мужчин на дела ратные», призывали их, взяв в руки оружие, «опрокинуть врага» и не допустить того, чтобы он надругался над шатрами их семейств, «обителями любви и счастья». Если мужчина проявлял в бою трусость, «показывал врагу спину», что непременно становилось достоянием гласности всего племени, то женщина имела право бросить такого «немужчину» и вернуться в дом отца. В прошлом такой поступок в племенах Аравии являлся во всех отношениях достойным, отвечавшим понятиям чести и благородста истинной аравитянки.
«Мужчина только наполовину мужчина, если у него нет детей», – считают арабы Аравии. «Главное богатство мужчины, – часто повторяют катарцы в беседах с иноземцами присказку предков, – это его потомство». «Венец счастья женатого мужчины и его опора в старости, – сказывают в семьях Катара, – это сыновья».
Коренной катарец гордится всеми своими сыновьями, но особенно теми из них, кто с детства смел, находчив и ловок, правдив и щедр. Имя ребенку, по обычаю предков, принято давать на седьмой день после рождения. Число 7 у арабов Аравии входит в разряд чисел счастливых. В доисламской Аравии, когда заключались разного рода договоры, то их скрепляли кровью. На руках договаривавшихся людей делали надрезы, и выступавшей из них кровью обрызгивали семь камней, разложенных на земле между договаривавшимися сторонами. Семь раз паломники обходят Каабу. Возможно, культ цифры 7 связан с культом семи небесных светил, которым поклонялись языческие племена Аравии. Как бы то ни было, но цифра семь на нашей планете, действительно, знаковая. Это и семь земных континентов, и семь океанов, и семь цветов радуги.
Имена сыновьям катарцы дают громкие, окруженные в Аравии ореолом славы и доблести, гостеприимства и щедрости, мудрости и знаний, и служению веры. Если мальчика нарекают именем Мухаммад, то, порицая и браня мальчугана, имя его вслух не произносят.
В день наречения ребенка именем в семьях кочевников, как и прежде, режут овцу или барана. Во времена джахилиййи, то есть язычества, кровь животного, забитого по этому случаю, приносили в жертву идолу племени. Мясо съедали за вечерней трапезой. Перед тем, как огласить имя ребенка соплеменникам, состригали волосики на его голове (обряд назывался ал-‘акика). На руку или на шею новорожденного – сразу же после наречения его именем – надевали амулеты-обереги.
В прошлом брелки-обереги и амулеты-подвески от сглаза, катарцы прикрепляли также к дверям жилищ, надевали на шеи верблюдов, осликов и лошадей, цепляли на мачты парусников. Вешая амулет-оберег на шею верблюда, верили в то, что шайтан (Иблис), взглянув на него, отведет свой дьвольский взгляд от животного, что убережет верблюда от болезней.
Наставляя сына жить по уму и по чести, катарец вынет из памяти одно из мудрых изречений предков насчет того, что «как одна тухлая рыбка может испортить весь улов, а одно крапивное семя – вид всей клумбы, так и человек взбалмошный и несдержанный может испачкать поступком недостойным честь рода и племени».
Видя, как коренной житель, не пользующийся уважением среди соплеменников, ругает своего отпрыска, катарец молвит: «Будет ли тень прямой, если ствол кривой».
«Жизнь не должна покоиться на одной надежде», – поучает аравийцев народная мудрость. Нужно ставить цели и добиваться их, ибо «ясная цель придает смысл жизни».
«У сильных людей есть желания, – добавляют они, – а у слабых мечты».
Если, повзрослев и став мужчиной, человек ведет себя достойно, то есть честно трудится, стойко переносит лишения жизни и чутко отзывается на горести и беды соплеменников, то о нем говорят, что «он – красивая ветвь крепких корней истинных аравийцев, арабов чистокровных». Если человек образован, хорош собой, но порочен, то сказывают: «Хорош перл, но с изъяном». Если умен и мог бы совершать дела великие, но робок и пасует даже перед проблемами малыми, то замечают, что у него – «сердце рыбешки», что «живет он у моря и выходит в него, а дождя боится».
«Красноречивее Ваила», – обронит араб Аравии, тот же катарец или кувейтец, услышав убедительную и аргументированную речь (Сабхан Ваил – знаменитый оратор, его красноречие вошло в поговорки). «Лживее, чем ‘Уркуб», – охарактеризует коренной аравиец человека, который не держит данного им слова (по преданию, ‘Уркуб печально прославился среди кочевников Аравии тем, что никогда не исполнял данных им обещаний). «Пугливее, чем ката», «сердце у него рыбешки» и «труслив он, как песчаный заяц», – скажет житель катарской глубинки по адресу лица боязливого (ката – это вид куропатки). В отношении мужчины осмотрительного выскажется, что тот – «осторожнее ворона», то есть всегда начеку. О человеке-трудяге, горячо преданном своему роду и племени, выразится, что тот – «трудолюбивее и надежнее муравья» (в племенах Аравии муравей – это символ трудолюбия и верности своей родоплеменной общине).
Верблюд у катарцев и у всех других арабов Аравии – это символ смирения; ведь всякий раз, принимая на себя тяжелый груз, он становится перед человеком на колени. Аист и журавль – «почтальоны добрых вестей и хороших предзнаменований в жизни». В племенах Катара до сих пор бытует поверье, что журавль и аист – это принявшие их облик души переселившихся в Рай добрых и отзывчивых людей. В сезон миграции этих птиц они прилетают, дескать, вместе с ними в Аравию, чтобы, обернувшись на время в людей, побыть среди них и согнать грусть-тоску по родным землям. В прошлом журавлей и аистов, умиравших во дворах жилищ людей, арабы Аравии обязательно хоронили, и непременно под кронами деревьев в садах, у которых таковые имелись. Ворон у аравийцев – знамение грядущего хаоса, и в жизни, и в делах. Появление ворона при выходе из дома аравиец воспринимал в прошлом как знак приближавшейся беды и разлуки. По одной из легенд, первой птицей, которую Нух (Ной) после Великого потопа выпустил с Ковчега, чтобы она осмотрелась вокруг на предмет обнаружения суши, был не голубь, а ворон. Так вот, покинув Ковчег, он на него больше не вернулся. И с тех пор арабы Аравии, ведущие свое начало от Сима, сына Ноя, считают ворона знамением чего-то в их жизни недоброго и дурного. А вот голубь у аравийцев – предвестник любви.
Удода и сороку, птиц-вестников мудрого царя Соломона, как и муравья, и пчелу-дарительницу меда, традиционной аравийской сладости, а также жабу и лягушку, этих зримых в пустыне меток-примет располагающегося поблизости источника воды, убивать, согласно наставлениям Прорка Мухаммада, строго-настрого запрещено.
Человека умного, сообразительного и хорошо разбирающегося в людях коренные катарцы и по сей день именуют словом «хатир». В переводе с арабского языка «хатир» значит «опасный». Однако в данном конкретном случае смысл этого слова – «проницательный». Иностранец, знающий арабский язык, услышав слово «хатир», сказанное в его адрес, не должен смущаться. Так катарцы и другие арабы Аравии отзываются о человеке умном, способном говорить аргументированно, акценты расставлять верно и выводы делать правильные. Иными словами, о том, с кем во время встреч и бесед «ухо надобно держать востро».
«Никто не защищен от ошибок», – поучают своих потомков старейшины катарских семейно-родовых кланов. И добавляют: «Породистый конь, – как сказывали предки, – и тот иногда спотыкается». «Кто же боится падать, тот не научится и ездить верхом». Чтобы ни случилось, какие бы неприятности не повлекла за собой ошибка, совершенная человеком, опускать руки нельзя, ни в коем случае. Нужно помнить, наставляют своих сыновей катарцы, что «за ночью приходит рассвет, за горем – радость, за тяжестью – облегчение». Так устроена жизнь.
Издревле честью для любой семьи в Катаре было дать образование хотя бы одному ребенку, научить его «цифирю и букве». Отдавая сыновей на учебу в мадрасы (школы при мечетях), отцы напутствовали их набивать «колчан знаний» так же усердно, как колчан со стрелами, готовясь к охоте. «Знания – те же стрелы», вразумляли они своих потомков. Ведь неслучайно же один из жизненных постулатов арабов Аравии гласит, что «знания – самая дорогая вещь на ярмарке жизни». «Вместимость любого сосуда уменьшается, когда его наполняют, кроме сосуда знаний, объем которого при наполнении увеличивается», – скажет к месту своему сыну катарец, процитировав одно из крылатых выражений «праведного» халифа ‘Али.
Лучшая черта-метка мужчины – его ум. «Слабость ума», то есть малообразованность, для нынешнего поколения катарцев – это позор. «Судят о человеке по его поступкам, и шейх над ними – ум», – говорят катарцы.
Сказания и предания катарцев, хроники их дней ушедших и настоящих, рассказывают, что правители и эмиры Катара одинаково щедро жаловали подданных своих и за подвиги на поле брани, и за «мысли мудрые, и советы добрые».
Трезвый и просвещенный ум, говорят аксакалы-катарцы, – это залог успеха, и в работе и в жизни, а вот зависть – лукавейший и коварнейший враг человека. Завидовать чужому успеху и богатству – попросту терять время. «Не завидуй тому, кто силен и богат, – скажет дед-катарец своему внуку, процитировав крылатое изречение мудрого Омара Хайама, – ведь за рассветом всегда наступает закат».
Чистокровную бедуинку арабы Аравии и по сей день величают «принцессой пустыни» и «неиспорченной дочерью Хаввы» (Евы). Венец красоты женщины в Аравии – волосы. В прошлом подрезанные кончики своих волос на голове аравитянка непременно собирала и сразу же закапывала в песок во дворе своего жилища. Бытовало поверье, что волосы, подобранные завистницей и «обрызганные ее слюной», могут накликать несчастье – рассорить жену с мужем.
Женщин в Катаре, да и в любой другой стране в Аравии, одежда «прячет от чужих глаз», как там выражаются, практически полностью, «до кистей рук и стоп ног». Тело скрывает длинное, до самых пят, платье и наброшенная поверх него легкая накидка (абайа); голову – платок (буннуг), а лицо – чадра (шайла, тараха, маханна), реже – лицевая маска (бурга), закрывающая нос и щеки, либо тонкая вуаль (милфа), которая прикрывает только нижнюю часть лица. Абайю надевают, выходя на улицу, и исключительно черного цвета.
Важный, если не центральный атрибут женского костюма коренной катарки прошлого – амулет-оберег, подвешенный на серебряную цепочку. Одной из самых распространенных форм амулетов-оберегов был серебряный футлярчик с помещенным в нем списком того или иного из айатов («стихов» из Корана). Вкладывали в такой футлярчик и листочки бумаги с начертанными на них именами Пророка Мухаммада и его ближайших сподвижников из так называемой Благословенной десятки, то есть тех, кого Пророк Мухаммад задолго до их смерти оповестил о том, что они попадут в Рай. Кстати, именовали этих десятерых сподвижников Пророка ал-‘ашра ал-мубашара («десятерыми, полушившими благую весть»). Записочки для амулетов-оберегов старались привозить из Священных мест, из Мекки и Медины. Дело в том, что чернила для написания изречений из Корана писцы тамошние разводили на воде, взятой из Священного источника Замзам, с добавлением в нее благоуханной шафрановой настойки.
О красивой женщине в племенах Катара говорили, что она «сладка как финик, и гибка, как пальма».
Особое место в жизни катарки, да и любой другой коренной аравитянки занимали и занимают ювелирные украшения. Наличие на замужней женщине большого числа ювелирных украшений – это в Аравии неоспоримое свидетельство любви и внимания к ней мужа, а также показатель уровня богатства и благополучия семьи. В прошлом ювелирные украшения женщины являлись своего рода семейной «заначкой» на случай непредвиденных жизненных обстоятельств.
Среди коренных катарок и по сей день в силе поверье, что драгоценные камни обладают «чудодейственными свойствами». Одни из них «защищают от порчи», другие «даруют удачу» и «определяют судьбу человека». Дабы «уберечь и удержать любовь» своих мужей, катарки носят жемчужные бусы. Называют их «оберегами любви и семейного счастья».
В племенах Катара, вспоминали путешественники, равно как и во всех других племенах Прибрежной Аравии, веровали в то, что следует опасаться людей с редким цветом глаз – серым или зеленым. И при встрече с ними непременно касаться рукой своего оберега, дабы «обострить» защищающие человека свойства камня, носимого в обереге. Надо сказать, что и сегодня арабы Аравии, те же катарцы или дубайцы, при первой встречи с незнакомым человеком внимательно присматриваются к цвету его глаз. Поэтому, чувствуя на себе пристальный взгляд аравийца-собеседника, специально, порой, по такому случаю скрывающего глаза за темными стеклами солнечных очков, дабы не смущать собеседника, – не теряйтесь. И не в коем случае «не бегайте взглядом», как выражаются арабы Аравии. Помните, что людей с «бегающим взглядом» они считают ненадежными. Здороваясь с аравийцем за руку непременно нужно смотреть ему в глаза, твердо, но приветливо.
У коренных катарок и сегодня в моде – росписи хной рук и ног. В их речи они фигурируют как «украшения тела». Торговцы хной рассказывают, ссылаясь на поверья-заповеди предков, что хна, равно как и благовония аравийские, «притягивает удачу»: незамужним женщинам дарует мужей, а замужним – детей. В чести она и у стареющих женщин, скрывающих хной «накатившие годы», то есть седину волос. Нательные рисунки хной, по убеждению аравитянок, есть ничто иное, как «щит здоровья». Именно так, говорят они, о хне повествует одно из жизненных правил-наставлений предков. И спорить с этим негоже.
Лучшие сорта хны в Аравии родом из Йемена. Обычай нанесения знаков и рисунков хной на тело женщины пришел в Аравию от шумеров. Они метили ими свой скот и рабов. Аравийцы стали использовать «метки шумеров» в тех же целях, и назвали их васмами. У каждого племени был свой васм. Помечали им также колодцы, сады финиковых деревьев, домашний скот (только верблюдов и лошадей), и конечно же, женщин, «ценнейшую собственность мужчины». Так и появилась в Аравии культура росписи хной тела женщины.
В обычае у катарок – умащивать себя благовониями. И делают они это в целях «усиления женских чар». Благовония, как писали в своих стихах прославленные поэты Аравии, – это «ароматы Рая» и «острые стрелы женщин, мужчин наповал разящие».
Имелась в прошлом у женщин Катара, сообщают сказания, и специальная мазь-паста для удаления волос на ногах. Рецепт ее приготовления легенды арабов Аравии приписывают царице Билкис, владычице химиаритов, пленившей умом и красотой своей царя Соломона. «Пастой Билкис» катарки пропитывали куски материи, обматывали ими на ночь ноги, а утром снимали, вместе с прилипавшими к ним волосами.
«Красота мужчины в его уме, – сказывает древняя поговорка аравийцев, а ум женщины – в ее красоте». Как она распорядится ею, так и сложится ее семейная жизнь. «Злейший враг женщины – ее язык», не в меру, порой, острый и несдержанный.
В прошлом женщины в Катаре, да и повсюду в Аравии, часто прибегали к услугам колдуний, и главным образом для того, чтобы «отвадить суженых своих от желаний страстных и помыслов горячих в отношении других прелестниц», и накрепко приворожить их к себе. В этих целях они несли к колдуньям снятые с расчесок волоски с бород своих мужей. Будучи «заговоренными» колдуньями, волоски эти жены клали под подушки мужей в постелях и в карманы их одежд.
В Аравии, к слову, бытовало поверье, согласно которому, даром колдовства обладали женщины с определенным цветом глаз, и только из нескольких племен. Вызвать недовольство колдуний опасались все, и бедняки, и знать. Так продолжалось до тех пор, пока ваххабиты не «очистили от этой заразы», как они называли колдовство, и все другое, чуждое исламу, и Неджд и соседний с ним Катар.
В отличие от колдунов и колдуней к прорицателям и толкователям снов в племенах Катара, как и во всей Аравии, относились с почтением, и во времена джахилиййи (язычества), и с приходом ислама. Арабы Аравии считали, что толкователи снов и прорицатели были наделены даром «считывать знаки судьбы», содержащиеся в снах людей. Авторитетным толкователем снов, со слов историков ислама, слыл среди мекканцев Абу Бакр, первый «праведный» халиф (правил 632–634), отец А’иши, одной из жен Пророка Мухаммада.
Почитали арабы Древней Аравии и звездочетов, «предсказателей будущего по телам небесным».
Помимо нескольких жен, вспоминали путешественники, имелось у состоятельного аравийца, того же катарца или кувейтца, и несколько наложниц (сарири). И содержать он их мог столько, сколько хотел – «по размеру кошелька своего».
В прошлом, когда муж с женой разводились, то женщина, согласно традиции, не могла выходить замуж в течение трех последующих месяцев, то есть трех минструальных периодов. Семейно-родовому клану, к которому принадлежала «оставленная мужчиной женщина», требовалось «убедиться наверняка», что от мужчины, который с ней расстался, она «не понесла».
Ведя речь о положении женщин Катара дней сегодняшних, следует отметить, что права их, как и прежде, несмотря на определенные подвижки в данном вопросе, все еще остаются довольно урезанными, если так можно сказать. По оценке международных гуманитарных организаций, в 2017 г. Катар занял 117 место в списке 122 стран мира, где права женщин сильно ущемлены.
Вместе с тем, женщины в Катаре обладают уже правом принимать участие в выборах и быть избранными в муниципальные советы (впервые вошли в них в 2003 г.), а также могут, наравне с мужчинами, водить автомобиль. Шейха бинт Ахмад ал-Махмуд стала министром просвещения. Шейха Муза, жена эмира Хамада (правил 1995–2013) и мать нынешнего эмира Тамима, первой среди жен в монархиях Аравии сняла хиджаб.
Основа основ «свода правил достойной жизни» коренных катарцев – это Коран. Мусульманин, говорят они, ведет образ жизни достойный, если совершает предписанные Кораном «дела добрые», то есть поступки богоугодные, и «отстраняется от дел злых», порочащих его честь и достоинство.
«Пребывая на белом свете, важно жить правильно», – сказывают в племенах Катара. В их понимании это значит – следовать заветам-наставлениям Пророка Мухаммада, не забывать обычаев и традиций предков, и их увлечений: охоту с ловчими птицами (соколами, ястребами и кречетами) – на дроф и газелей в пустыне; верблюжьи бега и скачки на лошадях.
Охота с соколом – один из сохранившихся и высоко чтимых в Катаре «атрибутов жизни предков», излюбленное времяпрепровождение состоятельных катарцев, важная составляющая церемониала приема в Катаре почетных гостей из числа династий, правящих в монархиях Аравии.
В былые времена, человека, убивавшего сокола, даже случайно, на охоте, в наказание за это оставляли на несколько дней в пустыне. Одного, без пищи и верхового животного. Если он выживал, то считалось, что «пустыня, охотничье угодье сокола, его простила». Человека, пойманного на краже ловчей птицы, карали, притом непременно и жестко – тут же отсекали руку.
В племенах Катара до сих пор в силе поверие, что если беременная женщина увидит во сне парящего в небе сокола, то у нее родится мальчик.
Соколов на полуостров либо завозили из других стран (существовали даже специализировавшиеся на этом деле артели), либо отлавливали в сезон их миграции через Аравию. Великий исследователь Аравии Гаспар Зеетцен рассказывал, что те арабы, кто «учил ловчих птиц для охоты», пользовались в племенах уважением и почетом; и что птицы, обученные ими для ловли «вкусной габары [хубары, дрофы]», стоили дорого. Лучшими сокольничьими в землях Восточной Аравии сами жители этих мест считали и считают тех, кто принадлежит к племенам ал-мурра, бану йас и ал-рашайда. Хорошо обученный сокол добывает за день в сезон охоты 4–5 хубар, а «мастер» (есть и такие среди ловчих птиц) – 7–8, а порой – и того больше.
Самые распространенные в Катаре виды ловчих птиц из семейства соколиных – это кречет, сапсан, балабан и ястреб. «Хочешь насытить желудок, – говаривали в старину в племенах Катара, – заводи ястреба, а хочешь, чтобы и сердце к тому же пело – заводи сокола».
Первым в Аравии, кто использовал сокола для охоты, предания аравийцев называют шейха киндитов – ал-Хариса ибн Му’авийу ибн Саура ал-Кинди (и было это в IV в. н. э.). Страстным поклонником соколиной охоты своды «аравийской старины» именуют Хамзу, дядю Пророка Мухаммада.
Охотятся в Катаре с соколом в основном на дроф (хубар). Появляются они на Катарском полуострове в конце осени, из Ирана, куда прилетают из Центральной Азии. Сокола во время охоты держат на руке: либо на деревянном бруске, выточенном в виде гриба (ал-вакр), либо на длинном, до локтя, кожаном чехле цилиндрической формы.
В прошлом охота обеспечивала кочевника не только пищей, как повествуют сказания катарцев, но и помогала ему «оттачивать искусство пускания стрелы и натягивания тетивы». Иными словами, служила бедуину отличной тренировкой по совершенствованию навыков и сноровки владения луком.
Трофеи между охотниками распределяет старший среди них по возрасту. Если в охоте участвует шейх, то тогда это делает он.
Сокол в Катаре наших дней – это символ богатства. При перевозке сокола в самолете хозяин птицы приобретает для нее, а если их несколько, то для каждой из них, – отдельный билет.
Большую роль в жизни катарцев прошлого играл верблюд. По глубокому убеждению коренных жителей Аравии, верблюд – самое красивое животное на свете. В арабском языке слова «верблюд» и «красота» происходят от одного корня. «Счастье бедуина, – вещает древняя поговорка аравийцев, – шествует нога в ногу с верблюдом». «Каков верблюд, таков и хозяин», – вторит ей другая.
Богатство кочевника определялось в прошлом количеством имевшегося у него скота, и в первую очередь – лошадей и верблюдов. Обладание десятью верблюдами ставило бедуина «над чертой бедности», а шестьюдесятью и восемьюдесятью делало его «человеком состоятельным», писал в книге «Наш новый протекторат» (1884) член Палаты общин английского парламента МакКоан (6).
«Бедуин, – сказывали в старину арабы Аравии, – паразит верблюда». Действительно, мясо и молоко верблюда шли в пищу. Шерсть – на изготовление теплых накидок. Кожа – на шитье кожухов для воды и сбруи для домашних животных. Помет – на поддержание огня в очаге.
Верблюд – это твердая валюта Аравии дней ушедших. Верблюдами могли расплачиваться и при совершении торговых сделок, и при выкупе пленных, и при урегулировании вопросов, связанных с кровной местью, – в качестве платежа за пролитую кровь араба.
В племенах Аравии существовал обычай, по которому, воздавая почести доблестному воину, павшему на поле боя, или ушедшему из жизни человеку, щедрому и гостеприимному, верховым верблюдицам, принадлежавшим этим людям, в знак скорби по их хозяевам обрезали уши. Животное, подвергавшееся ритуалу «выражения печали», получало полную свободу. Могло беспрепятственно бродить повсюду, где и когда захочет. Использовать его, как бы то ни было, считалось поступком недостойным.
Рассказывают, что ал-Касву, любимую верблюдицу Пророка Мухаммада, погребли неподалеку от Каабы, и что быстроногому белому верблюду ал-Адхе, спасшему Посланника Аллаха от преследовавших Его курайшитов, «господ Меккии», не внявших вначале призыву Пророка Мухаммада уверовать в Бога Единого, Аллаха, и устроивших на Него травлю, Он прошептал на ухо сотое священное имя Аллаха. И имя это, кроме расы верблюжьей, сохранившей его в тайне, не ведомо на земле и по сей день больше никому. Этим, дескать, и объясняется такой горделивый вид и столь величавая поступь верблюдов Аравии.
Верблюд в Катаре и в наши дни в почете (здесь распространен одногорбый верблюд, драмодер). Он – участник традиционных и любимых катарцами верблюжьих бегов и верблюжьих фестивалей, на которых устраиваются конкурсы верблюжьей красоты (байрак). Верблюжьи бега – древний обычай аравийцев. Проходят они на специальном ипподроме в Эль-Шаханийе. Проводятся по пятницам (выходной день в Аравии), и только в прохладное время года; стартуют осенью. Вес наездника должен быть как можно меньше. До начала 2000-х годов жокеями выступали мальчики, а сегодня – специально сконструированные для этих целей роботы-погонщики. Роботизация верблюжьих бегов связана с жесткой критикой мировой общественностью практики использования детей в качестве жокеев. По подсчетам международных гуманитарных организаций, таковых в странах Аравии в начале 2000-х насчитывалось более 40 тыс. человек.
Беговые верблюды-призеры – это гордость их владельцев и стоящих за ними семейств, родов и кланов. По древнему обычаю шею верблюда-победителя бегов опрыскивают раствором шафрана, запах которого животное обожает, а владельцу верблюда-призера вручают крупную денежную премию, тысяч 40–50 американских долларов.
Гордостью катарца была и остается лошадь чистой арабской породы. Аравийцы называют ее «дочерью пустыни». Во все времена лошадь в племенах Катара, особенно с богатой родословной, являлась символом знатности и богатства, и даже атрибутом власти.
В прошлом самой желанной добычей у арабов Аравии во время набегов (газу) считались кобылицы (за ними шли верблюдицы). Особенно ценились лошади, чья родословная прослеживалась до пяти кобылиц, на которых ездил Пророк Мухаммад. Человек, даривший бедуину лошадь чистокровной арабской породы, становился его другом, писал знаменитый путешественник Зеетцен (посещал Аравию в 1809 г.), а дружба в Аравии дорогого стоит.
По законам аравийской пустыни пойманным конокрадам тут же, на месте, обрезали уши. По традиции, существовавшей в племенах Аравии, хвосты погибавших в боях лошадей, о которых аравийцы отзывались не иначе, как о «друзьях, потерянных в сражениях», отрубали и приторачивали к седлам – в память об их верности и преданности своим хозяевам.
В одной из легенд бедуинов Аравии говорится, что первая лошадь чистой арабской породы, по кличке Гаджман, явила себя роду людскому, спустившись на «Остров арабов» с небес. Когда Аллах задумал одарить аравийца товарищим верным в делах его мирских и ратных, то будто бы оповестил ветер о том, что хотел бы, чтобы именно от него, от ветра, и произошло такое существо дивное. Сказав это, взял Аллах «горсть самума», аравийского смерча, сметающего все на своем пути, и сотворил из него неведомое дотоле животное, грациозное и быстроногое. И сказал: «Имя тебе – лошадь, и порода твоя – арабская! Предназначение твое – служить верующим в меня людям!». Отсюда – и непоколебимая убежденность аравийца в том, что лошадь чистой арабской породы может быть родом только из Аравии, из земель «колыбели арабов» (7).
Итальянский предприниматель Карло Гуармани, посещавший Аравию в 1864 г. по делам, связанным с закупкой лошадей, делясь воспоминаниями об этой поездке, отмечал, что местами разведения «самого совершенного типа лошадей арабской породы» считались в его время Неджд и Джабаль Шаммар. И что породистые лошади из Аравии пользовались тогда в мире такой же известностью, как и йеменский кофе (8).
Первую лошадь в Аравии, как повествуют своды «аравийской старины», поймал и приручил Исма’ил, прародитель большинства племен Верхней Аравии. И была она, когда он ее изловил, на сносях; и вскоре понесла. И родила кобылку, ставшую, в свою очередь, матерью знатной кобылицы Ал-Кухайла ал-‘Аджуз, давшей начало 130 коленам арабских лошадей. Пять из них (кухайлан, убайан, саглави, хамдани и хабдан) считаются «лошадиной аристократией» Аравии, так как на кобылах из этих пород ездил Пророк Мухаммад (9).
Из сказаний арабов Древней Аравии следует, первым, кто стал разводить лошадей арабской породы на продажу, был легендарный ‘Аназа, родоначальник могущественного племени бану ‘аназа, сплотившего вокруг себя один из крупнейших и именитейших в Древней Аравии племенных союзов, внук Раби’а, потомок в 13 колене Исма’ила. Впоследствии, по сложившейся традиции, чистокровность лошади арабской породы было принято удостоверять у бедуинов-коневодов из племени бану ‘аназа; их решений по данному вопросу не оспаривал никто.
Кстати, родом из этого «благородного племени», из разных колен его, несколько правящих в монархиях Аравии династий: Аль Са’уд в Саудовской Аравии, Аль Сабах в Кувейте, Аль Халифа на Бахрейне и Аль Тани в Катаре.
Чистокровные лошади арабской породы с богатой родословной ценились и ценятся в Аравии очень высоко. В хадисах (рассказах) о Пророке Мухаммаде говорится, что Посланник Аллаха, будто бы, даже сказал однажды, что ничто так не вводит аравийца в бесконтрольное искушение, как желание стать обладателем красивой женщины и лошади благородных кровей; они-то и есть главные обольстители-искусители аравийца.
Со слов историков ислама, Пророк Мухаммад поощрял «турниры мусульман» в скачках на лошадях и благосклонно относился к верблюжьим бегам. Хроники свидетельствуют, что в одном из заездов на лошадях, проходивших в окрестностях Мадины (Медины), участвовал сын халифа ‘Умара. Его лошадь, завершив забег первой, никак не хотела останавливаться. И неслась в направлении города, закусив удила, пока не приблизилась к Мечети Пророка. Только там и остановилась, услышав азан, призыв мусульман к молитве.