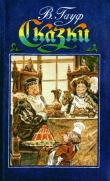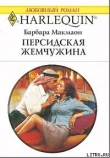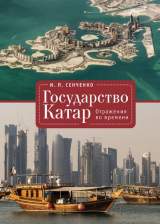
Текст книги "Государство Катар. Отражения во времени"
Автор книги: Игорь Сенченко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Бедуин – истинный рыцарь пустыни, – так отзывались о кочевнике все именитые путешественники-описатели Аравии. Он беззаветно предан своему роду и племени. Мерило богатства бедуина – количество имеющихся у него лошадей, верблюдов и другого домашнего скота. Гордость бедуина – его родословная, сказания и предания о подвигах предков. «Слава и позор наследуются прежде нищеты и богатства», – гласит бытующая и ныне в Аравии поговорка бедуинов.
Бедуин, говорится в информационно-справочных материалах дипломатов Российской империи, твердо держит данное им слово. Честь для него – превыше всего. Ценит он ее дороже жизни. Считает честь главной опорой «шатра жизни». Презирает слабость и безволие. Порицает скупость. Трусость и малодушие именует срамом. Самое грязное оскорбление для бедуина – это брошенное по его адресу слово «бахил», то есть скупец.
Самые лестные слова для бедуина, вспоминали российские дипломаты, – это «следопыт» и «рыцарь пустыни». Следопыт или «человек, познавший науку следа», в речи кочевников, – лицо в прошлом в племенах Аравии уважаемое. След на песке (если, согласитесь, таковой вообще можно назвать следом) – совсем не одно и то же, что след на земле. Обнаружить и «прочесть» след в пустыне непросто. В прежние времена только следопыт мог помочь разыскать в океане песка уведенных из племени во время набега (газу) верблюдов и лошадей (14).
Бедуины-следопыты, сопровождавшие торговые караваны, безошибочно выявляли по следам на песке, рассказывали такие известные исследователи Аравии как Иоганн Людвиг Буркхардт (1784–1817), Карстен Нибур (1723–1815), Луи дю Куре (1812–1867) и Джиффорд Пэлгрев (1826–1888), не только состав каравана или стада, но и «друг друга», то есть любое из кочевых племен Аравии. Все племена, живущие в аравийской пустыне, имеют, по словам бедуинов-следопытов, отличную друг от друга «походку», или «манеру передвижения». И опытному следопыту, сопровождающему караван или охотящемуся в пустыне на дроф и газелей, не составляет труда определить, кто и когда прошел в том или ином месте. По следу дромадера, или «рисунку его походки», бедуин-следопыт в состоянии высчитать расстояние, пройденное животным, и количество дней, проведенных им в пути (15).
По температуре песка бедуины-проводники довольно точно устанавливали время дня и ночи. Место нахождения каравана распознавали, как это не покажется странным, по «вкусу песка», касаясь его языком. Расстояние до источника просчитывали по тем или иным редко, но попадавшимся на пути растениям (16).
Располагаясь на отдых в пустыне, спали исключительно на спине, лицом вверх. Поворачиваться спиной к звездному небу, освещавшему по ночам «лампадой луны просторы океана песков» и помогавшему владельцам «кораблей пустыни» определять по звездам нужный маршрут, считалось среди аравийцев «поведением неблагодарным» по отношению к «дружелюбным небесам».
Согласно кодексу чести бедуинов Аравии прошлого, мужчине надлежало быть бесстрашным в бою с врагами; непреклонным в выполнении долга кровной мести; верным данному им слову; гостеприимным и щедрым; почтительным к старшим. Он должен был стойко переносить удары судьбы и заботиться о чести, как своей, так и его семьи, рода и племени. «Мужчина, – говорят и сегодня в племенах Катара, – наследует не только имущество своих предков, но и позор их и славу». «Никто не вечен в мире, все уйдет, – процитирует к месту умудренный жизнью пожилой коренной катарец крылатое изречение Саади. – Но вечно имя доброе живет».
Описывая бедуинов Катара, русские путешественники и дипломаты указывали на такую общую для них черту характера, как «благородное сочетание решимости и мужества, великодушия и чувства собственного достоинства». Правилом их повседневной жизни являлось строгое следование обычаям и традициям предков, а самым драгоценным в ней они считали честь и свободу. Особенно восхищало россиян «поистине рыцарское отношение бедуина к женщине», насмешка над которой любого из чужеземцев, приводила бедуина в ярость, и была чревата для насмешника печальными для него последствиями (17).
Честь и благородство, то есть лучшее, что есть у арабов Аравии, пришло к ним из пустыни, говорил хорошо знавший обычаи, традиции и нравы бедуинов знаменитый английский путешественник сэр Уилфред Тэсиджер.
Понятия долга и чести, писал в своем знаменитом сочинении «Земля и люди» Э. Реклю, у бедуинов Аравии чтутся свято. «Потерянные деньги найдутся, потерянная честь – никогда», – гласит поговорка племен «Острова арабов». «Бессмертен только тот, кто славу добрую при жизни обретет», – наставляют старейшины именитых семейно-родовых кланов Катара своих детей и внуков, ссылаясь на слова поэта и мыслителя Саади (ум. 1292).
Называя себя людьми пустыни, а пустыню своим Отечеством, бедуины-кочевники Аравии, будь то в Катаре или Кувейте, в Эмиратах или в Омане, свято чтут их первородную, как они выражаются, чистоту. Особенно, если история племени уходит корнями в седое прошлое, и рождением своим племя обязано «арабам чистым» или «арабам истинным», ведущим род свой от Кахтана, внука Сима, одного из сыновей Ноя. Согласно преданиям арабов Аравии, Кахтан стал родоначальником кочевых племен, или «людей шатров», а его брат Химйар – родоначальником оседлых арабов, «жителей стен». Символ кочевого уклада жизни арабов Аравии прошлого – шерсть, а оседлого – глина.
Яркий портрет бедуинов, сынов Аравии, оставил в своем «Отчете о командировке в Хиджаз» (1898) штабс-капитан Давлетшин (1861–1920), российский офицер. Характерная черта бедуинов Аравии, отмечал Давлетшин, – «любовь к свободе». Будучи зависим от своего племени, и только, без которого прожить в пустыне невозможно, бедуин ставит себя выше своих собратьев-аравийцев, живущих в городах. И главным образом потому, что «жители стен» стеснены в передвижении – границами их городов, обозначенных сторожевыми башнями.
Другими характерными чертами бедуинов Аравии, указывал Давлетшин, являются гостеприимство, которое чтится в племенах свято, а также чувство чести и верность данному слову (18). «Лучше гореть в огне, чем жить в позоре», – гласит одна из поговорок катарцев. «Позор – длиннее жизни», – заявляют бедуины. Клятва честью в Аравии, где бы то ни было, – священна и поныне. Нарушить ее – значит покрыть позором и себя, и свое потомство. Выказать сомнение по поводу искренности слов бедуина, клянущегося честью, – все равно, что оскорбить его.
Ложь, трусость и малодушие бедуин Аравии и сегодня считает «срамом», а скупость и предательство, в делах и в дружбе, – «мерзостью». «Ложь не живет долго, – говорят в Аравии, – и на лжи доверительных отношений не построишь». Об интригане и сплетнике аравийцы сказывают так: «Человек этот, как скорпион, укусит – и тут же спрячется».
«Мужчинами не рождаются, а становятся», – часто повторяют поговорку предков в беседах с сыновьями и внуками старейшины кланов именитых племен Катара. Настоящий мужчина, в их понимании, обязан защищать веру и Отечество, сторониться лести и клеветы, лености и злословия; питать отвращение ко лжи и гордыне; выказывать почтение родителям и старшим; «блюсти чистоту сердца, помыслов и поступков». «Начало поступков – это мысли человека, – поучает арабов Аравии их народная мудрость. – И потому к мыслям своим человеку нужно быть очень внимательным».
В былые времена, давая характеристики людям, бедуины зачастую сравнивали их с теми или иными явлениями природы. Человека щедрого, рассказывал в своем увлекательном очерке о быте арабов в эпоху Пророка Мухаммада известный российский востоковед М. Машанов, величали «дождевым облаком», а алчного и скупого называли самумом, знойным аравийским ветром, несущим с собой тучи раскаленного песка. Несбыточные помыслы и устремления человека находили схожими с миражами в пустыне. О человеке, не преуспевшем в своих расчетах и надеждах, говорили, что «он – не первый, кого обманул мираж»; а о планах и намерениях человека, заведомо для него несбыточных, – что они «обманчивее миража».
Бич аравийской пустыни – это песчаная буря, ветер с песком, раскаленным и обжигающим, как огонь. В речи аравийцев пустынный смерч фигурирует под словом «самум», смысл которого – «яд» (слово «самум» в переводе с арабского языка значит «отравляющий», «убивающий все живое»). Длится такой буран в Аравии обычно пять суток. Поэтому в народе его называют хамсином (слово «хамса» означает «пять»). Случается, что свирепствует пустынный аравийский ураган и 14 дней кряду, засыпая песком становища и лежащие на границе с пустыней села и города. «Если появится самум, – говорят бедуины, – не стой у него на пути, ибо сметет он тебя и засыпет». Особенность самума в том, что, передвигая с собой горы песка, между поверхностью земли и «песчаным покрывалом» над ней остается нетронутым небольшое пространство. Оно-то и становится убежищем и для человека, и для животного.
«Люди и животные – бренны, – глаголит и поныне бытующая в племенах Катара присказка предков, – а песок и время – вечны». Время, однако, тоже бежит, добавляют бедуины, и уходит, порой, бесследно. Песок же, струящийся сквозь пальцы, но хранящий на себе следы времени, остается. Потому-то символ времени в Аравии – это песок.
Катарцы беззаветно преданы своим племенам. Такова традиция. Племя – это фундамент жизни катарца прошлого и настоящего. ‘Амр ибн Камиа’, знаменитый поэт доисламской Аравии, писал, что «племя араба – это кулак, которым он отражает врагов своих, и опора, поддерживающая его в жизни». В случае экстремальных обстоятельств, затрагивавших интересы всех и каждого, будь то засухи или войны, племя, по выражению хронистов, «сжималось в кулак, дабы сообща одолеть и врага, и ненастье».
Племя, замечает Р. Хойленд, автор увлекательных очерков об арабах Аравии, их истории, обычаях и нравах, напоминает собой «китайскую шкатулку» или «русскую матрешку» – состоит из множества семейно-родовых и родоплеменных кланов. Обязанности у всех «составляющих частей» племени, этого универсального социального института Аравии (у семьи, клана, рода и колена), строго расписаны. Каждый в племени знает, что ему надлежит делать и как поступать в той или иной ситуации (19).
Человек вне племени, то есть вне его защиты и покровительства, гласит один из чтимых арабами Аравии заветов предков, становится изгоем (хали), и «следы его на земле теряются». В наши дни межплеменная борьба в Аравии приобрела новые формы. Объектами схваток племен выступают уже не пастбища и колодцы, как прежде, а сферы политики, общественной жизни, экономики и торговли. Вне родовых и племенных структур добиться сколько-нибудь заметного положения в обществе, в государственных компаниях и в институтах власти, в министерствах и ведомствах, коренной катарец определенно не может. Этим и объясняется то, что почитание властей в лице старейшин родов, шейхов племен и эмиров из семейства Аль Тани, у коренного катарца – в крови; он впитывает его с молоком матери. Как и прежде, в почете у катарца и сегодня – сила, но не оружия, как в былые времена, а ума. «Слабость ума», то есть необразованность, у нынешнего поколения катарцев есть признак дурного тона.
«Человек, лишенный разума, – решето, человек ничтожный, – поучает сегодняшнее поколение катарцев одна из заповедей их далеких предков, – а наделенный разумом и знаниями – солнечный диск; и решетом, как известно, солнечный диск не закрыть». Величайшее богатство человека, утверждает народная мудрость арабов Аравии, – это знания и опыт, которые приобретаются в течение всей жизни; и поэтому «язык знаний и опыта жизни – самый убедительный». «Удача и успех тесно связаны друг с другом, – говорят хорошо знающие свое дело именитые бизнесмены Катара, – но основа любого успеха – это, все же, знания и опыт».
С ранних лет детей в семьях коренных катарцев учат блюсти честь и быть правдивыми с соплеменниками. «Правда блещет, ложь заикается», – повторяют к месту аксакалы-катарцы присказку предков. И добавляют: «Чем лгать и кривить душой, лучше хранить молчание».
Истинному мусульманину, наставляют своих потомков главы катарских семейств, надлежит вести образ жизни достойный, совершать предписанные Кораном дела добрые и отстраняться от дел злых, порочащих честь и достоинство.
Во главе каждого племени стоит шейх, живое олицетворение мураввы, человек, наделенный лучшими качествами араба Аравии. Слово шейха в племени – закон. Будучи непререкаемым никем авторитетом, решения по сколько-нибудь важным для племени вопросам шейх, вместе с тем, принимает только на основании результатов их обсуждения с главами семейно-родовых кланов и «седобородыми», то есть со старейшинами племени. При судебных разбирательствах шейх в прошлом опирался на советы ‘арифов, то есть знатоков обычаев аравийской пустыни и родословных семейно-родовых кланов племени. Если соплеменник не соглашался с решением, озвученным шейхом, то должен был покинуть племя.
«Шейх – это отец своего народа, образец щедрости и мудрости», – ответит коренной катарец на соответствующий вопрос иноземца. Он тот, – к кому обращаются за советом и помощью, тот, «не приказам кого повинуются, а примеру кого следуют», человек с «крепким умом». Качества, высоко ценимые катарцами в своих вождях и правителях, шейхах и эмирах, – это разум и справедливость, щедрость и великодушие. «Главные привилегии шейха, – скажет катарец, – заключаются в том, чтобы мудро управлять племенем; искусно вести переговоры с властями, отстаивая интересы племени; гостеприимно, по обычаям предков, принимать знатных заезжих чужеземцев и облегчать участь нуждающихся соплеменников». «Государство процветает при щедрости правителя, – гласит народная мудрость арабов Аравии, – благоденствует при его правосудии, и твердо стоит на ногах при его уме».
В том месте, где шейх кочевого племени сходил со своего верблюда, снимал с него седло и давал распоряжение установить шатер, – там в прошлом и разбивали при перекочевках новое становище. Вслед за шейхом ставили шатры семейно-родовое кланы. Метрах в двухстах друг от друга, если поверхность вокруг была холмистой; если же ровной, – то на расстоянии метров четырехсот. Но это – весной. Летом же шатры располагались буквально бок о бок, в шаговой доступности от источника воды. Шатер шейха, обязанность которого состояла в том, чтобы «противостоять одним и оказывать прием другим», всегда находился с той стороны стана, откуда, по мнению кочевников, больше всего можно было ожидать «появления врага или прибытия гостя».
Шерстяная ткань бедуинского шатра в Аравии – черного, как правило, цвета. Ткут ее только из козьей или овечьей шерсти, но никак не из верблюжьей (она у кочевников идет на изготовление одежд). Свои жилища сами бедуины называют «шатрами Кедара», «отца кочевников» Верхней Аравии, одного из 12 сыновей Исма’ила, прародителя племен Северной Аравии. Могучий Нибайджус, первый сын Исма’ила, повествуют предания аравийцев, обосновался сначала с семейством своим в пещерах, в которых проживали прежде «арабы потерянные», автохтоны Аравии, одни из первых ее обитателей из легендарного племени самуд. Затем построил, в ближайших к пещерам землям, каменные дома и заложил поселения. Брат же его, Кедар, «рожденный после него», отодвинулся с семейством своим в пустыню, и дал начало племенам кочевников. И сегодня катарец, упоминая в разговоре о чем-либо темного цвета, грозового облака, к примеру, над головой, может сказать, что оно «такое же темное, как шатры Кедара».
Оседлое население (хадар) Катара в донефтяные времена жительствовало в городах и поселениях вдоль побережья, в основном в восточной его части. Занималось «жемчужной охотой», рыбной ловлей, торговлей и морским извозом. Крупнейшими поселениями являлись Эль-Бида’а, Эль-Вакра, Фувайрит, Захира и Хор Шакик. На западной части побережья, кроме Зубары, располагались еще три поселения – Абу Залуф, Хадийа и Хор Хассан, с суммарной численностью населения (1908 г.) 800 человек. Стояли они у источников воды. В Катаре в 1908 г. проживало 27 000 человек; 3 % от него составляли жители западного побережья.
Арабские историки считают, что название Катарского полуострова и заложенного на нем удела, трансформировавшегося со временем в Государство Катар, происходит от наименованя существовавшего там в глубокой древности селения Кутару (слово «кутр» в преводе с арабского языка значит «страна»).
Английский капитан Джордж Брукс, занимавшийся в 18231824 гг. топографией побережья Катарского полуострова, указывал в отчете о командировке, что дома прибрежные катарцы, в частности в Эль-Вакре и Эль-Бида’а, строили из коралловых блоков и глины. В Эль-Бида’а жительствовали арабы из племен бану на’им, ал-давасир и ал-бу-кувара. В сезон жемчужной ловли туда приходило – для участия в «жемчужной охоте» – племя ал-манасир.
По сведениям, собранным майором Колбруком, посещавшим Катар в 1820 г. (именует его в своем рапорте Гаттаром), население Эль-Бида’а насчитывало 900-1000 человек.
В Эль-Хувайле, рассказывает капитан Джордж Брукс, городе более древнем, чем Эль-Бида’а, проживало около 450 жителей (1923–1924 гг.), представленных в основном членами племени ал-бу-кувара. В сезон «жемчужной охоты» Эль-Хувайла становилась одним из центров торговли Катара.
Все побережные города управлялись шейхами доминировавших среди их населения племен.
Доха (Ад-Давха) – одно из ранних поселений Катарского полуострова (смысл названия – «поселение, тянущееся вдоль побережья). В описании английских лейтенантов Констэбла и Стиффа, бывавших в Катаре в 1857 г., Доха предстает уже довольно крупным, по меркам Восточной Аравии тех лет, городом, поглотившим Эль-Бида’а, который сделался одним из кварталов Дохи. Город этот, по их воспоминаниям, растянувшийся вдоль побережье на расстояние в 800 ярдов, был частично обнесен защитной стеной с несколькими сторожевыми башнями. Резиденция шейха («дом власти» в речи катарцев) находилась в большой круглой башне, возведенной в центре города, с поднятым над ней знаменем. Неподалеку от этой башни лежала небольшая бухта, где ремонтировали суда. В Эль-Бида’а имелся форт и две дозорно-сторожевых башни (одна из них – у колодца с водой). Численность население Дохи (вместе с Эль-Бида’а и Малой Дохой, то есть пригородом) не превышала 5000 человек (в 1979 г., для сравнения, – 180 000 человек), а Эль-Вакры – не менее 1000 человек (20).
Из хроник Катара следует, что к 1930-м годам 20 % оседлого населения Катара составляли иранцы. Были среди оседлых жителей и арабы, обитавшие на Персидском побережье Залива, но вернувшиеся затем на Аравийский полуостров (арабы Аравии именовали их словом «хувала»).
Значительная часть оседлого населения до Второй мировой войны приходилась на негров, потомков рабов, завезенных из Восточной Африки. Зарабатывали они на жизнь, участвуя в жемчужной ловле (трудились ныряльщиками). В 1939 г. в Дохе и Эль-Вакре насчитывалось 2000 отпущенных на свободу чернокожих рабов, а все еще остававшихся в рабстве – 4000 человек.
Крупными местами занятости городского населения Катара в прошлом выступали порты и рынки. Погрузка и разгрузка судов велась вручную. Артели портовых грузчиков, лодочников, перевозчиков грузов по городу (на ослах и мулах) и разносчиков воды играли важную роль в повседневной жизни прибрежных городов.
День в жилище горожанина-катарца начинался с того, что женщина с помощью небольшой ручной мельницы молола хлебные зерно и толкла в ступке кофейные зерна, чтобы испечь к завтраку лепешки и сварить кофе. Поэтому ручная мельница и кофейная ступка считались у катарцев-горожан символами семейного очага. Воровство этих предметов строго каралось – отсечением руки. Когда кто-то из жителей того или иного квартала в городе говорил, что «ручная мельница соседа молчит», это означало, что человек попал в беду, что «нет в его доме ни зерна, ни хлеба». И настало время оказать горемыке помощь.
Центр жизни любого из катарских городов прошлого – это рынок. Древнейший и самый именитый из них в Катаре – это Сук Вакиф (переводится с арабского языка, как место, где останавливаются, чтобы поторговать). Расположен он в центре Дохи, вблизи дворца эмира. В давние времена туда стекались кочевники, торговали мясом, молоком и шерстью. Со временем там вырос огромный рынок, один из самых оживленных на северо-восточном побережье Аравии. В наши дни Сук Вакиф, как магнитом, притягивает к себе туристов. Это – обитель старинных уютных кофеен, парфюмерных и ювелирных лавок, и мастерских по росписи хной. Здесь продают ловчих птиц. И только в этом месте можно встретить конных патрульных, стражей рынка, с патронташами, переброшенными через плечи, и мечами, пристегнутыми к седлам. Действует здесь и знаменитый мужской клуб – Маджлис ад-дам (Клуб единокровных), где катарцы, общаясь друг с другом, попивают чай и играют в шашки. И все, заметим, бесплатно. Клуб содержит шейх.
По воспоминаниям путешественников, рынки, где бы то ни было в Аравии, чутко реагировали не только на потребности покупателей, но и на их привычки. Являлись в прошлом чуть ли не единственным местом времяпрепровождения катарцев. Там можно было сделать все необходимые покупки и поторговаться, то есть «показать себя», как говаривали в старину арабы Аравии. Послушать сказания и предания о легендарных племенах, воинах и поэтах Аравии, об удачливых торговцах и выбившихся в люди ловцах жемчуга из уст профессиональных рассказчиков в «домах кофе».
Маленькие и уютные кофеюшки на узких улочках старых кварталов и рынках городов Катара – и по сей день излюбленные места встреч и бесед коренных пожилых катарцев. Старики любят посидеть и поболтать в них о том времени, когда «такой сытности, – по их выражению, – как в наше время не существовало и в помине; зато свято чтили верность данному слову и царила чистота нравов».
Аравийки, оказывавшиеся на рынке, делились своими наблюдениями путешественники, шли вначале туда, где стояли лавки-мастерские парфюмеров и золотых дел мастеров. И уже оттуда, «порадовав глаза» ювелирными изделиями и «покрыв одежды дымами воскуренных в лавках благовоний», отправлялись в те места, где торговали нужными для той или иной из них товарами.
На рынках трудились цирюльники, «почтальоны новостей» или «живые газеты Аравии», как в шутку отзывались о них негоцианты-европейцы. К каждому своему клиенту цирюльник подходил как к возможному источнику свежих новостей. Собираемые и пересказываемые им новости, переходя из уст в уста, быстро распространялись по городу. Чужеземцев, что интересно, рыночные стригуны обслуживали бесплатно. Просили лишь взамен, чтобы они поделились с ними во время стрижки тем, что видели и слышали в местах, где бывали по пути в их город.
Непременно стоит побывать в Зубаре, что на северо-западной оконечности полуострова, и посетить тамошний легендарный форт, с именем которого связаны многие страницы в истории Катара.
Немалый интерес представляет и местечко Умм-Салал-‘Али, что в 40 километрах от Дохи. Здесь много насыпных песчаных курганов, часть которых датируется III столетием до нашей эры. Ученые полагают, что это – захоронения «арабов первородных», автохтонов Аравии, отодвинувшихся в седом прошлом из Йемена через территории современных Омана, ОАЭ и Катара в земли Неджда.
Самый престижный район Дохи, столицы Катара, расположен на ее окраине – у насыпанного там острова «Жемчужина Катара» (Pearl Qatar). Неподалеку от него строят новый город Лусаил, рассчитанный на 450 тыс. человек (стоимость проекта – 45 млрд. долл. США).
Торговля и традиционные промыселы катарцев
В прошлом жизнедеятельность Катара базировалась, как отмечал Джон Гордон Лоример, на морских промыслах, морской торговле, скотоводстве (в основном верблюдоводстве) и традиционных ремеслах. Главными «кормилицами» оседлого населения в 1908 г. выступали, по его словам, рыбная ловля и жемчужный промысел. Сельского хозяйства как такового не существовало. Имелись небольшие финиковые сады и огороды в городах и поселениях. Продукты завозили из Индии и из Басры; финики – из Эль-Хасы; одежду и дерево для строительства судов – из Индии. В Катаре тогда проживало, по его подсчетам, 27 000 человек, представленных племенами ал-ма’адид, ал-бу-‘айнайн, ал-ибн-‘али, ал-бу-кувара, ал-му– ханнади, ал-кубайсат, ал-давасир, ал-манай, ал-сулайси и персами (21).
Жемчужный промысел в Персидском заливе, в который было активно вовлечено прибрежное население Катара, насчитывает более 7000 лет; начало его арабские историки относят к каменному веку.
Жемчуг, сообщает знаменитый арабский географ Мухаммад ал-Идриси (1100–1165), в понимании арабов Аравии, – это одно из сокровищ природы, символ немеркнущей красоты и изысканной элегантности. Среди народов Древней Аравии бытовало поверье, что жемчуг – это «слезы жителей Рая», падающие с небес на землю.
«Все мы, арабы Залива, от простолюдина до человека знатного, – рабы одного господина, жемчуга», – так отзывался о месте жемчуга в жизни прибрежных аравийцев в беседе со знаменитым исследователем-портретистом Аравии Дж. Пэлгревом (1862) шейх Мухаммад ибн Аль Тани, правитель Катара.
Впервые жемчуг в бассейне Персидского залива люди обнаружили у берегов Дильмуна (Бахрейна), занимаясь рыбной ловлей. И он сделался у дильмунцев, а потом и у других народов Прибрежной Аравии, атрибутом культовых обрядов и талисманом-оберегом любви и счастья. Древние аравийцы верили в то, что жемчуг облегчает женщинам роды, дарует счастье в браке, оберегает семьи и сохраняет любовь мужчины к женщине. И поныне жемчуг у аравийцев – это талисман прочных супружеских отношений (ожерелье из жемчуга – традиционный подарок жениха невесте на свадьбу), символ добрых помыслов и намерений. Древние аравийцы приносили его в дар богам.
Жемчуг, рассказывают потомственные торговцы перлами, любит свои первых хозяев. И, «расставаясь с ними», попадая в другие руки, «горюет, стареет и умирает», то есть теряет блеск и темнеет. Среди катарцев и других жителей Прибрежной Аравии до сих пор бытует поверье, что жемчуг обладает свойствами «наделять человека, носящего его на себе, терпением и способностью отвращать разум от злых помыслов и дурных поступков».
Воины-аравийцы инкрустировали жемчугом рукоятки мечей и кинжалов, вшивали их в игалы (обручи для удержания головных платков) и кожаные шлемы, веруя в то, что жемчужины уберегут их от ранений и «даруют радость победы».
В клинописных табличках шумеров, датируемых 2300 г. до н. э., жемчуг, поступавший в Шумер с Дильмуна, именуется «рыбьим глазом» или «камнем счастья».
Выловленный жемчуг (сезон «жемчужной охоты» продолжался с мая по сентябрь) катарцы вывозили на Бахрейн, в Линге и в Бомбей. По подсчетам Дж. Лоримера, в 1908 г. в жемчужной ловле участвовали 12 890 катарцев, или 48 % тогдашнего населения полуострова, численностью в 27 000 человек. С Бахрейна, для сравнения, где жительствовало в то время 99 075 человек, на «жемчужную охоту» вышло 17 633 чел., то есть 18 % населения; из Кувейта – 25 % и из шейхств Договорного побережья (нынешних ОАЭ) – 31 % населения (22). Принимая во внимание, что половину жителей Катара составляли мужчины, получается, что в 1908 г. в жемчужном сезонном промысле было занято все мужское население полуострова.
По сведениям, приводимым российским дипломатом-востоковедом А. Адамовым в его сочинении «Бассорский вилайет в его прошлом и настоящем» (1912), в сезон жемчужной ловли в воды Залива отправлялось до 4,5 тысяч судов, с экипажами общей численностью не менее 30 000 человек. «Из этого числа на долю Кувейта, Эль-Катара и Эль-Катифа приходилось не менее 1000 судов» (23).
В начале XX столетия в сезонной ловле жемчуга в Персидском заливе, вспоминал английский политический агент в Кувейте Х. Диксон, автор интереснейших книг об обычаях и нравах арабов Аравии, их промыслах и ремеслах, принимали участие примерно пять тысяч парусников (24). Крупные «жемчужные флотилии» формировались в портах Бахрейна, Кувейта, Катара и шейхств Договорного Омана (нынешние ОАЭ). В 1905 г. в «жемчужной охоте» было занято 3411 парусников из всех шейхств Прибрежной Аравии, с суммарной численностью экипажей в 64 390 человек. В 1915 г. «жемчужный флот» Катара насчитывал 350 парусников (Бахрейна, для сравнения, – 900; Кувейта – 461; Дубая – 335, Шарджи – 200) (25).
Главными племенами Катара, занимавшимися ловлей жемчуга и его торговлей, арабский историк Хабибур Рахман, автор информативного сочинения о становлении Государства Катара, называет следующие: ал-ма’адид (семейство Аль Тани), ал-мусаллам, ал-ибн– ‘али, ал-бу-кувара, ал-бу-‘айнайн, ал-манай и ал-мурайхи (26).
«Жемчужные флотилии» Бахрейна, Кувейта, Катара, Абу-Даби и других шейхств Прибрежной Аравии «охотились» на жемчуг буквально бок о бок. Исстари повелось так, что жемчужные отмели в прибрежных водах Аравии, числом порядка 217-ти, считались общим достоянием племен и народов «Острова арабов». Полковник Льюис Пелли, английский резидент в Персидском заливе, в своих заметках о портах этого залива (1864) писал, что жемчужные отмели вдоль Аравийского побережья арабы Аравии издревле считали своей собственностью. И вторжение «чужаков» в их «жемчужный удел» вызывал у них серьезное недовольство, чреватое для тех, кто решался на такой поступок, печальными последствиями.
Две первых карты жемчужных отмелей Персидского залива появились только в XX столетии. Одну из них составил, в 1935 г., Хамид ал-Буста, известный среди арабов Прибрежной Аравии капитан и лоцман. Другую подготовил, в 1940 г., шейх Мани ибн Рашид Аль Мактум, двоюродный брат тогдашнего правителя Дубая.
Основной или «большой лов» в речи арабов Прибрежной Аравии (ал-гавс ал-кабир) длился с июня по сентябрь. День его начала определял лично правитель каждого из шейхств – после обсуждения данного вопроса с советом старейшин. Население об этой дате оповещали глашатаи и вывешенные на рынках объявления. Помимо «большого лова», практиковались еще «малый» или «холодный лов» (ал-гавс ал-барид, с апреля по май), и «лов сумасшедших» (ал-гавс ал-муджаин, с октября по март), на который в прохладное время года в Аравии решались немногие. Отсюда – такое название. Он, к слову, никакими налогами не облагался.
Парусники, выходившие на «жемчужную охоту», покидали порты и возвращались в них только в строго определенное время. Устанавливал его «адмирал [сирдал] жемчужной флотилии». В каждом из шейхств таковым выступал один из самых именитых и маститых капитанов, досконально знавших воды Залива, отмели и мели. Назначали «адмиралов» шейхи племен, правители шейхств и городов (с одобрения совета старейшин), на территориях которых располагались порты и гавани приписок «жемчужных флотилий».