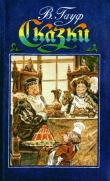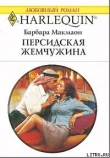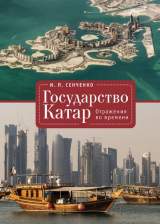
Текст книги "Государство Катар. Отражения во времени"
Автор книги: Игорь Сенченко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
У арабов Аравии свои стандарты, если так можно сказать, достоинств и недостатков мужчины. Согласно «кодексу чести предков», высоко чтимому среди коренных катарцев, достойный мужчина – это «человек слова и чести», человек гостеприимный, благородный и щедрый, «умеющий переносить удары судьбы». Достойная женщина – это примерная жена, хозяйка и хранительница домашнего очага, любящая и заботливая мать (3).
Катарцы говорят, что наследуют не только имущество и капиталы своих предков, но и память о них соплеменников. Отсюда – и их подчеркнуто внимательное отношение к своим родословным.
Характерная черта старшего поколения арабов Аравии, и автор этой книги тому свидетель, – верность данному слову, соблюдение договоров и взятых на себя обязательств.
Катарцы очень внимательны и щепетильны в том, что касается долгов. «Долги не красят человека, чернят его честь и достоинство», – гласит один чтимых ими постулатов-наставлений предков. Взятое в долг или позаимствованное на время, что бы то ни было, надо возвращать, обязательно и сполна. Ведь заимствования скрепляются словом, а «слово – дороже денег»; держать его надлежит непременно. «Долг пятнает человека», – поучал мусульман Пророк Мухаммад. «Долг, – как сказывали в старину аравийцы, – это знамя позора на плече мужчины».
Согласно традиции предков, закрепленной шариатом (исламским правом), если кредитор умирает, то долг свой должник возвращает путем раздачи его людям бедным и нуждающимся в их общине (умме).
Скверный грех для араба Аравии – воровство. Среди коренных катарцов оно – явление редкое. По традиции предков, воровство ложится позором не только на лицо, уличенное в нем, но и на весь его род и все его племя.
Воровство в Аравии вообще и в Катаре в частности во все времена каралось сурово. Строжайше в прошлом запрещалось в племенах Аравии «посягать на чужое оружие, за исключением оружия противника, поверженного на поле боя». За выкрадывание оружия крадуну в старину выбривали или выщипывали (полностью или частично) бороду. Делали это в течение месяца, каждую пятницу, прилюдно, в местах массового скопления людей – на рынках. Дело в том, что «надругательство над бородой» мужчины считалось у арабов Аравии величайшим позором. «Посмеяться над бородой араба – значит оскорбить его», – сказывают своды «аравийской старины». У вождей неприятельских племен, попадавших в плен, с корнем выщипывали и бороду, и брови. Кисти рук, отрубленные у крадунов, вспоминал путешественник Уильям Сибрук, привязывали к шестам и выставляли на рыночных площадях – в напоминание жителям городов и их гостям, что воровство – сквернейший из грехов человека.
Мелкого воришку, пойманного на умыкании продуктов в лавке, сначала секли плетью, а потом выставляли в «месте позора» на рыночной площади, «посадив на цепь», как собаку. И любой посетитель рынка, проходивший мимо, мог оплевать его, если хотел. «Оплеванного», или «грязного человека», в речи аравийцев, из города изгоняли. Из таких вот людей, пишет в своих очерках об Аравии леди Блант, известная путешественница, и сбивались, случалось, воровские шайки.
Вора, уличенного в серьезных кражах, особенно в «выкрадывании имущества в домах у своих», то есть у коренных жителей, карали отсечением правой руки. Избежать такого наказания можно было, заплатив штраф – «в размере пяти верблюдов» (4).
А вот с нечестными торговцами поступали так – навсегда изгоняли с рынков, где они торговали. Имущество их распродавали, а деньги, вырученные за него, пускали на нужды мусульманской общины (уммы). Торговец, «очернивший лицо города» и «надругавшийся над честью рынка», как тогда говорили, наплевавший на законы предков, согласно которым обвешивать покупателя и задирать цены – это грех, делался изгоем торгового сообщества не только Катара, но и всей Аравии. Молва о нем, как о «хищнике», нечистом на руку человеке, облетала всю Аравию. И торговец, отлученный от своей гильдии, заканчивал жизнь на чужбине. В родных землях на ведение дел с ним накладывалось строжайшее табу. Имена таких людей заносили в «черные списки». Попав в них, торговец-мошенник вынужден был бежать в «чужие земли», зачастую – в Месопотамию и Аш-Шам (Сирию и Палестину), или даже в Магриб.
Характерными отличительными чертами коренных катарцев можно смело назвать семейно-родовое единство, родоплеменную солидарность и гостеприимство. Для катарца гостеприимство – одно из незыблемых и высоко чтимых правил жизни, унаследованных от предков.
Законы и правила жизни в пустыне, отмечал в своих информационно-справочных материалах русский дипломат-востоковед А. Адамов, «вменяют каждому бедуину в священную обязанность приютить и накормить странника, притом совершенно безвозмездно». Обидеть путника, ставшего «гостем шатра» бедуина, считается среди кочевников поведением недостойным, «чернящим лицо» рода и племени (5).
«Гостю – лучшее», – гласит поговорка арабов Аравии. «Гость – хозяин шатра, принявшего его», – вторит ей пословица бедуинов. «Гость есть гость, даже если он задержится у тебя на зиму, а потом останется и до лета», – сказывают в племенах Аравии и поныне.
В прошлом, согласно правилам поведения в аравийской пустыне, человек мог находиться в «принявшем его шатре» – без разъяснения причин своего появления на становище – «три дня, три ночи и еще треть дня». В это время никто никаких вопросов ему не задавал. И только по истечении указанного срока хозяин шатра мог поинтересоваться у путника, «кто он и куда держит путь». Но и это делал нечасто. Многое о пришельце в былые времена сообщали клеймо на теле его верблюда, форма кинжала и рисунок на ножнах, то есть отличительные метки (васмы) племен Аравии.
Когда «гостем шатра» бедуина в той иной из монархических стран Аравии становится правитель, то в его честь непременно забивают верблюда. Таков обычай. Прощаясь с хозяином жилища, шейх дарит ему подарок; чаще всего – охотничье ружье. Бедуины, что интересно, называют такой подарок словом «кисва», как и покрывало для Каабы.
Посещая Катар и будучи званым в гости к коренному катарцу, принять приглашение надлежит непременно. Отказ «стать гостем дома» считается там поведением недостойным, более того, – знаком крайнего неуважения к человеку. Для катарца такой отказ – это позор, и другого приглашения, знайте, уже не будет, как не будет у оскорбленного катарца и никаких отношений с таким человеком.
Поэзия племен Древней Аравии, отмечали известные исследователи «Острова арабов», – это зеркало времен, в котором хорошо отразилась жизнь аравийцев их седого прошлого. Много говорится в стихах поэтов Древней Аравии о «подвигах щедрости» и «витязях гостеприимства». Имя торговца Хатима ал-Таййи (ум. 687) фигурирует в них чаще других. Сохранилось оно и в коллективной памяти арабов Аравии – вошло в их предания и поговорки. «Щедрее Хатима!», – скажет и сегодня коренной житель Аравии, буть то в Катаре или где-либо еще, о соотечественнике добросердечном и отзывчивом. По адресу же человека скупого заметит, что «он и пустыня – близнецы-братья».
Хатим, как гласят сказания, истратил на помощь нуждавшимся людям все свое состояние. Передвигаясь по пустыне, устраивал привалы на песчаных холмах, дабы огонь разожженного костра, будучи виден в ночи далеко вокруг, зазывал к нему в гости всех других путников, которые волею случая оказывались в тех местах.
Хатим, если верить народной молве, был торговцем знатным, и слыл человеком щедрым и отзывчивым. Являлся этаким образцом-эталоном лучших черт аравийца своего времени. Всем его начинаниям непременно сопутствовали успех и удача. «Лучше умереть, чем прослыть скупцом», – говаривал он в кругу друзей.
И делал все, чтобы его не прозвали таковым. Имя этого человека на слуху в Аравии и поныне.
Каждый из бедуинов Аравии, сообщают историки прошлого, страстно желал стать «участником ярмарки славных дел», то есть попасть в свод преданий и сказаний аравийцев о «подвигах щедрости, благотворительности и гостеприимства».
Отправляясь в гости к катарцу, следует знать, что входить в его дом надлежит непременно разутым, оставив обувь у входных дверей. Проследовать в дом в обуви – значит оскорбить хозяина жилища. Заметив удивленный взгляд-реакцию чужеземца на снятие сандалий у порога дома, катарец скажет: «У каждого дерева – своя тень, у каждого народа – свои обычаи». Не скинув башмаки, рассказывали русские купцы, хаживавшие в Аравию за жемчугом и кофе, ступать в горницу там не полагалось. Обувь ставили у дверей. И потому, где она располагалась у порога при входе в дом, в котором собирались гости, можно было довольно точно определить положение каждого из гостей в племенной общине. Мужчины и женщины знатных семейно-родовых кланов снимали обувь прямо у порога, чтобы, переступив через него, сразу же шагнуть на ковер, разостланный на полу. Остальные оставляли ее справа и слева от порога, и опять-таки – на расстоянии в соответствии с местом и ролью их клана в роду и в племени.
Аравия, делились своими впечатлениями о ней известные путешественники-портретисты «Острова арабов», – это земля, где зачастую поступают не так, как в Европе, а с точностью наоборот. Входя в жилище, европеец снимает головной убор, а аравиец – обувь. В Европе читают и пишут слева направо, в Аравии – справа налево. В Европе едят, сидя за столом, с ножом и вилкой в руках, в Аравии – на полу, с помощью трех пальцев правой руки, главного «столового прибора аравийцев». В Европе говорят: «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»; в Аравии, напротив, считают, что «не стоит заниматься сегодня тем, что можно сделать завтра». Если в Европе знакомятся с соседями после того, как обустроятся на новом месте, то в Аравии, опять-таки, все наоборот: сначала знакомятся с людьми, которые могут стать соседями, и лишь потом, и только в том случае, если сходятся с ними, – селятся рядом.
Находясь в Катаре, полезно знать, что коренной катарец, как и любой другой аравиеец, по характеру своему весьма и весьма расчетлив, даже в мелочах. И если он приглашает чужеземца к себе в дом, в гости, то определенно в нем заинтересован.
Отправляясь на деловую встречу или в гости к катарцу, надлежит быть «опрятным», притом и в одежде, и в выражениях. Небрежный внешний вид и развязная речь могут негативно отразиться на мнении катарца о чужеземце. В монархиях Аравии, как нигде в других странах мира, человека, действительно, «встречают по одежке, а провожают по уму». Оказавшись в офисе предпринимателя-катарца, следует сразу же обменяться с ним визитными карточками. Вручать «визитку» надо только правой рукой.
Беседуя с арабом Аравии нужно помнить, что отзываться плохо, о ком бы то ни было конкретно, в разговоре с ним не стоит. Араб тут же занесет такого «чернителя» в список лиц, вести откровенные беседы с которым, чтобы не стать объектом его насмешек в беседах с другими, он сочтет для себя небезопасным.
Во время беседы важно не только что сказать, но и как сказать. Нужно быть немногословным, но «яркословным». Мысли формулировать четко. Многословие, иными словами болтливость, ассоциируется у арабов Аравии с несерьезностью. А вот краткая и содержательная речь – как «признак ума». «Речь человека – зеркало его ума и знаний»; «Пустая речь, что ветер в пустыне; умная речь – вожделенный оазис», – гласит народная мудрость аравийцев.
Основное правило во время деловой встречи – говорить по существу, кратко и ясно, не пустословить и не лицемерить. Болтливость арабы Аравии именуют «болезнью языка», которой особенно подвержены, по их мнению, женщины. Речь желательно препровождать пословицами и поговорками, которые аравийцы называют «солью речи» и «букетом речи». И по-достоинству, поверьте, оценят вынутый к месту любой из «цветков» из этого «букета». «Нет лучшего богатства, чем ум, – сказывал чтимый в Катаре «праведный» халиф ‘Али, – и нет худшей нищеты, чем невежество». «Когда говоришь, – наставляет арабов Аравии одно из мудрых присловий их предков, – то слова должны быть лучше молчания». «Помни, – поучают своих внуков умудренные жизнью главы семейно-родовых кланов Катара, – язык без костей, но бьет больно». Будь аккуратен в словах и выражениях. Не забывай, что «язык у человека мал, – как говаривал Омар Хайам, – но сколько жизней он сломал».
Отношение к слову в Аравии, и это следует знать, – подчеркнуто внимательное. Разговаривая, слова там тщательно «взвешивают и просеивают». В Древней Аравии «поединками слова» предварялись «схватки на мечах». «Язык, что секущий меч; слово, что пронзающая стрела», – поучает аравийцев мудрость их предков. Помни, что «слово, которое ты не сказал, – это твой раб. Но слово, сказанное тобой, становится твоим господином».
Катарцы с глубоким уважением относятся к людям, знающим их язык, обычаи и историю. И это – именно тот инструмент, который и поможет выстроить «мост взаимопонимания» между коренным аравийцем и чужеземцем.
Находясь в Катаре и отправляясь в гости или на встречу в офис к катарцу, тем более к человеку знатному, шейху племени или главе именитого клана, нужно знать и правильно употреблять в речи звания и титулы. В Аравии вообще и в Катаре в частности – это очень важно. Положению человека в родоплеменной иерархии, равно как и его статусу в структуре государственной власти, катарцы придают исключительно большое внимание. Совет коренного жителя, дабы не попасть впросак, здесь будет к месту.
Многие катарцы совмещают работу в госучреждениях с ведением бизнеса; занимаются им в вечернее время. Не удивляйтесь поэтому, если деловая встреча состоится часов, этак, в семь или в восемь вечера. Следует помнить, что отношение ко времени у катарцев-бизнесменов и чиновников – бережное. Поэтому беседа должна быть предельно содержательной. Покидая офис катарца, непременно надлежит поблагодарить его за беседу, а главное – за найденное для встречи время. «Все, что потеряно, можно вернуть, но только не время», – гласит народная мудрость аравийцев. «Самое ценное, что есть у человека, – это время», – скажет катарец не в меру задержавшемуся в его офисе словоохотливому европейцу.
Непременными атрибутами жилища коренного катарца являются два предмета – мараш и мабхара. Первый из них есть ничто иное, как древнеаравийский спрей. Его предлагают гостям по завершении трапезы и мытья рук. Розовая вода, традиционно используемая в этих целях, завозится из Та’ифа (Саудовская Аравия) и Индии, и продается в миниатюрных стеклянных флаконах в парфюмерных лавках на городских рынках. Мабхара – это аравийская курильница благовоний. Классическая по форме мабхара напоминает собой перевернутую основанием вверх пирамидальную чашу на четырех ножках.
Встречая и провожая гостя, катарец окуривает его благовониями из мабхары с зажженным в ней ‘удом, либо опрыскивает духами. По сложившейся в Аравии традиции, гость должен уносить с собой не только приятные воспоминания о времени, проведенном в жилище катарца, но и «аромат гостеприимства».
Кое у кого из катарцев можно увидеть на стене его жилища вставленный в рамку «кинжал предков» – ханджар, обязательный аксессур костюма катарца прошлого. «Оружие, – как сказывали в старину в племенах Катара, – украшает мужчину также, как честь и достоинство». Особое внимание в прошлом уделяли рукояткам кинжалов. Изготавливали их из ценных пород дерева, рогов животных (носорогов) и слоновой кости, и богато инкрустировали. По форме рукоятки кинжала, так же, как и по клейму на верблюде, аравиец мог довольно точно определить территориальную и племенную принадлежность бедуина, а по убранству ножен – его социальный статус.
Усаживаясь трапезничать вместе с хозяином дома, либо за стол, либо на разостранный на полу в помещении для маджалисов (дружеских встреч) «столовый ковер», надо помнить, что у арабов Аравии и поныне в силе древние правила этикета. Согласно одному из них, речь старшего по возрасту и хозяина дома перебивать нельзя, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах.
Следует знать и то, что, находясь со своим гостем где-нибудь на «аравийском пленэре», в тенистом саду, разбитом у дома, или на охоте в пустыне, катарец может снять с себя накидку, расстелить ее под финиковой пальмой или на песке, и пригласить гостя вместе с ним присесть на нее. Отказываться нельзя, ни в коем случае, да и смущаться не стоит. Это есть не что иное, как знак выражения глубокого и искреннего к гостю уважения. Делается это в Аравии нечасто, но всегда со смыслом.
В честь гостя, по обычаю предков, даже если за столом сидят только два человека, могут подать целиком запеченного барашка. Еще большие неожиданности подстерегают гостя-чужеземца в пустыне. Если его принимают в кочевом племени, с членами которого он участвовал в охоте, то на «трапезную скатерть» из пальмовых листьев, разостланную на песке, водрузят целиком зажаренного верблюда, внутри которого будет зажаренный баран, начиненный вареными курами или жареными дрофами, нашпигованными, в свою очередь, рыбой, а рыба – яйцами. Чествуют гостя всем племенем, поочередно сменяя друг друга у расставленных с едой блюд. Так повелось. В прошлом первыми на торжествах по случаю приема гостя в племени усаживались вокруг разостланной на песке циновки, уставленной тарелками с пищей, шейх и старейшины семейно-родовых кланов. Когда они, наевшись, вставали, их места занимали главы семейств, и так далее. Доедали, что оставалось, рабы-слуги.
Традиционная еда коренных катарцев – это: гузи – запеченный ягненок с рисом и орехами; макбус – тушеный рис с пряностями, морепродуктами или мясом; мутабль – баклажанная паста; хумус – гороховая паста; мухалйбийа – молочный пудинг с фисташками и корицей; лябан – кисломолочный продукт и овсяные лепешки.
По воспоминаниям путешественников, в прошлом употребляли в пищу в Прибрежной Аравии и саранчу. «Поджарив» ее на раскаленном песке, щелкали, как семечки. С саранчей у арабов Аравии связано довольно много пословиц и поговорок. Согласно рассказам Хишама ибн ал-Кальби (ум. 820), крупного знатока арабской древности, бедуин по имени ал-‘Аййар, человек из племени бану кальб, передвигаясь c попутчиками по пустыне, наткнулся однажды утром на стаю сидевшей на песке саранчи. И, будучи голодным, решил подзакусить ею. Солнце только-только вставало. Песок после ночи все еще был прохладным, а ждать, пока он нагреется, не было мочи – сильно хотелось есть. Так вот, повествует ал-Кальби, когда бедуин бросил в рот горсть собранной им саранчи, а был он щербатым, то саранча, одна за другой, стала выбираться через щербинку наружу. Смешную сценку эту наблюдали находившиеся рядом с ним попутчики. Тогда и родилась широко разошедшаяся по Аравии и бытующая до сих пор среди аравийцев поговорка, которой там часто сопровождают отрицательную реакцию одного человека на просьбу другого. И звучит она так: «Отвергли тебя, как отвергла саранча ал-‘Аййара».
В Коране четко и ясно прописано, что мусульманину есть можно, а что нельзя. Категорически запрещается употребление в пищу свинины (нечистого у арабов животного), а также мяса хищных животных и птиц.
Едят, как и в прошлом, зачастую руками. Ни вилками, ни ножами не пользуются. Пищу с блюд берут и отправляют в рот только правой рукой, но, ни в коем случае, не левой, которую арабы Аравии именуют нечистой, так как совершают ею омовение интимных мест перед молитвой. Плохо отзываться о пище, какой бы она не была, нельзя.
Большое внимание при приеме гостей катарцы уделяют наличию специй на столах. «Специи, – скажет катарец, повторяя поговорку предков, – помощницы трапезы; и лучшая из них – соль».
Спиртных напитков во время трапезы не предлагают. Вино у мусульман – под строжайшим запретом. Майсир (азартная игра на части туши верблюда), жертвенники, гадальные стрелы и вино – это мерзость, деяния сатаны, поучал правоверных Пророк Мухаммад. Запрет на алкоголь, введенный Пророком Мухаммадом, говорят мусульмане, охраняет разум человека, оберегает его здоровье и покой ближних.
Продажей спиртного для иностранцев, работающих в Катаре, занимается одна-единственная компания. Для того чтобы получить лицензию на покупку алкоголя, нужно иметь вид на жительство в Катаре и разрешение от работадателя, а также зарплату больше одной тысячи долл. США в месяц и быть старше 21 года. При этом литраж приобретаемого алкоголя строго ограничен.
В доисламские времена, к слову, побаловаться вином в племенах Аравии любили. Вино считалось напитком воинов и поэтов. Из-за введения запрета на вино многие из современников Пророка Мухаммада, особенно из числа поэтов, медлили с принятием ислама. Знаменитый поэт ал-А’ша (565 – ок. 629), к примеру, жительствовавший в Йамаме, сказывал, что «поэт и вино – неразлучны». Вино – это напиток предков, говорили величайшие «златоусты» Аравии – Имр’-л-Кайс, ‘Антара, Зарафа, ‘Амр ибн Кулсум, ал-Харис, Лабид и Зухайр. Жизнь человека длится недолго, писал в своих стихах Имр’-л-Кайс; и надобно поспешить насладиться ею. Усладой человеку в его жизни земной пусть будут вино, да красивые женщины, белотелые и стройные, как газели. Вино, восклицал Антара, «растворяет врата сердца» и «придает крылья коню речи».
На десерт катарцы предлагают гостям сладости. Непременно угощают фруктами и финиками, а также чаем с молоком и со специями (именуют такой напиток словом «карак»), и, конечно же, кофе. Потчивание гостя кофе – это венец гостеприимства. Потому-то символом гостеприимства в Аравии и является кофейник, но особой, встречающейся только в Аравии, формы – с вытянутым и слегка изогнутым носиком. Кофе готовят с кардамоном, и подают в маленьких чашечках (финджанах).
Кофе занимает особое место в повседневной жизни коренного жителя Катара. «Дом, где нет кофе, – жилище скупого», – гласит дожившая до наших дней древняя поговорка аравийцев. «Нет кофе, нет и делового разговора», – вторит ей другая. Не напоив гостя кофе, беседовать с ним о делах у катарцев не принято. Согласно этикету арабов Аравии, вести деловую беседу надлежит, вкусив кофе. Если такая беседа проходит в доме аравийца, то только после трапезы и следующего за ней кофепития, а если в офисе, – то после предложенных гостю прохладительных напитков и того же кофе. Отказываться от кофе в Аравии нельзя, ни в коем случае. Такой отказ аравиец воспримет как оскорбление.
Медная или латунная ступка с пестиком для дробления кофейных зерен – это «аравийский будильник» прошлого. Женщины начинали толочь кофе до рассвета, до первой утренней молитвы. И перезвон пестиков сотен включавшихся в работу кофейных ступок был отчетливо слышен в предрассветной тиши прибрежных катарских городов; будил пастухов, погонщиков верблюдов, рыбаков и разносчиков воды.
Кофейная культура в Аравии предполагает употребление кофе с курением шиши (кальяна, наргиле). Завезенная в Аравию из Индии торговцами-индусами, шиша (кальян), стала со временем непременным атрибутом повседневной жизни аравийца. «Кофе без шиши, – повторяют и сегодня присказку предков коренные катарцы, – что султан без дорогих одежд».
В домах состоятельных и именитых катарцев кофе гостю предлагают, случается, усевшись вместе с ним за кофейным столиком по-аравийски. Мастерят их из резных входных «дверей предков», бережно передаваемых из поколения в поколение.
Аксакалы-катарцы, сторожилы Дохи, частенько захаживающие в уютные кофейни на городском рынке, могут заметить в разговорах с иноземными туристами, что кофе, как поучали их в свое время отцы и деды, «улучшает зрение, укрепляет память и оттачивает разум». Разум же человека, как наставлял мусульман Пророк Мухаммад, – это лучшее творение Господа (Аллаха). Обогащать и развивать его надлежит непременно.
Утрату ступки для помола кофейных зерен, так же как и кофейной ложки с длинной ручкой, предназначенной для помешивания зерен при их обжарке, коренные катарцы считали в прошлом дурным предзнаменованием, знаком надвигавшейся беды или какой-либо неприятности.
Прощаясь с гостем, хозяин дома может подарить ему четки. Это – знак высокого к нему уважения, более того, – древняя в Аравии форма выражения заинтересованности в поддержании отношений. Четки у состоятельных катарцев сделаны из слоновой кости, янтаря или ажурного серебра, и богато инкрустированы драгоценными камнями. Такие четки – знак состоятельности и достатка их владельца, знатности и именитости его клана. Классические четки насчитывают 99 бусин (по числу содержащихся в Коране 99 священных имен-эпитетов Аллаха).
Кстати, о подарках. «Обставлять подарки пышными фразами, – говорят в Аравии, – значит умалять их ценность». Самый дорогой подарок для коренного катарца – это ловчая птица. Охота с кречетом или соколом возведена в Катаре в ранг увлечений эмиров и принцев.
Нелишне знать и то, что, находясь в гостях у катарца, открыто выражать восхищение какой-либо понравившейся вещью в его доме, тем же национальным кинжалом на стене или старинной книгой в библиотеке, не следует. Согласно «этикету предков» и «правилам достойного поведения» хозяина жилища, унаследованным от предыдущих поколений, такую вещь ее владельц должен преподнести в подарок гостю, или же вместо нее подарить что-либо другое, но определенно более ценное.
Покидая дом катарца, надо дать понять ему, что время, проведенное в его жилище, запомнится надолго. Для катарца, как и для другого любого коренного жителя Аравии, важно знать, что гость уходит, «насладившись гостеприимством». «Баххар ва рух», гласит поговорка арабов Аравии; вдохни запах благовоний, а вместе с ним и «аромат гостеприимства», и удались с миром. Хозяин дома обязательно проводит гостя до входной двери, но закроет ее только тогда, когда тот выйдет со двора и притворит за собой входные двери в ограде.
В выходные и праздничные дни даже упоминать о работе в Катаре не принято. Единственное, что по мнению коренных катарцев, равно как и других арабов Аравии, надлежит делать в эти дни, так это отдыхать, проводить время с семьей и радоваться «богатству общения» с родными и близкими. «У каждой лодки – свой парус, – скажет катарец, – а у каждого праздника и выходного дня – свое предназначение». «Что толку в ночи, если в ней нет звезд», – повторит он к месту присказку предков; и добавит: «Год красят праздники, как звезды небо». Праздник без шума и веселья, считают арабы Аравии, – не праздник; и потому веселятся от души. «Береги время, – скажет катарец оказавшемуся на их празднике иноземцу, – и помни: лучший день для счастья – сегодня».
Непременный атрибут национального костюма катарца – головной платок (гутра), придерживаемый жгутом-обручем черного цвета, игалом. В прежние времена бедуин, клявшийся совершить кровную месть, «отказывался» на время, как тогда выражались, от игала, не носил его. И вновь надевал только после исполнения обета кровной мести, доказав тем самым, что долг мужчины и слово, данное им, – исполнил, а значит и носить знак мужского отличия – вправе.
Что касается головного платка, то если в городах он – просто элемент национального костюма, то в пустыне – средство защиты от солнца и песка, а также от холода по ночам в зимнее время года.
Когда потребуется, головной платок и в наши дни бедуин использует, так же, кстати, как и нашейный платок (шимаг), в качестве полотенца, средства для переноса продуктов, либо подушки по– аравийски. Оказавшись ночью в пустыне и ложась спать подле верблюда, бедуин и сегодня покрывает кучку песка головным платком и устраивает себе удобную «подушку». Спит, напомним, только лицом к небу – в знак уважения к луне, «лампаде пустыни».
Другой непременный атрибут национального костюма катарца – куфийа (легкая шапочка, связанная из белых ниток). Выходя на улицу катарец накрывает голову поверх нее головным платком. Куфийа в Аравии – это еще и молитвенная шапочка (в ней мусульманин совершает намаз, и она всегда при нем). На дишдашу, длинную до пят рубаху белого цвета, этакий костюм по-аравийски, катарец набрасывает легкую шерстяную накидку без рукавов – бишт или мишлах. Изготавливают ее из верблюжьей шерсти.
По традиции, воинов в племенах Аравии за проявленную ими доблесть правители, шейхи и военачальники одаривали в прошлом своими накидками.
В руках у мужчин можно видеть и в наше время легкие длинные трости. Горожане используют их при хотьбе, а жители деревень и кочевники – для управления ослами и верблюдами. Называют их арабы Аравии по-разному: ‘аса, миш’аб, ба’кура и шун.
У всех коренных катарцев имеются четки (мисбах).
Одна из характерных особенностей жизни и быта катарцев, равно как и других арабов Аравии, – полигамия (многоженство), унаследованная ими, как они заявляют, от их предков, а теми, в свою очередь, от патриархов и пророков – Авраама, Давида, Соломона и Мухаммада.
Права женщины, в том числе имущественные, в аравийской семье строго регламентированы и надежно защищены – сводом обычаев, определяющих, что можно, а что нельзя делать женщине, и как должен вести себя по отношению к ней мужчина, а также шариатом (исламским правом) и брачным договором.
Главная причина разводов в Аравии – бесплодие жены. «Нет для женщины ничего постыднее, чем быть бесплодным деревом», – гласит древняя поговорка арабов Аравии. Бросать жен без веских на то причин у арабов Аравии не принято. Расставание с женщиной, родившей мужчине ребенка, – поступок, по их мнению, постыдный; он чернит честь и достоинство мужчины.
С точки зрения коренного катарца, жизнь лишена смысла, если в семье нет сына, продолжателя рода. И в этом – одна из причин взятия в жены еще одной жены. Женятся несколько раз и из-за желания породниться с тем или иным семейно-родовым кланом, а через него – и с влиятельным племенем. Очень большое значение в глазах коренных катарцев имеет древность рода. Вступить в родство с таким родом мечтает каждый, но вот позволить себе это может только «равный ему, – как там выражаются, – по глубине корней».
«Семья для араба – вторая кожа», – говорят катарцы. И глава семьи – мужчина; Аллах сделал мужчин «попечителями женщин». Довольно часто и в наши дни арабы Аравии вообще и катарцы в частности женятся на своих кузинах. Самый достойный жених для девушки, согласно местному обычаю, – ее двоюродный брат. Причин тому несколько. Во-первых, доминирование в социальной структуре общества родоплеменных отношений. С древнейших времен и до наших дней заключение браков внутри рода – это мера, имеющая целью увеличение его численности, а значит – усиления роли и места рода в системе внутриплеменных отношений. Во-вторых, – это дань уважения традициям предков. Знание друг друга с детства, считают арабы Аравии, есть залог прочности семьи, а семья в Аравии – это символ жизни.