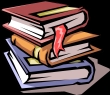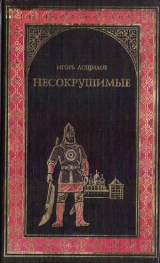
Текст книги "Несокрушимые"
Автор книги: Игорь Лощилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
К ночи подошёл Ананий, принёс небольшую железную печь и гостинцы детям: младшему свистульку, старшему каракульку. Ванятка вертел в руках железную растопырку о четырёх острых концах, а отец объяснял:
– Эта каракуля троицким горохом зовётся, как ни кинешь, непременно одним концом вверх станет.
Ванятка пробовал – точно!
– Это для чего ж такое? – поинтересовалась Груня.
– Коням под ноги сыпать, для поранения.
– О, Господи, этих-то зачем калечить?
– Дык война, а ляхи все на конях...
Поставил Ананий печку и стал копать вокруг телеги канаву для стока воды. Бараниха тут как тут:
– Почто на нашу землю скидываешь? Ну-ка, кыш отсель! А вы, кобылы ленивые, куда смотрите?
Груня мужа по спине поглаживает, стерпи, дескать, прости ей злобу несытную. Да только это напрасно, Ананий мужик спокойный, его из себя вывести трудно, знай себе, копает. Тут вдруг случилась громкая суматоха – взбесился какой-то бык, оторвал привязку и стал людей увечить. Народ бросился врассыпную, Ананий отставил лопату и вышел навстречу бегущим. Они пронеслись, как вихрь, и ему сразу открылась причина людского страха. Разъярённый, окровавленный бык стоял, пригнув рога и яростно бил землю передним копытом, выискивая новые жертвы. Перед ним не было уже никого, кроме лежавшей на сундуке Баранихи, которая до того испугалась, что даже перестала жевать. Ананий спокойно двинулся вперёд.
Груня прикрыла рот от ненарочного крика, так уж было промеж них условлено, чтоб не перечить в начатом деле. Ананий шёл спокойно и уверенно; от его кряжистой фигуры в кожаном переднике и длинных мускулистых рук веяло силой, но с приближением к животному это впечатление ослабевало – слишком уж несоразмерными выглядели противники. Оставалось несколько шагов, и бык напружинился, готовясь к удару. Ананий опередил его лишь на мгновение – каким-то неуловимым движением вскинул руку и ударил быка в крутой, прикрытый кудрявой чёлкой лоб. Бык замер, с шумом испустил воздух и пал на колени.
Раздались восторженные крики.
– Ну, силища!
– И как ловко он его пригладил!
– Дак чё, всё время по наковальне лупит, она бычьего лба не слабже.
– Девки, несите кашу! – перекрыл всех голос пришедшей в себя Баранихи.
Тысячи людей осваивали новое пристанище, не зная, что для большинства оно будет последним.
В эту ночь в лавре состоялся большой совет. Архимандрит позвал главных монастырских чинов и всех важных старцев. Так собирались они нечасто, в обычные дни всеми делами лавры заправлял казначей Иосиф Девочкин. Это был худой высокий старец с коричневым, высохшим, как у мумии лицом, не терпящим прекоречия и по-казначейски скупой. Иоасаф, не отличавшийся любоначалием, охотно передал в его руки распорядительную власть, оставив за собой руководство духовной жизнью обители. К такому положению привыкли и иными делами его не занимали, обращались прямо к казначею. Ныне, помимо монастырских, на совет пришли и воеводы: главные – Долгорукий с Голохвастовым, и начальники отрядов из разных городов: Иван Ходырев из Алексина, Иван I сипов и Сила Марин из Тулы, Борис Зубов, Афанасий и Юрий Редриковы из Переславля, Иван Волховский из Владимира.
Начали, как водится, с молитвы. Первым стал докладывать Долгорукий. В крепости, сказал он, ратников за три тысячи будет, точно не сочтено, 90 пушек на стенах, 20 запасных под навесом, зелья пушечного довольно, смолы и других защитных хитростей припасено в избытке, сражаться можно, иные уже нынче показали. На этом заздравная часть кончилась. Пушкари обучены плохо, продолжил он далее, тоже показали; весь наряд пушечный расставлен несоразмерно; супротив пожаров бороться не знамо как, ибо вся большая вода за стенами; людишек лишних в избытке, на одного ратника поболе двух будет, отсель может проистекать бестолковщина великая и теснота. Некоторых воинов уже из-под крыши во двор гонят и едой норовят обделить, что негоже. Ратный человек хорошего корма требует, а на репу и лук он вам только пук выдаст. Его поддержать надо и на деньгу не поскупиться.
– Долгорукие знают, куда руки тянуть, – выкрикнул Гурий Шишкин, подручник казначея. Человек он был угодливый, всегда смотрел в рот своему начальнику, вот и вылез.
– Нишкни! – сурово одёрнул его Девочкин, и Гурий тотчас сник, только злобно блеснул глазёнками.
– Осадное сидение сурово, строгости требует, – продолжил как ни в чём не бывало Долгорукий, – и единоначальства, чтобы из единого рта всё говорилось. Потому требую, чтобы мои приказы исполнялись всеми. Во избежание хитрых промыслов нынче выставлю свою охрану ко всем амбарам, погребам и крепостным воротам, а ключи от них мне надлежит сдать, вот в эти руки, – и бросил на стол два дюжих, покрытых чёрным волосом кулака.
Монастырские посмотрели на Девочкина, и тот не замедлил с ответом:
– Наша обитель без малого три века стоит и живёт по своим законам, кои святой Сергий и Никон урядили. Никто иной, тем паче пришлый, вязать нам свою волю не должен. Делай своё воеводское дело, а к нашему не приставай. Не угодно так-то, скатертью дорога.
– Я царём сюда послан! – вскричал Долгорукий.
– А мы тебя волей обители Сергиевой назад отошлём. У нас своих иноков довольно, кто к ратному делу навычен, да из других городов подмога пришла, теи не такие жадные, обойдёмся.
Князь, горячая голова, хотел вскочить для ухода, да Голохвастов его силой удержал и шепнул в ухо: «Постой, охолонь малость». Долгорукий сжал зубы и ну буравить глазами казначея, тот ещё более сморщился, но глаз не отвёл, кажется, заряди, так и пальнут друг в дружку.
Иоасаф поднялся и строго сказал:
– Стыдно свариться перед лице врага. Господь сказал: Богу – Божье, кесарю – кесарево, из сего и будем исходить. Прислал тебя царь к нам в подмогу, слава царю, верши своё воеводское дело, мы к тебе не вступаемся. Бери ключи от ворот и от амбаров, но только тех, где ратные припасы хранятся. Прочие у нас останутся. Людям твоим за ремесло их ратное заплатим, но по-особенному кормить не будем, все – из общего котла. Кто хочет, пусть моё, архимандричье, себе возьмёт, а своё передо мной поставит. И никто из обители по твоей воле не изыдет, а коли ещё кто пожалует, и теих приветим, бо святой Сергий завещал давать кров всякому странноприимцу. Мужики клементьевские сметливые, работящие, они осадному делу токмо в подмогу: кого на копку надо определить, канавы к прудам проводить, кого к котлам и другим защитным хитростям приставить, а особо сметливых дать пушкарям на выучку. Жёнам с детишками тем паче место сие в убежище отдано, ибо кого как не их тогда нам защищать? Больных и немощных по кельям развести, братья потеснятся. Ныне и так уж сказывали, одна баба при общем глядении дитя рожала, и некуда было несчастной со срамотою своею деться. Так более не должно быть.
Мы же, монастырская братия, будем подвигать себя на святое дело без всякой корысти, отныне во всех храмах постоянно служить днём и ночью, с пением и свершением нужных треб. Ни от кого, ни за что плату не брать, даже ежели просить будут. Хоронить, причащать, ектеньи петь – всё за счёт лавры. А если найдутся какие отступники от нашего дела, то таких лишать жизни и трупья сбрасывать со стен вон, чтобы их духа не было в обители.
Славно сказал Иоасаф, и все с этим согласились. Закончил же он так:
– Пойдём в Троицкий собор, приведёмся к присяге перед Сергиевой гробницей и поцелуем крест, что будем сидеть в осаде без измены, потом разойдёмся: вы уряжать воеводские дела, а мы облачимся в ризы священные и обойдём стены монастырские, покропив их святой водою. Подготовимся, братия, достойно к трапезе кровавой, чтобы выпить без хитрости смертную чашу за отечество.
Так и сделали.
Воеводы после речи Иоасафа и принесённой присяги вели себя пристойно, никто не искал выгоды. Быстро распределились по стенам, башням и воротам, кому какую сторону ведать; определили, где наибольшая слабина, чем и как её усилить; договорились, кого отрядить для вылазок, кого иметь про запас... Голохвастов получил простор для своих придумок. Похвалился, что есть на примете умелец, кто делает «троицкий горох» – это такие кованые колючки, которые рассыпают перед вражеской конницей, показал образчик – толково, нужно наковать тысяч десять. Предложил организовать оборону ветряной мельницы, находящейся вне крепостной ограды, и это одобрили: за мельницу нужно держаться, ибо вручную на этакое сонмище людей муки не намелешь. Ещё вспомнили о слухах про некий потайной ход под восточной стеной, и монахи подтвердили: был такой. Решили разыскать – пригодиться для вылазок. Долгорукий на этот раз не одёргивал, сказал только, что прежде всего нужно вызнать, сколько ляхов и иных воров пришло к крепости. Тут же решили послать для такого промысла толкового человека, и выбор пал на Данилу Селевина.
А вдоль крепостных стен двигалось в это время огненное марево, это Иоасаф в сопровождении братии совершал святой обход и кропил стены. Монахи несли свечи и пели. В народе прошёл слух, что поход возглавляется самим Сергием. Многие вставали на колени и молились: «Помози, угодниче Божий Сергий, защити свою обитель, победы на супротивные нам даруя». На душе у них становилось светло и радостно.
В польском стане кипела своя работа, войска обустраивались, развёртывали хозяйство, спорили из-за мест, копали землянки. Отряды подходили один за другим и не было им числа. Поляки, составлявшие не самую многочисленную, но главную ударную силу и наиболее дисциплинированную часть армии Сапеги, пришли одной колонной, их расположили на западной и южной стороне от крепости. Примкнувшие к ним казацкие шайки, шедшие и прибывавшие кто как хотел, вклинивались в расположение, затевали споры и, не зная мирных способов разрешения, тотчас хватались за сабли. Они признавали власть только своих атаманов и ещё Лисовского, начальника того же пошиба. Распоряжений гетмана не выполняли, как говорили, «дожили на них хрен с казацким чубчиком». Их буйный нрав являлся предметом постоянных стычек между Сапегой и Лисовским.
Постепенно подходила и артиллерия. Ей отводились позиции в расположении польских войск. Четыре батареи разместились с южной стороны: на горе Волкуше, на Московской дороге, в Терентьевой роще и на горе против монастырской мельницы. С запада устанавливалось пять батарей, в основном на горе Красной, откуда крепость просматривалась наиболее хорошо. Говорили, что помимо обычных пушек ожидается прибытие тяжёлых осадных орудий. Пока же довольствовались тем, что имели, их и так было шесть десятков. В осадных играх пушки – первый козырь, Сапега самолично следил за тщательностью их установки и требовал надёжного укрытия, для чего изготовлялись туры – плетёные короба, заполненные землёй.
На эти работы привлекали местных жителей, кого удавалось словить. Казацкие отряды рыскали по окрестностям и брали всех подряд, не исключая баб, правда, на них ложилась несколько другая повинность. Одна такая шайка наехала на село Молоково и пленила тамошнего парня по имени Суета. Пленила случаем, опутав спящего. В бодрости он бы ни за что не дался, ибо силы был необыкновенной, но спал мертвецки, до полного бесчувствия и растолкать его стоило немалых трудов. Его привязали к лавке и вынесли во двор, потом, продолжая потеху, прикрутили вожжами к тележному дышлу и ну стегать кнутом. Парень очнулся и долго ничего не мог понять, то-то смеху было, и когда тащил тяжело груженную телегу, всё соображал, когда это он превратился в коняку.
Дошли до отрядного стана, что расположился у Косого оврага, там потеху продолжили, приглашая новых зрителей. Хомут на парня надели, торбу привесили – дескать, похрумкай. Потом кобылу подвели – огуливай. Суета молча пялил на охальников непонимающие глаза, его стали подстёгивать кнутом: ну-ка лезь на кобылу, не то живо мерином сделаем! Начали сердиться на строптивость и готовиться к исполнению угрозы да ещё за бабами послали, дабы увидели, что бывает ослушникам. Случившиеся здесь поляки пожимали плечами, они тоже не понимали, зачем так гнусно измываться над своим соплеменником, ни в чём не повинном. Тем временем сыскали холостильщика, влили в него ковш водки и приказали готовиться к работе. Несколько охотников стали подкрадываться к парню с разных сторон, чтобы опутать ноги, а затем завалить. Дело переставало быть шуткой, теперь Суета видел это точно. Он заметил краем глаза, как один из охотников готовится дать сигнал к общему броску и, опередив на мгновение свист, рванулся вместе со своим возом к лежавшему впереди валуну. Телега наскочила на него колесом, наклонилась, Суета налёг на дышло, и она перевернулась, вывалив груз. Суета рывком вытащил опорожнённую телегу, сделал крутой поворот и выдернул дышло. Теперь пусть свистят во всю мочь, он сам до них доберётся. Взмахнул раз – упал свистун с раздробленной головой, другой раз – целый ряд на земле оказался.
– Тикайте, казаки! – послышались испуганные вопли. Все бросились врассыпную, лишь холостильщик невозмутимо засучивал рукава, не обращая внимания на истошные крики. Его дело без них не обходится, работа такая. Суета убрал его крепким пинком с дороги, он затих, так и не поняв истины. В мгновение ока всё пространство вокруг оказалось безлюдным, Суета огляделся и неторопливо потюхал к ближнему оврагу, волоча за собой дышло. Казаки опомнились, засуетились, кто-то побежал за самострелом, кто-то за пикой, на сабли супротив дышла не шибко надеялись. Словили коней и погнались за Суетой, покуда в овраге не скрылся. А тот себе тюх да тюх, даже не оглядывается, ну что за лапоть? И наверняка не выпутаться бы ему от настырной казачьей своры, кабы, к счастью, не оказался поблизости в овраге Данила Селевин, посланный на выведку. Сил у него мало, всего несколько человек, но не оставлять же человека в беде, тем паче, появилась возможность словить казачков и в лавру для допроса приволочь. Преследователи были уже рядом.
– Стой! Лягай, чертяка! Брось дубину, бо стрельнём! – слышались угрозы.
Суета остановился, крепко упёрся в землю и поднял своё грозное оружие. Отдавать себя просто так он не собирался. Брошенное кем-то копьё прошелестело мимо, стрелы оказались более меткими: одна оцарапала плечо, другая – голень. Суета вскричал диким голосом и бросился на преследователей, вертя дышло над головой. Те стали пятиться, ничего вокруг, кроме огромного детины с его смертоносной палицей они не замечали, появление троицких всадников оказалось полной неожиданностью, они тут же и легли под их саблями. Данила сам срубил двух и погнался за третьим, намереваясь взять его в плен. Он оказался прытким, этот казачок, и ловко запетлял по кустовью. «Ничё, мы этого зайца щас возьмём в силки», – сказал себе Данила и бросился в погоню. Нагнал, ловко бросил аркан и свалил скакуна на землю. Всё это происходило на виду казацкого стана, там всполошились, забили тревогу, но Данила тоже не мешкал, живо увёл своих людей в овраг, прихватив пленённого казака и Суету. Вышло бы ещё проворнее, кабы не этот увалень: опять тюх да тюх, ещё и с дышлом никак не расстанется. Но, в общем, обошлось.
Казак на допросе запираться не стал, выложил всё, что знал, а знал немного. Сам он был с Дона, из отряда Епифанца, в котором полтыщи человек, а с Северской земли казаков поболе будет – за пять тысяч, ещё из Кром, Ельца, Белгорода, Борисова, Оскола, Трубчевска, тех тоже тысячами надо считать. Из больших польских воевод слышал о Тышкевиче, Вишневецком, Маковском, Горском, Мазовецком, Угорском – у них тоже, стать, на тысячи счёт идёт... В монастыре судили-рядили, прикидывали и выходило, что под стены пришло никак не меньше тридцати тысяч. Многовато. Но что делать? Стали готовиться пуще да молиться прилежнее.
29 сентября от Сапеги пришло письмо. Лисовский был против всякого мирного сношения с крепостью, но Сапега не счёл возможным отступить от заведённого обычая: предложить осаждённым сдаться на милость победителя. Письмо привёз боярский сын Бессон Руготин. Его приняли без чести, хотя и не позорили, просто не замечали. Сапега писал:
«...Помилуйте сами себя: покоритеся великому имени государя вашего и нашего. Аще учините тако, будет милость и ласка к вам государя и царя Димитрия, каковыми ни один великих ваших царём Василием Шуйским не пожалован. Пощадите благородство своё, соблюдите свой разум до нас и тогда за сею ласкою увидите лицо наше. А мы вам пишем царским словом и со всеми избранными панами заверяем, что не токмо во граде Троицком наместниками будете от государя нашего и вашего прирождённого, но и многие града и сёла в вотчину получите, аще сдадите град Троицкий монастырь. Если же сему не покоритеся и не сдадите нам града, а, даст Бог, возьмём его, то ни един из вас милости от нас не узрит, но все умрут зле...»
Старцы, до которых довели письмо в первую очередь, возмутились предложению и решили ответить бранным словом. Пока составляли ответ, письмо громко читали всем людям, которые тоже не имели других намерений, кроме защиты лавры от неприятеля. Некоторую осмотрительность проявил только казначей Иосиф Девочкин:
– Лавра царя Бориса тридцатью тысячами ссудила, отдачи не дождалась, Шуйскому пятнадцать тысяч дадено, тоже, видать, без отдачи, так ежели тем же числом от воров откупиться, может, и дешевле стало бы, чем осадными нуждами томиться. Разор лавры многого стоит, да ещё людишек потеряем, а без них надолго не станет никакого прибытка – если всё счесть, то как лучше-то?
Этот вопрос он задал Гурию Шишкину, когда сидели один на один. Гурий удивился:
– Чего же ты при всех промолчал? Сказал бы, как мне, глядишь, и одумались некоторые, а то, вишь, старичье кулаками махать вздумало. И то скажу: не иночье это дело.
– Не сказал, потому что видел: настрой не тот, так и остался бы при своём. Ты небось и тот не поддержал бы.
– Что ты? – вскинулся Гурий. – Я за тебя всегда горой, ты же знаешь.
– Знаю, потому и говорю. Ладно, считай, что разговора этого промеж нас не было.
– Могила, – согласно закивал Гурий.
На самом деле он никогда ничего не забывал.
На другой день после всеобщего одобрения Руготину вручили ответ:
«Да знает ваше тёмное державство, гордые начальники Сапега и Лисовский, что напрасно прельщаете нас, Христово стадо православных христиан, даже десятилетний отрок в Троицком монастыре посмеётся вашему безумству и совету. Какая бо польза человеку возлюбить тьму паче света, преложить лжу на истину, честь на бесчестие и свободу на горькую работу? Какое приобретение и почесть, если оставить нам своего православного царя и покориться ложному врагу, вору и вам латинам иноверным, и быть как жидам или горше сих? От всего мира не хотим богатства против своего крестного целования. Упование наше есть Святая Троица, стена и щит Богоматерь, святые Сергий и Никон сподвижники: не страшимся!..»
Сапега прочитал ответ и выругался. Может быть, и прав был Лисовский, когда советовал не тратить время на переписку? Ну, ничего, теперь он с чистой совестью покажет «чёрным воронам» всю силу польского оружия.
3 октября заговорили все польские пушки. Будто высокий весенний гром расколол небо над лаврой, хотя на самом деле стояло промозглое серое утро, пропитанное осенней сыростью. Пушечного огня давно ждали и боялись – насколько крепкими окажутся крепостные стены и строения, не падут ли они разом, подобно камням Иерихона? Приживальцы сразу же бросились из своих лачуг в храмы, надеясь на Всевышнее заступничество. Там уже была вся братия, снаружи остались лишь воины на боевых площадках да пожарные отряды, набранные из пришлых мужиков.
Первый страх быстро проходил, чему способствовала крайне неискусная стрельба польских пушкарей. Ядра большей частью падали перед стенами, зарываясь с гулким чавканьем в мокрую землю, те же, что перелетали, удивительным образом миновали храмы и важные строения, попадая в ямы, лужи, горки мусора. Угодившие в крепостные стены и башни особого вреда не причиняли, ну, выбивали кирпичи или делали вмятины, но ничего более существенного, даже верх нигде не сбили. Пожаров, которых так страшился Долгорукий, тоже не случилось. Загорелась крыша на скотном дворе да кое-какая столярка в мастерской, но то быстро потушили. К полудню тучи спустились совсем низко, морось сгустилась, и стрельба прекратилась. Всё объяснялось не иначе как Божиьм промыслом, ликованию осаждённых не было предела.
У Афанасия и Макария, занимавшихся похоронными делами, работы в этот день не шибко прибавилось. Тем более угнетала их малозначительность содеянного, особенно Афанасия, которому с трудом удавалось сдерживать свои порывы. Звание послуха обязывало безропотно нести любое бремя, тем паче такое богоугодное, как снаряжать человека в последний путь, однако ему хотелось сделать нечто более значительное, не в замену, а сверх того. Тогда возникла у него мысль обойти с образом Сергия крепостные стены с внешней стороны и покропить святою водой сделанные в тот день повреждения, чтобы через них дальнейшей разрухи не произошло. Макарий засомневался: не превышается ли тем их послушничий чин, ведь распоряжаться святыми дарами может лишь тот, кто рукоположен. Афанасий заспорил и для прояснения истины отправился к своему наставнику Корнилию. Старец был мудр и томление юных послухов хорошо понимал. Ещё понимал он, что на грани жизни и смерти нельзя остужать того, кто хочет свершить более ему положенного. Ежели это на пользу общему делу или только свершающему, пусть будет так.
– Опасное то дело, – ответил он, – хотя и благое по сути. Там, за стенами, никто вас не защитит, один на один останетесь с супостатами.
– С нами святой Сергий будет! – в один голос воскликнули отроки и пали на колени, прося благословения.
Корнилий прочёл над ними молитву и отпустил, сказав, что об их выходе договорится сам, а им нужно подготовится к духовному подвигу, причаститься и ждать сигнала. Потом отправился к Голохвастову, отличавшемуся большей отзывчивостью, нежели Долгорукий. Корнилий попросил его устроить выход отроков для выполнения святого дела и защитить их ответным огнём, если поляки станут палить из пушек. Голохвастов поморщился, затея показалась сродни ребячьей забаве. Корнилий заглянул ему в глаза и сказал:
– Отроки чисты в помыслах, такие побуждаются самим Господом, в воле которого сделать чудо из забавы.
Перед речью и ясным взором старца устоять было трудно, и Голохвастов согласился. На очереди оказался Иоасаф, который тоже усмотрел в задуманном предприятии немало риска. Корнилий напомнил, что послухи уже выдержали несколько искусов, успешно проявив себя, как в самой обители, так и за её пределами, что они созрели для более серьёзных испытаний, что в них бурлит духовная сила, которую нельзя более держать в закрытом сосуде из-за опасности испортить его содержимое. В конце концов Иоасаф тоже согласился и выразил желание лично исповедать отроков. Ещё распорядился взять из ризницы парадный образ святого Сергия в богатом окладе, что вызвало большое неудовольствие казначея, посчитавшего явно неоправданным подобный риск.
– Такое богатство может искусить и более твёрдых в добродетелях, чем сии малые, – сказал он, – не лучше ли дать им что-нибудь попроще?
– Здесь не подобает скупиться, – ответил Иоасаф, – вспомни, что Господь не велел приносить ему порченые жертвы.
В полночь отворились Святые ворота и под молитвы монастырских старцев два послуха двинулись в свой поход. Впереди с образом Сергия шёл Афанасий, следом нёс ведёрко со святой водой Макарий. Оба держали в руках по фонарю. От ворот повернули направо, этот участок стены был совсем не повреждён, его прошли быстро. Обогнув круглую Пятницкую башню, двинулись вдоль южной стены, здесь уже стали появляться следы нынешней канонады. Афанасий махал на них веничком и произносил молитву, Макарий по своему обыкновению гудел псалом. Так тихо и спокойно дошли они до Луковой башни, за ней началось то, чего так боялись старцы и воевода. Поляки, привлечённые двумя движущимся огоньками, сделали на всякий случай несколько выстрелов из ручниц. Им, словно того ждали, ответили с крепостных стен. Завязалась перестрелка. Пули свистели мимо отроков, по счастью, не задевая их, возможно, в эту ночь им действительно была дана охрана свыше, и они благополучно достигли угловой Водяной башни. Открылся западный участок, которому в нынешней канонаде досталось более всего. На Красной горе всполошились и дали несколько залпов, тоже не оставшихся без ответа.
Отроки тем временем спокойно вершили своё дело. Благополучно миновали Пивную башню, Келарскую, достигли угловой Плотничьей и двинулись по северной стороне, где им уже ничто не угрожало. Так, не получив ни единой царапины, вернулись они в крепость, где тут же были посвящены в иноческий сан.
Подвиг сей не прошёл бесследно, прибежчик из польского стана показал, что там только и разговоров, что о чуде: будто по ночам Сергий с Никоном обходят свою обитель дозором и кропят святой водою, оттого так крепки её стены и земной силе не подвластны. Ещё говорили, что Господь сих старцев оберегает, отвращает от них пули и ядра, а ежели те падают на покроплённые участки, то возвращаются обратно к пославшим и поражают их самих. Прибежчик утверждал, будто сам видел пушку, побитую своим же ядром. Так свершилось чудо, о котором упреждал Корнилий Голохвастова. Происшедшее навело того на сходную мысль: каждую ночь он стал высылать отряды каменносечцев, которые заделывали полученные днём повреждения, и к утру стены становились как новые. И это тоже можно было считать чудом.
Канонада крепости продолжалась. Прибыли тяжёлые осадные орудия, которые стали причинять более весомый урон. Треснул верх у Водяной башни, разбился большой колокол Духовской церкви, пробило кровлю Успенского собора, засыпало колодец. Более всех досаждала новая пушка Трещера, установленная на Волкуше. Она обладала особым хрюкающим звуком, заслышав который каждый старался спрятаться за каменную стену. В такое время у подобных укрытий собирались десятки людей. Росло число убитых и раненых, все ожидали скорого приступа и усердно молились о заступничестве. Уныния не было.
Сапега, не удовлетворённый результатами стрельбы, искал новые средства воздействия на непокорных и готовился к решительному штурму. В свои намерения он никого, кроме Лисовского, не посвящал. Прибежчики и пленники, которых удавалось захватить во время осторожных вылазок, ничего определённого сказать не могли, хотя все ощущали напряжение и ждали скорой грозы. Первый громкий раскат прозвучал 6 октября у мельницы.
Нападение возглавил сам Лисовский. Ночью он выслал вперёд несколько казаков, чтобы вырезать дозорных, а затем стремительным броском овладеть мельницей. Не получилось. Там не спали и службу несли зорко. Ползунов вовремя заметили и подняли тревогу. С крепости ударили пушки, ударили дробом по заранее пристрелянным местам, и многих казаков положили на месте. Лисовский, изрядно хмельной – трезвым он никогда в дело не ходил – крепко выругался: воронье который раз удивляет боевой выучкой, ну, ничего, на этот раз им будет устроена бойня по всем правилам. Он приказал своим людям отойти и, перестроив их, завёл с другой стороны, с той, где мельница заслоняла крепостные пушки и делала их безопасными. Казаки открыли убийственный огонь и под его прикрытием стали приближаться. Защитники оказались в затруднительном положении: противник был невидим, приходилось стрелять наугад, тогда как стоящая на взгорке мельница являлась средоточием неприятельского огня. Из-за окружающих её земляных валов то и дело слышались вскрики, свидетельствующие об ещё одном удачном вражеском выстреле. Защитникам не было резона и выходить за валы, чтобы встретить нападающих на подходе, ибо об их числе и направлении движения ничего не было доподлинно известно. Приходилось только ждать и постепенно терять людей.
Командовавший защитниками Михайла Брехов вынужденно послал за подмогой. К счастью, отрывать для этого своих воинов не пришлось: на мельнице в это время оказалось несколько мужиков, пришедших за дневным намолотом. Они были спешно отправлены в монастырь, один только находившийся среди них Суета отказался уйти. За несколько дней пребывания парень сделался известным всей лавре из-за своих громадных размеров и удивительной неуклюжести, сразу ставшей предметом насмешек. Брехов настойчиво пытался отправить его назад: ну, куда-де я тебя поставлю, у меня и оружия такого не найдётся. Суета вместо ответа принялся выворачивать одну из мельничих опор.
– Погоди, чертяка, ведь завалишь нас, – встревожился Брехов.
– Ничё, – невозмутимо отвечал Суета, – их тута ещё много, – и стал примеряться к новому бревну.
Брехов в конце концов сдался и направил его к мельничному пруду, дав в придачу пять человек и наказав не высовываться без команды. Сам отправился на валы, чтобы первым встретить нападающих. Его удивительная сноровка в сабельном бою должна была проявиться сегодня в полной мере.
Раздался свист, к мельнице с криками и улюлюканьем бросились казаки. Завязалась жестокая сеча. Нет ничего страшнее ночной резни – звенит железо, хриплые глотки изрыгают проклятия и стоны, в любой миг из мрака может выскочить смертоносная сталь, и будь ты трижды искусным воином, твоё искусство бессильно перед случайно брошенным ножом неуча. Славно сражался в эту ночь Брехов, возле его ног уже лежало несколько тел, а ещё не менее десятка с воплями отскочило прочь, зажимая полученные раны. Но и сам он был ранен в нескольких местах, особенно донимала рана в боку, которая отзывалась острой болью всякий раз, когда приходилось поднимать руку, а поднимать её приходилось часто. Оглядываясь по сторонам, он видел, как падают его люди, как всё уже сжимается кольцо врагов. Оставалось последнее средство, и Брехов дал условленный сигнал.
Суета появился в тот самый миг, когда враг готовился торжествовать победу. От первого удара его бревна раскололись сразу три казацкие головы, второй удар пришёлся на самое скопище, послышались вопли ужаса и хруст ломающихся костей. Теперь темнота стала против нападающих, ибо они не смогли быстро распознать источник этой всесокрушающей силы. Достаточно было ещё одного крепкого удара, чтобы в них вселился ужас, и они в страхе бежали. Пространство вокруг Суеты очистилось сразу на несколько саженей, и он спокойно пошагал дальше, вздымая своё бревно. Раздавшиеся затем вопли и крики говорили о том, что его проход имел те же последствия. Враг откатил назад на всём протяжении. Брехов с трудом добрался до Суеты и уткнулся ему в грудь – выше никак не доставал, хотя сам был не из низких.