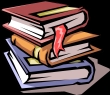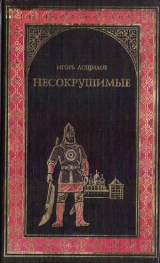
Текст книги "Несокрушимые"
Автор книги: Игорь Лощилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Плещеев проведал о том и рассказал Наливайко. Бедное Бытово! Наливайко налетел грозою и стал выпытывать, кто жалобу писал. Сельчане не выдержали, указали на молодого дьячка. Наливайко тут же отрубил ему писавшую руку и велел повесить за ребро. Навычный палач загнал крюк в бок и извернул так, что острый конец вышел наружу, потом поднял беднягу над землёй. Мужчин заставил копать ямы; по причине мёрзлой почвы довольствовался не очень глубокими, велел залезть туда женщинам и встать на колени; их по шею забросали землёй. Напротив вбили колья и посадили на них мужчин. Несчастные в невыразимых мучениях смотрели друг на друга, страдая за себя и за близких. Воздух оглашался воплями и проклятиями, они сливались в один общий стон и, казалось, что стонет сама земля. А палачи, умаявшись от проделанной работы, преспокойно уселись трапезничать.
В такой жестокий час и забрёл сюда Елизарий, ему бы обойти несчастное село, да ведь послан не уклоняться, а искать людскую беду. Как увидел изуверство, не сдержался и вскричал:
– Великий Боже! Почто допускаешь торжествовать Антихристу?
Наливайко услышал безумный вскрик и глянул на монаха.
– Помолись, брат, за души страдальцев, они казнены за земные грехи, пусть Господь будет к ним милостив у себя на небесах.
Елизарий глянул на него полными ужаса глазами.
– Не поминай Его имя своими грязными устами. Будь проклято чрево родившей тебя матери, ты сам и всё твоё семя до седьмого колена...
Наливайко притворно зевнул:
– Ты глуп, монах, эти проклятья я слышу десятки раз на дню, они меня не трогают. Вспомни, что говорил Елифаз сетующему Иову: «Человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх». Я помогаю этим дурням быстрее обретать истинное счастье. Помогу и тебе, по своей святости ты тоже надеешься устремиться верх, верно?
Он подал знак, по которому подручники главного палача подкатили небольшой бочонок и прикрутили его к ногам Елизария. Зажгли фитиль и отбежали в стороны.
– Как ты себя чувствуешь, монах? – крикнул Наливайко из-за укрытия.
Елизарий повернулся, насколько позволяли верёвки, и плюнул в его сторону. Наливайко презрительно усмехнулся – это быдло весьма дурно воспитано, впрочем, теперь его воспитанием займётся сам Господь...
Грянул взрыв, на месте бочонка и сидевшего на нём Елизария осталась лишь воронка. Воздушная волна резко качнула повешенного дьячка и сорвала его с крюка. Бедняга лежал на снегу, корчась и стеная.
– Кто вешал? – спокойно спросил Наливайко. Палач бросился ему в ноги, прося о милосердии, он будто забыл, что такие просьбы только возбуждают его кровожадность. Наливайко обошёл вокруг, как бы раздумывая, потом выхватил саблю и нанёс точный удар – голова палача покатилась по снегу. А изверг тщательно протёр клинок и сделал на посохе свежую, первую за этот день зарубку, все остальные были не в счёт. Дьячка приказал повесить снова.
Так вот летели троицкие искры, иногда попадая на благодатную среду, а иногда сгорая сами по себе, но в отличие от обычных не бесследно, оставались в людской памяти.
Богат и славен был город Ярославль, по народному счёту, вторая Москва, а из-за ущербного нынешнего состояния столицы и того более – стал превосходить её всеми статьями, особенно по чужеземному представительству. Здесь нашли пристанище в эту зиму гости из разных стран, опасающиеся везти свои товары вглубь страны. Ярославский воевода Фёдор Борятинский был к горожанам жестокий, к начальству услужливый и всегда умел держать нос по ветру. Он одним из первых изъявил покорность и целовал крест на верность самозваному Димитрию, почему и был оставлен на воеводстве. Из Тушина пришёл огромный разноряд: собрать на войско 30 тысяч рублей, а опричь того, содержать в городе ещё тысячу литовских людей. Борятинский покряхтел, но приказ исполнил полностью, ещё и на подарки царику насобирал. За проявленную ловкость он надеялся теперь на высочайшее благоволение.
Вернувшиеся из Тушина похвалялись полученными царскими милостями и служили благодарственные молебны. Не радовался только купец Спотыка, оказавшийся по воле нелепого случая на приёме у царика в большом ущербе. До отъезда он рядился с Даниилом Эйловым о покупке его солеварен и теперь ожидал, что тот после полученных льгот наверняка поднимет цену. Такого бы и тыквенная голова не упустила, а хитрый немец тем паче.
На самом деле Эйлов был не немец, а голландец. Его отец приехал в Россию при Иоанне Грозном, имевшем привычку приглашать умелых чужеземцев для налаживания промыслов. Даниил родился уже здесь, крестился по православному обряду и по говору ничем не отличался от русского, разве что обличив имел гадкое: бороду носил, а усы и подбородок брил, такое вот чучело. И ещё – курил табак! Грех по тому времени страшный, за него в Москве резали нос и рвали ноздри. Зелье это считалось дьявольским, так и говорили: принёс бес табачное семя из глубины ада, посеял на могиле блудницы, иссушил взросшую ядовитую траву и отдал людям на самоистребление. Спотыка, как услышал про солевую льготу и прикинул, чем она ему обернётся, надумал сделать донос ещё в Тушино. Только тамошние приказные его не слушали и как бы в посмешку сами из срамных ртов дым выпускали. Тьфу! Пришлось возвращаться ни с чем, но надежды укорить удачливую немчуру он не терял, и воевода в том обнадёжил. У него, к слову сказать, к соляным промыслам был свой интерес.
В этот город Ярославль и пришёл старец Гавриил из Троицкого подворья. Он направился первым делом в Спасо-Преображенский монастырь. Братья приняли радушно, накормили, обогрели, только вот к судьбе Троицкой обители особого интереса не проявили. Причины равнодушия выяснились на вечерней службе, когда провозгласились «многие лета» царю Димитрию и царице Марине. Поднялся старец и пошёл прочь. Братья к нему: почто обижаешь? Это вы, говорит, обижаете, и не только меня, но всю православную веру. Враг по приказу Тушинского вора церкви грабит, на дом Троицы огонь пускает, а вы ему здравицу поёте. «Мы, что ж, нам владыка так велел», – оправдывались братья и уговаривали не уходить под ночь. Не послушал старец, оставил обитель и отправился куда глаза глядят. Дошёл до какого-то храма, сел на паперть и заплакал. Сколько неправедности видел в пути, грешил на чужеземцев да на мирян, отпавших по неведению от истинного Бога, а тут свои братья лукавят. По своекорыстию или ради покоя, но никак не по неведению.
На дворе мороз, одежонка на старце ветхая, прихожане стали останавливаться да расспрашивать, а когда узнали, что тот из Троицкой обители, вокруг образовалась целая толпа. У него от такого внимания и слёзы пропали, и голос окреп. Стал рассказывать про мужество защитников да разные чудеса, которые святые Сергий и Никон им посылают. Верить не верить, но то что обитель успешно противостоит многократно превосходящему врагу, уже само по себе настоящее чудо. Взяли добрые люди старца к себе в дом, наутро он на городском рынке говорил про то же, вечером его видели уже в солеварнях.
Солевары народ серьёзный. Их промысла долго не выдержать; отработав, уходили в деревни отсоливаться. Скоро, однако, возвращались снова, дома никак не усидеть, их потому так и дразнили: кукушкины дети. На самом же деле эти ребята были на редкость сплочёнными и отзывчивыми на беду, равно как на свою, так и на чужую. Уже знали они, что на ложного царя восстали Галич и Соль-Галицкая, что соседи-костромичи казнили четвертованием продажного воеводу Мосальского и целовали крест Василию. Слушали старца Гавриила, прикидывали: не пора ли нам и своему руки укоротить? Причины на то имелись особые. Шли разговоры, что воевода с помощью своего приятеля купца Спотыки хочет прибрать весь здешний соляной промысел. Ежели такое случится, то им жизни не станет ни при каком царе, ни истинном, ни ложном.
Тем временем воевода, узнав о появлении троицкого старца и его разговорах, приказал схватить смутьяна. Гавриила доставили в судную избу. Князь, мужчина видный, посмотрел с пренебрежением на маленького сморщенного старичка и спросил, позёвывая:
– Ты почто народ смущаешь?
– Я говорю правду, – смиренно ответил тот, – от неё не смущаются.
– А супротив царя Димитрия ты настраивал?
– То не царь, а нехристь, цари в Москве сидят, а не в воровских сёлах...
– Ну, будя, будя... – Борятинский шума не любил. Встал, потянулся и подошёл к пыточным орудиям. – Вот дыба, можно тебя вдвое растянуть, вот тиски, чтоб перста давить, эти для рук, эти для ног, но винт обчий, чтоб не мелочиться. Вот петля для сдавливания головы, от неё великое изумление получается, там разная мелочь. Большими орудиями более трёх раз пользоваться не разрешается, их, по правде говоря, столько никто и не требует, зато малыми, сколь хоть. Но тут опять же надо со смыслом: ежели глаз выдавить или ноздрю вырвать, то второй раз сам не станешь, зане сии не вырастают. Но ежели горящим веником по спине, то можно стебать, покуда мясо от костей не отстанет. Так с чего начинать?
– Ты меня не стращай! – вскричал старец. – Я столько страхов натерпелся, что все твои орудия – детские потешки. Умру за веру и истинного царя, а тебя и всех воров прокляну до скончания веков, чтоб вечно гореть вам...
– Ну, будя, будя, – снова прервал его Борятинский, – экий ты сердитый, поди-ка в холодную, поостынь малость.
Подумал, что со стариком нужно будет поговорить спокойно, тот много повидал и, может быть, наведёт на нужную мысль.
В тот же день прискакал от Сапеги воевода Константин Данилов и приказал именем своего гетмана собрать корм на тысячу ратников. Борятинский скрутил ему дулю и предъявил грамоту: гляди, сам царь повелел нашему городу делать дачи только на его имя, а на все прочие не делать. «Плевал я на эту грамоту и на твоего царя, – ответил ему Данилов, – потому как знаю одного своего начальника гетмана Сапегу. Что его милость приказал, то и сделаю». Борятинский послал за паном Козаковским, что остался постоем в городе со своими людьми. Послушай, сказал, как невежа на твоего государя лает, да укороти ему язык. Тот послушал и изрёк:
– Гетман Сапега – пан, гетман Рожинский – пан, а ваш царь – не пан...
Трёхмесячное пребывание в чужой стране и обильный корм позволили ему выучить несколько русских слов. Исчерпав свой подходящий случаю запас, он удалился восвояси – вот так, корм от города принимал, а защищать его голову отказался. Данилов приказал своим людям окрутить строптивого воеводу и отвезти в судную избу. И пришлось тому уже второй раз за день объяснять назначение пыточных орудий, но делать это уже менее спокойно. Данилову приглянулись тиски, я, сказал, человек не жадный, обойдусь тремя твоими перстами, чтоб впредь не крутил дули. Понял Борятинский, что дело принимает плохой оборот, и пал на колени:
– Помилуй меня, добрый господин, сделаю всё по хотению твоего гетмана.
Упросил всё-таки, лишний десяток обозов дешевле отдавленных пальцев.
Борятинский давно уже не испытывал такого позора и бесчестья. Собрал городских старост, глав гильдий, промышленников и объявил им о новом налоге. В ответ на возмущение так рявкнул, как никогда себе ранее не позволял. Горожане понимающе покачали головами – не иначе как жареный петух к воеводскому заду приложился. Что делать, власть доброй не бывает, придётся тужиться. Только Эйлов не мог смириться, на него по воеводской разнарядке более всех вышло.
– Тебе царских милостей много дадено, – объяснил воевода, – вот и отрабатывай.
– Кто их видел? Может быть, им цена такая же, как и твоей грамоте. Нет у меня таких денег, без ножа режешь...
– Ничё, ты вывёртливый, – успокоил его воевода, – а то нож купи, на него деньги, чай, найдутся. – Потом посуровел и добавил: – Если уж совсем нужда заест, продай солеварницы, я хорошего покупщика сыщу.
Ах, вон оно что! Эйлов сразу смекнул, в чём дело, и прикусил язык. Вернувшись к себе, вызвал приказчика. Он подтвердил: все деньги пущены в оборот, наличности никакой нет. Поинтересовался насчёт рабочих.
– Соболезнуют о твоей милости, – сказал тот, – и готовы постоять, хучь кайлом, хучь дрекольем.
Эйлов испуганно замахал руками:
– Что ты, что ты, этими не надо...
Тяжело вздохнул и отправился к немцу Шмитту просить денег в долг. Эйлов слыл честным человеком, немец долго не упрямился, лишь удивился сумме, она намного превышала то, что потребовал воевода. Впрочем, это не его дело, деньги он дал, хотя проценты наложил лихвенные. Эйлов отнёс деньги воеводе, а лишки отдал приказчику, чтоб распорядился по уговору.
– Я же говорил, что ты вывёртливый, – сказал Борятинский и непонятно как, в похвалу или в досаду.
Гетманский воевода уезжал довольный, на такой быстрый и благополучный исход он не рассчитывал. А немного отъехав из города, наткнулся на сильную засаду – что Эйлов вооружил своих рабочих закупленным на одолженные деньги оружием и добыл весь воровской обоз. Совет Борятинского насчёт покупки ножа пригодился, и не только его одного.
Победа наспех вооружённых неумельцев над грозным и казавшимся несокрушимым врагом вдохновила на дальнейшую борьбу. Возвращаться в город к тяжёлой изнурительной работе уже не хотелось, начали городить собственный острог и наскоро обучаться военному ремеслу. Разослали окрест гонцов с просьбой о помощи и поддержке, понимали, что дерзкое нападение не пройдёт даром, гадали только, от какого воеводы ждать грозы, своего или чужого.
Борятинский был в растерянности. По должности ему следовало прекратить бесчинства и разогнать смутьянов, но, с другой стороны, Сапегиным молодчикам досталось поделом, ведь они пришли своевольно и ограбили город вопреки царскому повелению. Поразмыслив, решил не суетиться и выждать, а троицкого старца на всякий случай выпустил – кто знает, как всё теперь обернётся? Зато Сапега, узнав о разгроме посланного отряда, не раздумывал. Вызвал Лисовского и приказал примерно наказать взбесившееся быдло, не стесняясь ни в средствах, ни в силах. Лисовский усмехнулся:
– Мне бойцы не надобны, своими обойдусь, а вот для холопского учения придётся казачков прихватить, они по этой части большие мастера.
– Бери, сколь считаешь нужным, – отмахнулся Сапега, – мы покуда здесь отдохнём.
Лисовский отобрал четыре свои хоругви, а к ним в придачу казаков да охочих детей боярских, кто притомился, сидя под крепостью, – всего около четырёх тысяч. Его отряд, чинно пройдя через послушные Переславль и Ростов, на Ярославской земле словно взбесился. Запылали деревни, грабежу и насилию подвергалось всё, что встречалось на пути. Заслоны, высланные восставшими, были сметены, пленных не брали. Любой человек с оружием или его подобием истреблялся без всяких разговоров. Подошли к выстроенному острогу. Мужикам сидеть бы в нём да стрелы пускать или из единственной пушки палить, ан нет, вытолпились в поле перед острогом. Был такой расчёт: как пойдут ляхи в атаку, они копьями ощетинятся, потом расступятся и под своих стрелков их подставят. По задумке всё ловко выходило.
Лисовский, как увидел, с каким врагом предстоит сразиться, расхохотался и решил провести не бой, а учение. Располовинил свои хоругви и выстроил в две линии с равными промежутками, как на тавлейной доске. Прочих разогнал в стороны, приказав смотреть и без команды не вмешиваться. Первая линия стремительно пошла в атаку. У мужиков копья короткие, чуть ли не вдвое меньше гусарских, только нацелятся на всадников, уж сами проткнуты насквозь. Гусары первой линии прошли через них, как нож через масло, расступаться даже не потребовалось, а у стен острога развернулись и назад. Да так быстро, что стрелки и выстрелить-то по-настоящему не успели. Обрадовались, подумали, что ляхи со страху побежали. Но тут в атаку двинулась вторая линия. Эти туда, те оттуда, каждый по своему промежутку и как только не схлестнулись! Вторая действовала тем же способом, а первая, взяв новые копья, снова двинулась вперёд. Так и шли они, волна за волной, понадобилось всего три прилива, чтобы неприятель в страхе рассеялся. Только теперь в дело вступили казаки, они стали гоняться за бежавшими и разить всех без разбора. Острог запылал, всё было кончено за какие-нибудь полчаса.
Лисовский направился к Ярославлю, сжигая по пути всё, что ещё уцелело от огня. Смутьянов, собравшихся в самой большой солеварне, велел окружить, а солеварню поджечь, там их сгорело более тысячи человек. Прибыл испуганный Борятинский, Лисовский слушать его не стал, указал на страшное пожарище и сказал, что так же надобно поступить со всеми мятежниками. Воевода поспешил исполнить приказ, одним из первых запылал дом Эйлова. Бедняга вместе с тремя дочерьми спрятался в погребе, там бы, верно, и задохнулся. Выручил Шмитт, испугавшийся за жизнь должника. Прибежал к Лисовскому, стал молить за иностранца и золото посулил. Лисовского мольбами не проймёшь, а золото другое дело, сговорились на шестистах талерах и вынули Эйлова из погреба. Спотыка посмотрел на вымазанного сажей голландца и заулыбался:
– Т-теперь т-тебе самый резон в угольщики п-подаваться, б-более торговать нечем. К-как расплачиваться с-станешь?
– Для тебя у меня плата давно готова, – сказал спокойный Эйлов и приложил свой дюжий кулак к его улыбке. Новая родина научила его не только языку, но и тому, как надо разговаривать с негодяями.
На призывные грамоты ярославцев откликнулись галичане и костромичи, выславшие им на помощь объединённое ополчение. Его основу составили малоопытные вояки – мужики да ремесленники. Правда, были там ещё и дети боярские, которые присоединились к ополченцам, устрашившись расправой над костромским воеводой. Так рассчитывали они заслужить благоволение новой власти, но народ это был малонадёжный, а как услышали о зверствах Лисовского, ни о какой битве с ним уже не помышляли. Лишь только увидели изготовившихся к бою ляхов, сразу повернули оружие против своих. Участь объединённой рати решилась ещё до первого вражеского выстрела. Лисовский даже не стал рисковать своими воинами, выпустил вперёд казаков, а уж эти натешились вволю. Волжские берега на подступах к Ярославлю усеялись сотнями трупов, тех же, кому не посчастливилось пасть в честном бою, ловили и спускали в проруби, их делали через каждые десять саженей и забивали до отказа.
Не предвидя более больших сражений ввиду истощения сил восставших, Лисовский разделил своё войско. Сам двинулся к Костроме, и славный город был принуждён покориться. За ним последовал Галич, подвергнувшийся пожару и великому разграблению. Злодей-воевода, перегруженный добычей, напоминал пса, обожравшегося на кровавой тризне и еле-еле волочащего набитое брюхо. Далее идти уже было невмоготу, он просто потребовал денег от ещё не разорённых городов и те, устрашённые расправой над соседями, вынужденно откупались. Другая часть его войска отправилась в мятежную Угличскую землю. Привела в покорность тамошние города и сам Углич, куда был поставлен новый воевода Сырцов. Угличане мрачно шутили: «Не беда, что сырой, один уже погорел и ему не миновать». Угроза имела основание, ибо люди, преодолевшие первый страх перед доселе неколебимым врагом, обрели уверенность и не собирались возвращаться к прежнему рабскому послушанию. Многие отошли на север и готовили силы для новой войны.
Разорённый край недолго пребывал в кладбищенском покое. Как только Лисовский убрался восвояси, поднялось Пошехонье, его примеру последовала Устюжна, принявшая к себе не покорившихся угличан. В их числе находился и Селевинский отряд. Устюжане, поцеловавши крест на верность Василию Шуйскому, присудили миром собрать по двадцать человек с каждой сохи, пеших и конных, с оружием и кормом, а началовать поставили избранного воеводу Андрея Ртищева. Узнавши о таком своеволии, на Устюжну двинулся воевода Сырцов. Ртищев вышел ему навстречу. К сожалению, наскоро собранное мужицкое войско проявило большую неумелость в полевом сражении и преградить путь Сырцову не смогло. 5 января 1609 года он подошёл к Устюжне.
Маленький безвестный городок, затерянный в северных дебрях, на что рассчитывал он со своими неумельцами, не имея ни пушек, ни защитных сооружений, кроме полусгнившего деревянного огорода? Верно, как и в Троице, ему была обещана высокая защита. Сказывают, пономарь церкви Рождества Богородицы услышал глас: «Не устрашайтесь, православные, не отпадайте, не дам дома своего на разорение иноплеменным». Горожане, уверовав в такое заступничество, встали как один и отразили приступ, так что Сырцову ничего не оставалось, как обратиться в Тушино за подкреплениями. Защитники, воспользовавшись передышкой, даром времени не теряли, принялись поновлять стены, укреплять посад, прорыли ров, вколотили надолбы. Ананий, встав к кузнечному горну, наделал своих знаменитых каракуль. Нашлись умельцы, сумевшие отлить несколько пищалей, благо необходимое для того железо имелось в избытке – Устюжна им промышляло, оттого и звалась Железнопольской. Одно плохо, не было пушечного зелья, но за ним послали срочных нарочных в Новгород.
Тем временем из Тушино прибыл сильный отряд под началом панов Петрицкого и Казановского. Враги подступили к посаду, сожгли его и на рассвете 4 февраля двинулись на приступ. Шли с деревянными щитами и возами, нагруженными соломой и серой, их намеревались подкатить к стенам и поджечь. Главный удар направили на Дмитровские ворота. Священники вынесли к ним икону святого Димитрия, причём уверяли, что когда пришли за нею, икона сама двинулась со своего места и встала посреди церкви. Появление её на стенах так вдохновило устюжан, что они дружно отбили приступ. Затем сделали вылазку, в которой участвовал Селевин со своими людьми, побили множество ляхов, отняли у них пушку и взяли в плен пушкаря по имени Капуста. Пленили вовсе не из человеколюбия; приведя его в город, казнили перед всем народом лютой казнью, голову воткнули на высокий, обуглившийся от пожара ствол дерева и повернули в сторону неприятеля – глядите, дескать, что вас всех ожидает. Обозлённые ляхи, усиленные ещё одним отрядом, предприняли новые попытки овладеть городом. Приступы следовали один за другим, враги палили из пушек, метали зажжённые стрелы, лезли на стены, горожане отбивались чем могли, а копившихся по стенами угощали кипятком с калом. Под конец, когда уже совсем изнемогли, на стенах при полном колокольном звоне появилась икона Богоматери, вдохнувшая в защитников новые силы. Уже совсем не думая о своих жизнях, не ведая, правильно это или нет, сошли они со стен и двинулись на врагов, и те, устрашённые такой несокрушимостью, в страхе отступили.
Так совершился поистине народный подвиг, в котором нельзя кого-либо выделить особо. Героями были все. Память о них, безымянных, хранится в преданиях и скупых летописных упоминаниях. А сколько таких, которые, не имея своих добрых летописцев, ушли в небытие, свершив ещё большие чудеса!
Ананию Селевину и его другу посчастливилось уцелеть в том славном деле. И чем громче слышалось вокруг ликований по поводу одержанной победы, тем чаще мысль Анания обращалась к оставленной дорогой могиле и старым троицким товарищам. Как там у них дела? Антип тоже почувствовал какое-то беспокойство, приснилась ему Дуня, простирающая руки и молящая о помощи. Мёртвые и живые призывали своих защитников, раз так, надобно возвращаться. Друзья обнялись на прощание. Антип надел на шею Анания литой бронзовый крест, на одной стороне распятый Христос, на другой Богоматерь, и сказал:
– Не смущайся тяжестью, он заговорён и защитил уже не одну грудь, всегда носи на битву и дальнюю дорогу.
Ананий вынул из тряпицы небольшую иконку и протянул её другу. Глянул Антип – это Николай Чудотворец с поднятой рукой, как бы благословляющий на новые чудеса.
Так одарили они друг друга по сердечному велению, а дружеское сердце не ошибается никогда.