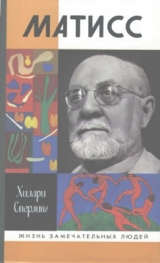
Текст книги "Матисс"
Автор книги: Хилари Сперлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Глава пятая.
ДИКИЙ ЗВЕРЬ.
1905–1907
В мае 1905 года, как только закрылись Салон Независимых и выставка у Берты Вейль, Матисс с друзьями отправились на юг. Мангены сняли виллу в Сен-Тропезе, к ним присоединились Марке и Камуэн, а Матиссы проследовали дальше на запад и остановились у Берты в Перпиньяне. Оставалось еще совсем немного до конечной точки назначения. Последний этап путешествия Анри Матисс проделал в одиночестве и проехал еще 24 километра вдоль побережья по железной дороге, огибавшей Восточные Пиренеи. 16 мая он прибыл в Каталонию, живописную горную область, которую после долгих споров поделили между собой Франция и Испания. «Совершенно неожиданно, когда из скалистого коридора вы попадаете на гребень холма, перед вами открывается Кольюр! Залитый светом, окруженный выжженными холмами предгорья, сверкающий охрой и красными красками на изгибе небольшого залива, – писал современник, путешествовавший на том же поезде, что и Матисс. – Так это все еще Франция или уже Африка с зарослями агав и пальмами, разбросанными там и сям среди садов?»
Этот участок побережья Каталонии и в самом деле был местом, где Франция тесно соприкасалась с Северной Африкой. Следы мавров здесь были повсюду: от конструкций домов – темных, почти лишенных света «пещер», закрытых ставнями от солнца, до осыпающихся городских укреплений и оранжево-розовой колокольни (мгновенно узнаваемой на многих полотнах Матисса). Банановые и финиковые пальмы росли здесь рядом со смоковницами, апельсиновыми и лимонными деревьями. Весной в тенистых низинах пышно цвели гранаты, персики и вишни. Буйная зелень виноградников террасами спускалась по склонам гор, а рядом на холмах цвели белые асфодели. Сам городок с голубовато-розовыми, красными и желто-оранжевыми домиками амфитеатром раскинулся между морем и горами. Туристы в Кольюр приезжали редко, но те немногие, кто побывал здесь, единодушно признавали, что секрет этого места заключается в его свете и красках. «В утренней прохладе, – писал местный виноградарь Поль Сулье, – в тени больших деревьев вашему взору представало невероятное изобилие… огромные корзины с вишнями, пирамиды персиков, горы абрикосов; ярко-красные помидоры и бледно-желтые огурцы добавляли яркие штрихи в общую палитру… Тележки, полные апельсинов, вываливались в корзины разной величины, и золотые шары перемешивались с белыми и сиреневыми баклажанами, похожими на громадные яйца какой-то неведомой птицы». «Интерьер с баклажанами» 1911 года – одна из самых необычных и великолепных картин Матисса того периода, когда художник «рисковал» более чем когда-либо, – был создан как раз после покупки трех баклажанов на рынке в Кольюре. Да и знаменитая картина «Радость жизни» («Bonheur de vivre») обязана своим названием каталанской поговорке «Хороша жизнь в Кольюре!» («A Cotllioure fa bon vivre!»).
Матисс оказался первым художником, остановившимся в кольюрской гостинице (к слову сказать, единственной в городе). Говорившие по-каталански местные жители, зарабатывавшие на жизнь рыбной ловлей, относились к чужакам настороженно. До тех пор, пока через город не провели железную дорогу, они вообще почти не имели контактов с миром «за горами». Бледнолицый, голубоглазый, рыжеволосый северянин, сошедший с поезда в Кольюре без видимой причины, автоматически вызывал подозрение. Однако владелица «Отель де ла Гар» вдова Паре, известная всем как мадам Рузетт, сделала для Матисса исключение. Уж слишком серьезным и солидным выглядел этот странный господин. Через несколько дней месье Анри не только обустроился сам, но и поселил этажом выше свою семью.
Жизнь в городке была простой, скромной и дешевой. Большинство обитателей Кольюра жили впроголодь, как и Матиссы, которым пришлось задержаться в Перпиньяне в ожидании платежа от Берты Вейль. Совершенно отчаявшись, Матисс умолил помочь Мангена, который прислал сто франков; Камуэн, чьи работы наконец начали продаваться, тоже послал все, что смог. В июне Вейль наконец перевела на счет Матисса пятьдесят франков. Одну его картину собиралось купить государство, но оплата, как обычно, откладывалась на неопределенное время. Впрочем, даже такие скромные и нерегулярные поступления позволяли жить в Кольюре вполне сносно. Художник был ненамного богаче здешних рыбаков, заработок которых из-за недавнего падения цен стал неслыханно низким – примерно один франк в день.
Первое, что сделал Матисс на новом месте, это арендовал комнату под мастерскую в доме над кафе «Оло» с видом на Порт-Аваль – или Порт-Абайль, как произносили это название местные жители, – самый дальний из трех городских пляжей. Вся жизнь порта была сосредоточена на каменистом берегу, куда весь Кольюр по утрам выходил встречать рыбацкие шхуны, возвращавшиеся с уловом домой. Прямо на берегу возникал шумный рыбный рынок со скандалами и перепалками, напоминавшими настоящее театральное представление; затем рыбаки расходились по домам – готовиться к следующему ночному лову. И все это происходило прямо под окном Матисса, который рисовал рыбацкие шхуны с парусами, свисающими с нок-реи, а потом рисовал их же, но уже со свернутыми парусами; рисовал скользящие над волнами шхуны с грациозными треугольниками парусов или эти же шхуны, уменьшавшиеся до едва различимых точек на горизонте, когда флотилия приближалась к месту лова. Он зарисовывал рыбацкие сети, разложенные для просушки, а несколько часов спустя рисовал и хозяев этих сетей, несущих их на плечах домой, чтобы отдохнуть перед ночным походом. Матисс был настолько наблюдателен, что любой рыбак мог назвать время дня, а иногда даже час, когда был сделан каждый из рисунков. Тележки и ослы, женщины, чинящие сети, курящие рыбаки, сидящие или работающие на берегу, – все это было изображено с точностью, восходящей к детству Матисса на улице Пе д'Эз в Боэне. Все эти персонажи появятся на картине «Порт-Абайль», написанной в его парижской студии той осенью и ознаменовавшей окончательный разрыв с дивизионизмом, разочаровавший многих.
Кольюрский альбом с зарисовками был целиком посвящен людям, жившим и работавшим на берегу моря еще со времен античности. Много лет спустя Матисс говорил своему зятю, что именно эти зарисовки вдохновили его на создание «Танца» – огромного фриза со скачущими красно-алыми фигурами на гладком зелено-голубом фоне, потрясшего художественный мир Парижа в 1910 году. Он вспоминал, что писал панно сильно согнувшись, готовый в любой момент подпрыгнуть, как каталанские рыбаки в танце, «куда более неистовом, чем сардана»[71]71
Сардана (sardane) – катапанский народный танец.
[Закрыть] (увидев их хоровод однажды ночью на пляже, он не выдержал и тоже пустился в пляс). Кольюр дал Матиссу ту свободу, какую он впервые испытал в Аяччо. Здесь отсутствовали указующий перст цензоров и предвзятое мнение о живописи, омрачавшие его работу в Боэне. Семья жила по раз и навсегда заведенному распорядку, где все вращалось вокруг его работы. С той лишь разницей, что каждый день они шли купаться на галечный пляж в бухте Уиль, находившейся в получасе ходьбы. Матисс был в соломенной шляпе, рубашке с короткими рукавами и брюках, закатанных до колен, а Амели – в японском кимоно (именно в этом наряде, босиком, она позировала ему). Невысокие холмы, мимо которых они проходили каждый день по берегу вдоль мыса, постоянно появлялись на полотнах Матисса, так же как и укрытый от ветров пляж в тихой бухте Уиль, ставший фоном для «Радости жизни». Когда жара загоняла его в дом, Анри писал вид, открывавшийся из окна мастерской. В картине «Открытое окно. Кольюр», возможно, ярче всего выразилась убежденность Матисса в том, что живопись открывает доступ в иной мир, таинственный проблеск которого он впервые увидел в открытой двери темной конторы присяжного поверенного на Севере.
Взрослые чувствовали себя в Кольюре свободными, так же как и их сыновья (дочь была отправлена к родителям Матисса в Боэн), которые бегали, ловили рыбу, взбирались на скалы вместе с деревенскими мальчишками, не чувствуя никакой разницы, ведь их родители так же много работали и так же скромно жили, как рыбаки и их жены. Амели, робко появлявшаяся в картинах семилетней давности, написанных на Корсике, стала теперь одной из главных героинь мужа, а вдохновляемые ею образы – все более и более смелыми. Один из ее портретов – полуабстрактная композиция из оранжевого и фиолетового, изумрудно-зеленого и красного – шокировал современников Матисса. Над головой Амели вздымалась сине-черная масса волос, а лицо было рассечено широкой зеленой полосой, что и дало название картине – «Зеленая линия». «Он вынуждает вас видеть ее в странном и пугающем ракурсе», – написал американский журналист в 1910 году о портрете жены художника.
С годами модели художника не будут выглядеть такими испуганными, как Амели в «Зеленой линии» (резкий изгиб бровей, решительный подбородок и высоко взбитый шиньон). «Матисс знал, как вызвать у людей страстный интерес к своей работе, – говорила Лидия Делекторская, бывшая спутницей Матисса последние двадцать лет его жизни. – Он умел завладеть людьми и внушить им убежденность, что они незаменимы. Так было со мной, и точно так же было с мадам Матисс». Темп изобразительных экспериментов художника ускорялся до тех пор, пока ему не стало казаться, что он теряет всякий контроль над тем, что пишет. И тогда Анри понадобилась помощь Амели, в которой он нуждался теперь, как никогда прежде. Три с половиной месяца, проведенные в Кольюре в 1905 году, превратились в настоящий кошмар. «Ах, каким же несчастным был я там!» – говорил он, с ужасом вспоминая дни сомнений и бессонные ночи. Зато Амели выглядит на написанных им в Кольюре холстах мужественной и уверенной, ведь в действительности она и была его оплотом и защитой.
Нельзя сказать, впрочем, что проблемы появились сразу. Лето началось довольно безобидно – со знакомства с местными художниками. Их было здесь совсем немного, и жили они довольно разобщенно, но все как один жаждали узнать последние парижские новости. Первым появился Этьен Террюс, которому ничего не стоило прошагать семь миль от своей родной деревни Эльн. В течение следующих десяти лет Террюс станет самым близким из всех друзей, которых Матисс обрел в Каталонии. Вместе они бродили по Пиренеям, и Этьен успокаивал Анри, когда того охватывала тревога. Грубоватый, коренастый, прямолинейный Террюс смело и довольно искусно писал акварелью побережье и горы. Он был холостяком и жил аскетом в доме брата, куда часто приглашал знакомых художников пообедать на террасе перед его мастерской. С тех пор Матиссы станут частыми гостями Террюсов в Эльне, на вершине римского крепостного вала, откуда открывался вид на море и гору Канигу.
Вместе с Террюсом Матиссы съездили в Баньюль (находившийся в двух остановках по железной дороге от Кольюра), где друг Террюса, скульптор Аристид Майоль[72]72
Аристид Майоль (1861–1944) – французский скульптор.
[Закрыть], 22 мая устроил в честь Матисса обед. Майоль по-прежнему жил над портом, где и родился, – в розовом доме, окруженном огромными соснами и спускающимся вниз заросшим садом. Невысокий, плотный, с густыми бровями и бородой, Майоль выглядел словно сошедшим с фронтона греческого храма. Да и одевался он соответственно – холщовые туфли на веревочной подошве, как у актеров древнегреческой трагедии, грубый хитон. Майоль, как и его гость, учился в Париже у Антуана Бурделя и в день приема в честь Матисса трудился над маленькой глиняной фигуркой обнаженной женщины, которая со временем превратится в совершенную бронзовую статую «Средиземное море» («La Méditerranée»). По словам Майоля, он никогда не смог бы ее сделать без помощи Матисса. Матисс год спустя тоже вылепил несколько небольших глиняных фигурок. В их основе явно лежал баньюльский оригинал, однако присутствовала совершенно чуждая Майолю напряженность. «Скульптура Майоля обладает зрелостью спелого плода, к которому хочется протянуть руку и прикоснуться», – говорил Матисс об искусстве Майоля, столь отличном от его нервной и агрессивной манеры работать с глиной. Ведь именно Майоль блистательно воссоздал во Франции XX века равновесие и гармонию античной Греции. «Мы никогда не обсуждали скульптуру, так как не смогли бы понять друг друга. Майоль работал объемами, подобно античным мастерам, я же как художники Возрождения – арабесками. Майоль не любил рисковать, а я имел к этому склонность».
В тот день один из гостей Майоля «увлек» Матисса в новое рискованное путешествие. Это был художник Даниэль де Монфред, один из ближайших друзей Поля Гогена, и он пригласил Анри к себе в гости. В июне Матисс поехал посмотреть вырезанные из дерева и раскрашенные скульптуры Гогена, которые сам художник прислал Даниэлю де Монфреду четыре года назад с Таити. Матисс уже видел гогеновскую живопись в коллекции Гюстава Файе[73]73
Гюстав Файе (1885–1925) – коллекционер работ Дега, Мане, Писсарро, но в первую очередь – Поля Гогена; художник. В 1908 году купил Аббатство Фонтфруад (около Нарбонны), которое реконструировал и в котором выставил свою коллекцию.
[Закрыть], виноградаря из Безье, с которым он, Монфред и Майоль познакомились этим летом. Но к впечатлению, которое произвели на него грубые, первобытные скульптуры Гогена, совершенно не был готов. Ни один европеец не создавал ничего подобного прежде. Матисс был потрясен.
Как живописец, Матисс уже нарушил все традиционные методы работы, когда начал изображать ущелья, скалы и море порывистыми разноцветными мазками. Где-то в середине лета он почувствовал симптомы надвигающейся тревоги. Из страха остаться со своими проблемами один на один он написал старым товарищам по Сен-Тропезу – Мангену, Марке и Камуэну, – умоляя присоединиться к нему в Кольюре. Но никто не откликнулся. 25 июня он отправил взволнованную открытку Андре Дерену, который в отличие от них ответил сразу же. Дерену в июне исполнилось двадцать пять, и он был многим обязан Матиссу. Матисс приводил к нему в мастерскую знакомых, помогал на протяжении всех трех суровых лет службы в армии; благодаря ему Дерен в этом году впервые участвовал в Салоне Независимых и продал Воллару почти все, что было у него в мастерской. Матисс ездил к его родителям в Шату, чтобы убедить их позволить сыну стать художником (Матисс для солидности взял с собой жену, и они с Амели принарядились, чтобы выглядеть респектабельными буржуа). На Дерена-старшего приезд супругов Матисс произвел такое впечатление, что он выделил Андре тысячу франков, на которые тот и отправился в Кольюр.
Дерен появился 7 или 8 июля, вызвав настоящее замешательство в «Отель де ла Гар», где никто не знал, как вести себя с этим долговязым парижским денди. «Он выглядел как великан, тощий, одетый во все белое, с длинными тонкими усиками и кошачьими глазами, в красной каскетке на голове, – так описал его Матье Мюксарт, посыльный отеля, которого отправили на станцию за багажом Дерена. – Моя тележка была доверху заполнена его дорожными сундуками, чемоданами и большим зонтом от солнца – большим, чем зонт у таможенного офицера»[74]74
Под такими зонтами из синего хлопка, защищавшими от солнца и дождя, стояли таможенники, высматривая в горах контрабандистов.
[Закрыть]. Подобно всем, впервые оказывавшимся в Кольюре, Дерен был сражен обилием света и красок. «У здешних обитателей бронзовые лица и кожа от загара цвета хрома – желтого, оранжевого, темно-коричневого; бороды иссиня-черного, – писал он, беспорядочно излагая впечатления своему другу и соратнику Морису Вламинку[75]75
Морис де Вламинк (1876–1958) – французский живописец.
[Закрыть]. – Женщины с грациозными движениями, в черных жакетах caracos и мантильях, красно-зелено-серая керамика, ослики, шхуны, белые паруса, разноцветные лодки. И этот свет, бледно-золотистый, стирающий тени. Работа предстоит адская. Все, что я делал до сих пор, кажется мне бессмысленным и глупым». Больше двух месяцев Дерен заваливал Вламинка письмами, в которых необычайно живо описывал, как они с Матиссом очарованы здешним светом, что тени здесь исчезают и они капитулируют перед цветом во имя его спасения.
Гостиница, в которой жили художники, стояла за железной дорогой, в самом начале недавно проложенного шоссе, довольно далеко от шума и суеты порта. Оба работали неистово. Часто их мольберты стояли совсем рядом и они писали любимый обоими вид на крыши или на скалы Уиля (где Дерен написал Амели, позирующую мужу). Вечерами они рисовали друг друга, не обращая внимания на завсегдатаев гостиничного бара, а потом тащили холсты и краски на чердак. Парадоксальное чувство юмора, энергия и напор, неожиданные переходы от грусти к искрометной радости делали Дерена неотразимым. Тем летом он покорил всю семью Матиссов: плавал, рассказывал истории, смеша детей (Пьер, обожавший Дерена, все время сидел на его плечах) и веселя их мать своим мальчишеским азартом. В июле Матиссы переехали поближе к порту, сняв у Поля Сулье верхний этаж просторного семейного дома, стоявшего прямо на пляже Борамар. Дерен теперь приходил туда, и они вместе работали в новой мастерской Матисса.
На многих написанных ими в то лето картинах был изображен вид на море или гавань со старинной колокольней, открывавшийся через окно мастерской. Стояла невыносимая жара. Свежий взгляд молодого друга и чутье живописца вновь, как и три года назад в Лувре, подталкивали Матисса к решительным действиям. Своими сомнениями он поделился с Синьяком, хотя сделать это ему было непросто. Он писал, что завидует его уверенности в избранном пути и сожалеет о неразрешенном конфликте между ними по поводу «Роскоши, покоя и наслаждения»; писал о своих опасениях в связи с новой картиной «Порт-Абайль», которую собирался писать в дивизионистской манере. Это письмо обнажило все его метания и неспособность долее подчиняться строгим правилам теории Синьяка. Как бы Матисс ни любил «отца-основателя» дивизионизма и как бы ни восхищался им, он готовился не только выбросить за борт весь его теоретический багаж, но и кинуться в непокорную стихию следом за ним. Сомнений в его решимости больше не было. Однако более нетерпеливый Дерен, относящийся ко всему не столь трепетно, как Матисс, «прыгнул» первым. К концу июля он торжествовал, полагая, что сумел истребить из своей живописи все следы дивизионизма. «Ночь светла, день ярок и всепобеждающ, – весьма образно писал Дерен 1 августа. – Свет испускает повсюду мощный вопль победы». Сталкиваясь с этим светом на своих холстах, Дерен и Матисс чувствовали себя то победителями, то побежденными. Матисс даже попросил Синьяка прислать ему ободряющие слова Сезанна о примирении линии и цвета (опубликованные в интервью, так бурно обсуждавшемся в Сен-Тропезе в прошлом году). Когда переписанная рукой Синьяка цитата дошла до Кольюра, адресату показалось, что его благословляет сам Сезанн: «Линия и цвет не противостоят друг другу… Когда цвет достигает наибольшей яркости, форма приобретает наибольшую выразительность».
Творческий кризис продолжался у Матисса все лето. Он метался в разные стороны. Вдруг поверил, что ему сможет помочь дивизионизм, но на этот раз обратился за поддержкой не к Си-ньяку, а к Анри Кроссу, который давно предсказал, что решение всех проблем Матисса кроется в нем самом. Кросс был очень плох: ревматизм поразил его левый глаз, и по настоянию врачей, предрекавших полную потерю зрения, вынужден был весь день находиться в полутемной комнате. Матисс, узнавший о плачевном состоянии Кросса от Марке, отправил в Сен-Клер этюд с пурпурными, золотыми и малиновыми тюльпанами (в апреле Матисс подарил Кроссу пейзаж, а тот прислал ему охапку тюльпанов) и в ответ получил благодарственное письмо, написанное Ирмой Кросс, так как писать сам ее муж уже не мог. Весь июль и август, пока его краски яростно горели на холсте, пламенея странным внутренним светом, Матисс исправно посылал отчеты о своей работе в Кольюре Кроссу, лежавшему с повязкой на глазах в темной комнате в Сен-Клере.
В том, что происходило с ним и Дереном тем летом, говорил потом Матисс, было нечто жуткое, даже демоническое. Он рассказывал Бюсси, что цвет высвобождал в них какую-то колдовскую энергию. «В ту пору мы напоминали детей, оказавшихся лицом к лицу с природой, и дали полную волю нашему темпераменту… Я из принципа отбросил все, что было раньше, и работал только с цветом, повинуясь движениям чувств». Но это длилось недолго – Матисса испугало разрушительное неистовство собственного освободительного инстинкта. Кросс (у которого осенью, к счастью, восстановилось зрение) пытался вселить в Матисса уверенность, убеждал его поверить в себя и не считать изменником по отношению к бывшим соратникам («Именно моя горячая любовь, мое страстное стремление к свободе заставили меня в прошлом году предсказать: “Очень скоро вы распрощаетесь с дивизионизмом”»). Спустя сорок лет Дерен скажет зятю Матисса Жоржу Дютюи, что огульное разрушение всех табу оказалось для них с Матиссом тяжелым испытанием: «Мы уже не могли отступить назад, чтобы взглянуть на все происходящее со стороны и выждать. Краски превратились для нас в заряды динамита. Они были готовы взорваться ослепительным светом». А Дютюи, в свою очередь, напишет, что кольюрские картины возникли в атмосфере нестерпимого напряжения и бессонных ночей, исполненных «отчаяния и панического страха».
Матисс написал Дерена в то кольюрское лето: худощавое молодое лицо с черными дырами-глазами и свисающими усами, окаймленное расходящимися во все стороны мазками лимонно-желтого, бирюзового, вишнево-красного и светло-голубого. Дерен, в свою очередь, писал Матисса не меньше трех раз. Самый большой, довольно традиционный по цвету (за исключением зеленой тени, похожей на синяк, вокруг одного глаза) портрет он подарил Амели. На нем он изобразил Матисса в очках в золотой оправе, курящим трубку, мудрым и надежным старшим товарищем, способным внушить доверие таким людям, как его собственные родители. Но Дерену был знаком и иной образ друга – мятущийся, беспокойный. Таким он предстает на другом портрете (написанном настолько легко, что тело художника едва проявляется на холсте): испачканная красной краской рука, сжимающая кисти, белое лицо и большое красное пятно вокруг шеи, больше похожее на окровавленный бинт, чем на бороду. Этот портрет одержимого, если не вовсе выжившего из ума художника, Матисс хранил до конца своих дней. Дютюи вспоминал, что напряжение, в котором летом 1905 года находился Матисс, передалось его близким, тоже оказавшимся на грани нервного срыва: «Постоянные дурные предчувствия, донимавшие художника, – выглядевшего при этом таким рассудительным и спокойным, что местные прозвали его “доктором”, – бросали его в дрожь. В течение нескольких лет, когда Матисс впадал в такое состояние, он проводил без сна целые ночи, ночи отчаяния и панического страха». Матисс больше никогда не освободится от мучительной бессонницы, настигшей его в Кольюре; ночи, во время которых Амели читала ему вслух порой до самого рассвета, казались бесконечными.
Сегодня довольно трудно понять, как новая живописная трактовка света и цвета в нехитрых сценах повседневного приморского быта – виднеющихся за горшками с алыми геранями на подоконнике рыбацких шхунах или сидящей на скалах босой Амели, завернувшейся в полотенце, – могла показаться и самому «нарушителю спокойствия», и публике посягательством на основы цивилизации. Но Матисс и в самом деле не просто отбросил перспективу, упразднил тени и отверг академическое разделение линии и цвета. Он попытался ниспровергнуть тот способ видения, который был выработан и принят западным миром веками, еще со времен Микеланджело и Леонардо, а до них – мастерами античной Греции и Рима. Иллюзию объективности прошлого он заменил сознательной субъективностью – это было уже искусство XX века, принявшее за основу визуальные и эмоциональные реакции самого художника.
Он делал это, следуя принципам, которые уже наличествовали в самой его первой картине, написанной во время службы в конторе присяжного поверенного в Боэне: «Рассматривая свои ранние работы… я обнаружил в них нечто общее, что сначала принял за повторение, привносящее в мои полотна некоторое однообразие. На самом же деле это было выражение моей индивидуальности, проявлявшейся независимо от того, в каком состоянии я писал». Неистовое стремление разобраться в собственных мрачных мыслях и инстинктах порой походило на безумие. Матиссу иногда казалось, что сверкающие краски в конце концов ослепят его, как Кросса. После двух лихорадочных месяцев в Кольюре он больше никогда не работал с Дереном. Молодой, дерзкий Дерен первым откликнулся на призыв Матисса и приехал к нему; он придал Матиссу храбрости, но одновременно позаимствовал у старшего товарища мужество, в котором оба так нуждались, оставаясь один на один с холстом. Тому и другому нужно было сделать еще один, последний шаг – от старого мира к новому.
Матиссы вернулись домой в начале сентября. По дороге они остановились в Перпиньяне, чтобы оставить у Парейров Пьера. Отныне у них было заведено, что Берта с учениками или родителями приезжала на несколько дней к Матиссам в Кольюр, а кто-то из маленьких Матиссов в конце лета отправлялся в противоположном направлении. Пьер был астматиком и не одну зиму провел в Перпиньяне. Маргерит же из-за поврежденной гортани родители боялись надолго отпускать, и зимой она обычно возвращалась на набережную Сен-Мишель, а к бабушке в Боэн вместо нее уезжал Жан. Родители поддерживали семейство сына еще и продуктами: дважды в месяц Анна Матисс отправляла в Париж корзины со свежей провизией. К сожалению, Ипполит Анри по-прежнему не желал признавать поражение в битве со старшим сыном. Матисс рассказывал, что все их общение с отцом сводилось к двум фразам: «“Ну что, в Париже все нормально?” – “Да”. И это было всё!» Однако без поддержки и тех и других родителей – как материальной, так и моральной – семья художника едва ли пережила бы годы нищеты и полной безысходности.
Из Кольюра Матисс привез пятнадцать холстов, сорок акварелей и сто рисунков. «Матисс и Дерен сделали потрясающие вещи», – сообщил Марке Мангену 8 сентября. Через неделю Матисса посетил друг Синьяка Феликс Фенеон[76]76
Феликс Фенеон (1861–1944) – художественный критик, эссеист, анархист; с 1906 по 1925 год являлся арт-директором галереи Бернхем-Жён. Фенеону принадлежит термин «неоимпрессионизм», который он ввел в 1896 году для того, чтобы отличать творчество Сера от импрессионистов.
[Закрыть], пользующийся в Париже репутацией ценителя современного искусства. Мастер открывать новые таланты, Фенеон собирался создать отдел современной живописи в респектабельной галерее братьев Бернхем[77]77
Речь идет о галерее сыновей Александра Бернхема (1839–1915), открывшего в 1863 году свою галерею на улице Лафитт. В 1908 году его сыновья Жосс (1870–1941.) и Гастон (1870–1953) основали собственную галерею на бульваре Мадлен, которая в начале XX века стала одним из центров пропаганды искусства мастеров парижского авангарда. Братьев, в отличие от их известного отца, обычно именовали Бернхем-Жёнами, то есть Бернхемами-младшими, равно как и их галерею – «галерея Бернхем-Жён».
[Закрыть]. Что он и сделает, став единственным из арт-дилеров, который никогда не подведет Матисса. «Фенеон, как настоящий анархист, поместил картины Матисса в запасники Бернхемов, как закладывают бомбы», – писал Морис Будо-Ламотт.
Пока, впрочем, финансовое положение Матисса снова было критическим. Он принял предложение Эжена Дрюэ, бывшего владельца бара, а ныне процветающего – не более чем Берта Вейль – галериста, устроить весной 1906 года ему вторую персональную выставку. От Воллара (который заплатил той осенью Дерену 3300 франков и активно продолжал покупать работы Мангена и Марке) никаких предложений не поступало. Все благие намерения привезти из Кольюра картины, которые будут пользоваться спросом, оказались тщетными. Последние три года Матисс держался продажей старых работ, но запас написанных в традиционной манере пейзажей, этюдов с цветами и натюрмортов иссякал. Положение было настолько безнадежным, что одним черным днем осени 1905 года он даже попытался продать «Купальщиц» Сезанна (к счастью, Бернхе-мы отказались купить картину, заявив, что запрошенные Матиссом 10 тысяч франков совершенно нереальная цена). Никто из друзей не мог предложить ему никакой реальной помощи, за исключением Синьяка, еще летом купившего «Роскошь, покой и наслаждение», щедро заплатив за картину тысячу франков.
Номинально еще считавшийся дивизионистом, Матисс работал теперь над картиной «Порт-Абайль», начатой еще летом. «Я пишу ее маленькими точками, – писал он Бюсси, – поэтому она продвигается медленно, особенно когда не все получается с первого раза». Дивизионистские точки (points), которые двенадцать месяцев назад, казалось, обещали победоносное освобождение от академических традиций, превратились в монотонную, трудоемкую, утомительную работу, требующую строгого соблюдения установленных правил. Матисс писал картину так долго, что не успел закончить к Осеннему Салону 1905 года. Когда же Анри привез ее в Боэн, чтобы показать матери и та категорично заявила: «Это не живопись», он схватил нож и исполосовал полотно. Вердикт матери означал для него поражение, но одновременно и освобождение: «Порт-Абайль» оказался для Матисса тем испытательным полигоном, на котором дивизионистская теория потерпела поражение.
Затянув с окончанием «Порт-Абайля», Матисс вместо нее выставил на Осеннем Салоне «Женщину в шляпе», которая его современникам показалась откровенной мазней – всего лишь грубо разбросанными по холсту полосами и пятнами краски; те же, кто знал, что художнику позировала для портрета жена, были откровенно шокированы. Зрители корчились от смеха, а критики публично оскорбляли Матисса, причем в выражениях, которые жители Боэна и те произносили только за глаза. Даже молодые художники, готовые, казалось бы, с закрытыми глазами поддержать все новое и перспективное, не приняли эту работу. Для посетителей Осеннего Салона, априори относящихся к выставке как к цирковому представлению, «Женщина в шляпе» стала гвоздем сезона 1905 года. Многие заранее предвкушали скандал. Критик Луи Воксель, пришедший в Гран Пале накануне открытия и увидев в зале номер VII работы Матисса, Дерена и их друзей, нелепо смотревшихся в окружении академических скульптур, произнес знаменитую фразу: «Донателло среди диких зверей!»[78]78
Дикие звери – fouves (фр.) – это выражение и дало название течению «фовизм».
[Закрыть] Кульминацией всеобщего возмущения стала огромная статья в журнале «Иллюстрация» («L'Illustration»), целиком посвященная «Женщине в шляпе» и «Открытому окну» Матисса.
Зал номер VII оказался эпицентром восстания против устаревших художественных канонов. «Каждый вечер спускавшиеся с Монмартра толпы бунтарей наводняли зал… как столетие назад стекавшиеся к Национальному конвенту восставшие из предместья Сент-Антуан», – вспоминал Раймон Эсколье[79]79
Раймон Эсколье (1882–1971) – писатель, деятель культуры, в 1913–1933 годах хранитель музея Виктора Гюго в Париже, советник по культуре и директор парижского музея Пти Пале. Автор книги «Matisse, ce vivant», первая часть которой вышла в Париже в 1937 году, а более полный вариант в 1956 году (с него и был сделан русский перевод книги «Матисс», выпущенной в 1979 году).
[Закрыть]. Пабло Пикассо (в ту пору еще незнакомый с Матиссом лично) почувствовал, что его обошли на повороте. Позже Матисс бодро признавался, что унизительное прозвище «fauves» не причинило ему никакого вреда («На самом деле это было здорово. “Дикие” как нельзя лучше соответствовало состоянию наших умов»), но в то время ему было очень даже невесело. Все происходящее сильно напоминало презрительные насмешки и тыканье пальцами, которые он годами терпел в Боэне, только на этот раз во всенародном масштабе. Несмотря на мудрое решение не ходить на выставку, Матисса неудержимо тянуло в Гран Пале, где в зале номер VII не смолкал издевательский смех. В детстве он мечтал стать клоуном, и теперь его мечта осуществлялась, превращаясь для него в настоящий кошмар.
За неделю до закрытия Салона на набережную Сен-Мишель пришла телеграмма: за «Женщину в шляпе» предлагали 300 франков – ровно на 200 франков ниже запрошенной суммы. С выставки ничего продать не удалось, настроение было отвратительным, денег оставалось в обрез, и он уже почти согласился сбавить цену, но тут вмешалась Амели. Жена заставила Анри стоять на своем, что в их семье было типичной ситуацией («Если эти люди заинтересовались картиной настолько, что сделали такое предложение, то они наверняка заплатят цену, которую ты просишь, а на разницу мы купим зимнюю одежду для Марго», – якобы сказала она). Несколько дней прошли в томительном ожидании. А когда утром пришла вторая телеграмма и Матисс вскрыл ее, то скорчил такую гримасу, что Амели испугалась и выронила из рук газету («Я просто подал тебе знак, чтобы ты поняла, – оправдывался он потом, – я был слишком взволнован и не мог говорить»). Покупателями оказались двое американцев, брат и сестра, Лео и Гертруда Стайн[80]80
Гертруда Стайн (1874–1946) – американская писательница. Членами семьи Стайнов, собиравшими современную живопись, были ее братья Лео (1872–1947) и Майкл, а также жена Майкла Сара (1870–1953).
[Закрыть]. Эта пара везде обращала на себя внимание: он – высокий и худой, она – низенькая и полная, оба – в сандалиях и светло-коричневых вельветовых костюмах. Их уже хорошо знали на улице Лафитт и в окрестных галереях. Берта Вейль пыталась продать им картины Матисса, но пока что безуспешно («Матисс интересовал их, но они не решались. “Поверьте мне, купите Матисса”, – убеждала я их… но его живопись была тогда еще недостаточно зрелой»). Лео потом утверждал, что «Женщину в шляпе» купил он, но на самом деле первой на картину обратила внимание жена его старшего брата Майкла Сара, уговорившая Лео и Гертруду купить «Женщину в шляпе». Стайны на это долго не решались и отважились сделать свое предложение лишь в конце ноября, которое Матисс, по настоянию Амели, и отверг.








