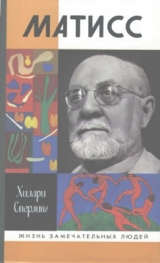
Текст книги "Матисс"
Автор книги: Хилари Сперлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
Вдохновение – или coup de foudre (любовь с первого взгляда), как называл его Матисс, – в 1906 году пришло от алжирских ковров, которые буквально завладели его картинами. В первый, но далеко не в последний раз ткани толкали художника нарушать традиционные каноны формы и перспективы. Ткани давно волновали и привлекали его внимание; он не мог забыть материю, которую увидел однажды из окна омнибуса в витрине парижской лавки старьевщика. Toile de Jouy (ткань из Жуй) – так он называл плотное белое полотно из хлопка с темно-синими арабесками и корзинками цветов. Впервые она появилась на его картинах как скатерть или декоративный настенный коврик (в «Гитаристе» 1903 года, портрете сына «Пьер с Бидуем» и целой серии натюрмортов). В «Натюрморте с синей скатертью»[85]85
Под этим названием Матисс впервые выставлял картину. В собрании С. И. Щукина она фигурировала как «Ваза с фруктами, кувшин и стеклянный графин», а в собраний Эрмитажа, где она ныне хранится, – «Натюрморт с вазой, бутылкой и фруктами» (1905–1906).
[Закрыть] (1906) кажется, что свисающий край скатерти приподнимается, а причудливые синие арабески начинают обволакивать предметы на столе: они поднимаются по ножке китайской вазы для фруктов, очерчивают контур кувшина, сгущая синеву под блюдцем, и наконец разливаются по краю стола яркой синей полосой, лишая картину и какой-либо претензии на реалистичность. На заднем плане картины проглядывает некое подобие алжирского молитвенного коврика. В написанном в Кольюре в 1906 году «Натюрморте с красным ковром»[86]86
«Натюрморт с красным ковром», 1906. Художественный музей, Гренобль.
[Закрыть] висящий на стене ковер художник «поддержал» разложенными на переднем плане кусками красной и зеленой ткани. В итоге стандартный натюрмортный набор – тарелка, книга, ваза с фруктами и арбуз – превратился не более чем в случайные детали пышной декоративной инсценировки.
Работа продвигалась настолько успешно, что Матисс решил остаться в Кольюре на всю зиму. К началу учебного года Амели увезла детей в Париж, оставив мужа в компании Этьена Террюса. Матисс рисовал, лепил из глины, экспериментировал с глазированной керамикой: пузатые, ярко раскрашенные кувшины с носиком, напоминающие каталанские кувшины для воды, обжигались для него на местной фабрике. В Париже, куда он ненадолго вернулся, чтобы участвовать в Осеннем Салоне, уже ходили слухи о его новых работах. Воллар, подогретый восторгами Лео Стайна, пожелал получить «право первой ночи», но его обошел Дрюэ. Он внес аванс за все пять картин Матисса, представленных в Салоне, и немедленно перепродал их Файе. Осенью 1906 года случилось то, что должно было случиться: коллекционеры стали сражаться за работы Матисса. Пристрастия публики меняются быстро – главной сенсацией Салона стала ретроспектива Поля Гогена (именно тогда впервые экспонировались его деревянные рельефы), который мгновенно сделался героем нового поколения молодых художников. Еще недавно никто не принимал всерьез ни Гогена, ни Сезанна. Теперь же все воспринимали кончину Сезанна, умершего 22 октября, как уход ведущего мастера современности. «В Осеннем Салоне 1905 года зрители истерически хохотали перед его картинами, – писал Лео Стайн, – в 1906 году они уже относились к ним с уважением, а в 1907 году благоговели».
Благодаря ретроспективе в Осеннем Салоне Дрюэ удалось удачно продать большую партию своих Гогенов. Матисс зашел к нему в галерею как раз в тот момент, когда там был Щукин: Сергей Иванович купил сразу семь полотен, причем самых лучших. Почти все они происходили из собрания Гюстава Файе. Как ни любил Файе свои картины, еще большее удовольствие ему доставляло наблюдать их «движение». Он без сожаления заменил своих Гогенов одиннадцатью холстами Матисса, которые вскоре тоже довольно удачно продал.
Той же осенью Матисс у Стайнов встретил Пикассо. У Анри была с собой небольшая конголезская фигурка, которую он только что купил в лавке на углу улицы Ренн. Реакция Пикассо была мгновенной: сидя рядом с Матиссом, он весь вечер не расставался со статуэткой, а затем до утра работал в мастерской в Бато-Лавуар. На следующее утро поэт Макс Жакоб застал его в окружении рисунков одноглазого монстра с четырьмя ушами и квадратным ртом (причем Пикассо уверял, что это портрет его возлюбленной). Примерно в то же время Дерен купил африканскую деревянную маску из Габона и повесил у себя в мастерской рядом с фовистскими пейзажами, казавшимися его друзьям ни на что не похожими. Под влиянием Гогена, Сезанна и африканского искусства, ниспровергших наконец-то идолов традиций, благопристойности и академических правил, эта непохожесть сделается главным критерием нового искусства. Это поможет Пикассо решить проблему с «Портретом Гертруды Стайн», который после девяноста сеансов все еще оставался без лица. Он завершил портрет в отсутствие модели, превратив лицо Гертруды в подобие маски, на которую, как он заявил, она скоро станет похожа.
Матисс же написал конголезскую фигурку всего только раз, включив в натюрморт, который так и остался незаконченным. Гертруда Стайн говорила, что он впитывает сущность африканского искусства (так же, как усваивает влияние Сезанна) скорее душой, чем глазами: «Оно больше повлияло на воображение Матисса, чем на его видение. В случае Пикассо, наоборот, видение оказалось затронуто сильней, чем воображение»[87]87
Бытует мнение, что негритянское искусство Матиссу открыл Пикассо. Однако мемуар Гертруды Стайн свидетельствует совсем об обратном: «Матисс заинтересовал его [Пикассо] в 1906 году негритянской скульптурой… Негритянское искусство, бывшее для Матисса чем-то экзотическим и наивным, было воспринято испанцем Пикассо как естественное, непосредственное и вполне цивилизованное явление».
[Закрыть]. Матисс вернулся на юг в ноябре в одиночестве. По дороге он на неделю остановился на побережье в Эстаке, где обитала конкурирующая группа молодых фовистов, в которую входил и Дерен. Тогда-то они с Дереном заключили пари, кто из них напишет более изящную обнаженную «в синих тонах». Этот спор занимал и мучил Матисса на протяжении всей зимы в Кольюре, куда к нему приехали жена с дочерью. В Париже Марго заболела, как это обычно случалось с ней с наступлением холодов, и Амели поспешила увезти девочку на юг. Первое, что они увидели в мастерской, вспоминала Маргерит, была новая картина отца, на которой еще не высохли краски: мрачная скульптурная «Стоящая обнаженная» («Nu au linge»).
В ту зиму в Кольюре Матисс написал свой портрет. Резкие, грубые мазки, зеленые пятна, скользящие по лицу, словно гонимые ветром грозовые облака, очерченная черным и синим контуром голова. Этот автопортрет, по мнению современников, обнажил его как эмоционально, так и физически. Когда Сара Стайн купила его, Гертруда заметила своей золовке, что портрет «слишком интимный», чтобы вешать его на стену рядом с другими картинами. Для другого, написанного тогда же портрета Матисс с трудом уговорил позировать одного из местных мальчишек. «Молодой моряк» написан тем же «расплывчатым» цветом и в той же грубой, лаконичной манере. Тогда же Матисс написал натюрморт «Розовые луковицы», который, как и оба «Моряка» (существует еще и «Молодой моряк-II» – более изящная и жизнерадостная вариация первого портрета), отличался непосредственностью детского рисунка. Стесняясь предельной упрощенности обеих картин, Матисс сказал своим парижским друзьям, что натюрморт – работа местного почтальона («Не ври, Матисс, – заявил Жан Пюи, едва увидев «Розовые луковицы», – это написал ты сам»).
Самый же дерзкий из экспериментов был связан со скульптурой. Лежащую в классической позе обнаженную Матисс назвал «Аврора» или «Рассвет». Он работал над глиняной фигурой несколько недель, не отрываясь, пока в начале января не произошла катастрофа. Амели страшно испугалась, услыхав наверху грохот и крики мужа: прибежав в мастерскую, она увидела валявшиеся на полу куски «Лежащей обнаженной. Авроры». Амели схватила мужа за руку и увела подальше от места трагедии и долго «выгуливала» его, точно так же, как двумя годами ранее в Сен-Тропезе, когда он впал в истерику после стычки с Синьяком. По законам трагедии драматические переживания должны заканчиваться душевной разрядкой, иначе говоря, катарсисом. У Матисса это обычно выражалось в прорыве «интеллектуальной блокады» или, как он сам любил выражаться, «распахивании двери пинком ноги». На следующее утро, еще до того, как были собраны осколки глиняной статуи, он уверенно воссоздал квинтэссенцию этой фигуры на холсте.
Это была «Синяя обнаженная. Воспоминание о Бискре». Разбитая вдребезги «Лежащая обнаженная» выглядела обычной нагой женщиной с аккуратной прической и узкой талией, даже несмотря на скрюченную позу. «Синяя обнаженная», возлежащая в цветущих травах на фоне пальмовой рощи, по сравнениию с ней казалась сущей уродиной. «Матисс исказил больше, чем он хотел исказить, – писал Лео Стайн. – Он рассказал мне, что, начиная картину, надеялся, что сможет закончить ее без искажения, которое будет раздражать публику, но не смог этого сделать». 12 февраля Манген написал Матиссу, предупреждая, чтобы тот поднял цены, «так как Дрюэ, Воллар и, возможно, Фенеон будут торговаться из-за его работ». Через десять дней Фенеон направил Матиссу письмо с предложением устроить его персональную выставку в галерее Бернхем-Жён. Как только Матисс вернулся в Париж, Фенеон появился у него в мастерской, купил три картины и предложил, что Бернхемы будут и впредь покупать все его будущие работы в обмен на приоритет перед другими торговцами живописью.
«Синяя обнаженная» была единственной картиной, представленной Матиссом у Независимых в марте 1907 года. В третий раз в течение восемнадцати месяцев ему удалось шокировать публику, вызвать недоумение у критиков (они описывали новую работу как непристойную и ужасную, а женщину называли больше похожей на зверя или рептилию, чем на человека) и повлиять на ход развития современного искусства. Ходили слухи, что Дерен уничтожил собственную «Голубую обнаженную», увидев холст Матисса. В третий раз картина, вызвавшая столь яростное возмущение в Салоне, была куплена Лео и Гертрудой Стайн. Брат и сестра научились измерять успех своей коллекции ужасом, в который она приводила их друзей. Двадцатитрехлетний студент из Нью-Йорка Уолтер Пэч в том году впервые попал на улицу Флёрюс, где столкнулся лицом к лицу с одной из скандально известных работ Матисса – то ли «Синей обнаженной», то ли «Радостью жизни». «Это впечатляет тебя?» – спросил его Пикассо. «Наверное, да… впечатляет, как может впечатлять удар между глаз. Но я не понимаю замысла художника». «Я тоже, – сказал Пикассо. – Если он хочет написать женщину, пусть пишет женщину, если декоративный узор, пускай рисует узор. Но это ни то, ни другое».
Глава шестая.
ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ НОВАТОРОВ.
1907–1909
Сара Стайн купила небольшую глиняную «Лежащую обнаженную», а также автопортрет Матисса – тот самый, о котором Гертруда сказала, что он «слишком интимный» и на стену его вешать не стоит. Еще Сара купила две картины, в авторстве которых Матисс стеснялся признаваться даже близким друзьям, – «Розовые луковицы» и одного из двух «Моряков», причем того, что был наиболее вызывающим. Многие художники и те довольно долго не понимали, что делает Матисс, причем неприятие оказывалось прямо пропорционально их художественному образованию. Юный Уолтер Пэч, часто бывавший у Стайнов на улицах Мадам и Флёрюс, считал, например, что, признавая Матисса, он должен забыть обо всем, чему успел научиться в музеях и академиях. Если в работах Пикассо ему хотя бы удавалось обнаружить некоторый «отзвук» Эль Греко и Тулуз-Лотрека, а Ван Гога и Сезанна можно было считать логическим завершением освященной веками традиции европейской живописи («У всех трех художников я мог легко проследить связь с тем, что уже знал), то живопись Матисса была совершенно ни на что не похожей. Американец «боролся» с собой целый год – столько же, сколько и другой знакомый Стайнов, немец Ханс Пуррман. Но когда Лео Стайн представил своих юных друзей Матиссу (чье искусство, по их признанию, вызывало у обоих едва ли не тошноту), произошла невероятная метаморфоза. И тот и другой в мгновение ока сделались неутомимыми и преданными последователями Матисса.
Странно, но иностранцы всегда относились к Матиссу гораздо доброжелательнее, нежели соотечественники. «Мы называли его “профессор”, – рассказывал художник Феликс Журден, – потому что он носил очки в золотой оправе и борода у него была аккуратно подстрижена». Но не только из-за очков и бороды Матисса не принимали в артистической колонии Бато-Лавуар. Для них он был, как заметил Вламинк, ancien – причем не в смысле «старший», а в смысле «вышедший в тираж»; да и дело было не в возрасте – даже самым яростным «иконоборцам» из числа молодых фанатов Пикассо не удавалось разгадать смысл матиссовской живописи.
Сам же Пикассо весной 1907 года трудился в поте лица в мастерской в Бато-Лавуар, куда никого не пускал. Уже несколько месяцев он работал над «ответом» на матиссовскую «Радость жизни», хотя после открытия Независимых это был скорее «ответ» на «Синюю обнаженную». Новую работу (название «Авиньонские девицы», под которым картина войдет в историю живописи XX века, она получит спустя почти десять лет, после первого публичного показа) пока довелось видеть немногим. Но те, кому посчастливилось, считали «Девиц» не менее обескураживающими, нежели последние матиссовские творения. Самые близкие друзья Пикассо – Гийом Аполлинер, Макс Жакоб и Андре Сальмон – от комментариев уклонились, а Лео Стайн не сдержался и просто расхохотался. Судя по всему, Пикассо оказался единственным, кто серьезно отнесся к недавнему увлечению Матисса детским рисунком. Когда в 1907 году они решили обменяться картинами, испанец выбрал себе написанный с детской непосредственностью портрет дочери француза, на котором большими неровными буквами сверху было выведено «MARGUERITE». Дружки решили, что Пабло сделал это нарочно, чтобы покуражиться над Матиссом, как это у них повелось, и превратили картину в мишень для метания дротиков. «Попал! Один в глаз Маргерит! Другой в щеку!» – кричали они (дротики были игрушечными, с присосками вместо стального острия, поэтому сии пылкие выражения чувств не наносили холсту заметных увечий).
Маргерит Матисс в 1907 году было тринадцать лет. Никто не вспоминал, что живет она не с родной, а с приемной матерью, хотя это не было тайной. Трудно даже представить, как бы Матиссы справлялись без Маргерит, прежде всего – отец, для которого дочь была и моделью, и секретарем, и главным зрителем. Бывавшие тогда у Матисса в мастерской привыкли к ее постоянному присутствию, особенно Пикассо, следивший за каждым телодвижением соперника своим знаменитым «взглядом хищника». Дошло до того, что Пабло и сам удочерил тринадцатилетнюю Раймонду (но с ролью приемного отца не справился, и спустя четыре месяца они с Фернандой отправили девочку обратно в приют). Что касается «банды» молодых приспешников Пикассо, нищих и при этом ужасно амбициозных, то они постоянно задирали Матисса.
Над Анри Матиссом издевались всю его жизнь. Сначала его клеймили позором семья и общество, к которому он принадлежал по рождению; а затем все происходило в точности наоборот: молодое поколение за глаза обвиняло мэтра в неисправимой буржуазности. Никому не было дела до его переживаний, никто не знал, сколь тяжек и невыносим был путь к успеху; никто не догадывался, что днем и ночью его одолевают сомнения. Молодежь ничего не знала о скандале с Юмберами, приучившем Матисса избегать всяческой публичности, – они видели в нем лишь скучного зануду, больше похожего на адвоката, чем на художника, говорящего исключительно только о своей работе. Матисс долго терпел, но, когда Гертруда Стайн представила его в таком свете в «Автобиографии Эллис Б. Токлас»[88]88
На самом деле «Автобиография Эллис Б. Токлас» была написана в 1933 году самой Гертрудой Стайн (1874–1946) и стала единственным бестселлером американской писательницы, автора термина «потерянное поколение», который Э. Хемингуэй взял в качестве эпиграфа к одному из своих романов. Перу Г. Стайн принадлежат также эссе о Матиссе и Пикассо.
[Закрыть], не выдержал; но, обвинив автора воспоминаний о богемном Париже в неточностях и искажениях, художник лишь подтвердил свою репутацию зануды и педанта.
Образ до невозможности корректного Матисса – grand bourgeois cossu – вошел в легенду. На самом же деле характер у него был неистовый и непреклонный – воистину дикий зверь (fauve), скрывающийся под маской буржуазной степенности. Об этом, помимо близких, знали считаные единицы, Сара Стайн в том числе. Она была покорена «Женщиной в шляпе» с первого взгляда и хотела, чтобы его картины были рядом с ней постоянно. Любой художник мог о таком только мечтать. Матисс говорил, что вера в него Сары поддерживала его в самые худшие времена «смятений и тревоги». После возвращения Стайнов из Сан-Франциско их дружба стала еще крепче, хотя американцы и отнеслись к живописи кумира Сары более чем прохладно. Но реакция соотечественников ее ничуть не расстроила и не повлияла на решение коллекционировать только Матисса и никого больше. Муж Майкл целиком жену в этом поддержал, сказав примерно следующее: «Если она считает, что картины хороши, наверное, так оно и есть».
Первые месяцы 1907 года Сара посвятила «прополке» коллекции. В результате серии обменов, продаж и покупок у нее набралось более десятка последних матиссовских вещей, включая «Раба», «Синюю обнаженную» и «Женщину в шляпе» (большая часть картин были их собственными, а кое-что им одолжили Лео с Гертрудой). В итоге где-то к началу войны у Сары с Майклом на улице Мадам, 58, составилась эффектная экспозиция из сорока с лишним холстов и не менее дюжины бронз, датированных в основном 1905–1908 годами. В те золотые времена Стайны могли выбирать у Матисса картины «еще до того, как на них успевала высохнуть краска». Но это закончилось в тот самый день, когда художник подписал эксклюзивный контракт с галереей Бернхемов и стал стоить не сотни, а уже тысячи франков.
Редкую неделю Сара не приходила к Матиссу в мастерскую или же он сам не приносил ей новую работу. Он показывал Саре Стайн свои картины так же, как показывал их жене и детям, – только-только законченными, еще влажными от краски, с нетерпением ожидая, что они скажут о его последнем творении. Сара как никто чувствовала волнение художника в такие важные для него моменты. Она ценила его живопись за чистоту, безмятежность и удивительное благородство, и если что-то в картине казалось Саре диссонирующим или несовершенным, она откровенно об этом говорила. Ее критика была для Матисса столь же важна, сколь и ее восхищение. На протяжении трех десятилетий художник полагался на мнение Сары, делавшееся год от года все более серьезным («от удивительной чуткости до полного понимания пути, которым я шел»). В 1935 году, когда она навсегда возвратилась в Америку, он с грустью написал ей: «Мне кажется, что вместе с Вами меня покинула лучшая часть моей публики».
Дружба распространилась и на их семьи. Летом они вместе отдыхали на море, ездили верхом в Булонском лесу, ходили друг к другу в гости. Огромная, полная света белоснежная гостиная Стайнов на улице Мадам превратилась в картинную галерею – только на одной стене висели двенадцать больших матиссовских холстов. «Таких ярких, таких пылающих красок я никогда не видела прежде, – писала журналистка Харриет Леви, приехавшая в Париж из Сан-Франциско. – Люди со всего света приезжали посмотреть на них. Подобного нельзя было нигде больше увидеть». Сара и Майкл, так же как Лео с Гертрудой, раз в неделю оставались дома, чтобы принимать шедших нескончаемых потоком любознательных визитеров: в основном молодых и, как правило, иностранцев, жаждавших своими глазами увидеть то, что всеми считалось уродством и чудачеством. Убежденность Сары действовала на скептиков гипнотически: ей удавалось внушить им, что живопись Матисса открывает путь в новый мир, постичь который можно, лишь кардинально изменив способ видения.
Лучше других о методах Сары написала ее старинная подруга Харриет Леви, которая не могла без отвращения смотреть на «Синюю обнаженную» с ее торчащими грудями, отвислым животом, выпяченными напоказ ягодицами и жилистыми бедрами. Но только до тех пор, пока однажды вечером, оставшись наедине с Сарой, не пережила почти религиозное озарение. «С картиной что-то произошло… Она взволновала меня… своим величием, своей красотой… такого воплощения силы, абстрактной силы, я не видела прежде ни в живых существах, ни даже в деревьях. До меня вдруг дошло, что художник силится отыскать в себе эмоции, суть которых сам еще не осознает до конца». Так Харриет «обратилась в новую веру», стала покупать картины Матисса и в итоге собрала собственную коллекцию – небольшую, но весьма ценную. На ее глазах богатые американцы один за другим поддавались чарам хозяйки квартиры на улице Мадам. «Когда они были с миссис Стайн, они словно входили в транс и были готовы покупать Матисса. Когда же они покидали ее, то выходили из состояния гипноза и снова не понимали его живопись или не доверяли ей… Они боялись этих ослепительных полотен. Они не выносили их неистовства. Они боялись покупать и боялись не купить, опасаясь, что картины и в самом деле окажутся выдающимися, как об этом говорили Стайны».
Самым впечатляющим завоеванием Сары стала победа над легендарным знатоком итальянского Возрождения Бернардом Беренсоном[89]89
Бернард Беренсон (1865–1959) – американский искусствовед, автор капитальных исследований по искусству итальянского Возрождения.
[Закрыть], называвшим «Синюю обнаженную» «жабой», – настолько мерзкой казалась ему картина. «Если вам когда-нибудь удастся убедить меня, что в этой гадости есть хоть капля привлекательности, я поверю в Матисса», – заявил Беренсон. Сара тут же пригласила американца на обед и познакомила с художником. И они, надо сказать, прекрасно поладили, особенно когда обнаружили друг у друга тончайшее понимание рисунка, которым оба страстно увлекались. В конце 1908 года Беренсон уже защищал Матисса от нападок нью-йоркской прессы, а через год купил у него картину.
«Обращенные» Стайнами возвращались на родину, горя миссионерским рвением. Молодой Уолтер Пэч станет одним из организаторов устроенной в 1913 году в Нью-Йорке «Армори-шоу»[90]90
«Армори-шоу» («Арсенальная выставка») – Международная выставка современного искусства, организованная в помещении арсенала пехотного полка на углу Лексингтон-авеню и 25-й и 26-й улиц (17 февраля – 15 марта 1913 года), впервые познакомившая американцев с кубизмом, экспрессионизмом и абстракционизмом. Она оказала огромное влияние на дальнейшее развитие живописи в США. На ней в том числе экспонировалась «Синяя обнаженная» Матисса.
[Закрыть], открывшей Америке Матисса и его соратников. Немецкий художник Ханс Пуррман, ровесник Пэча, сначала придет в ужас от стайновской «Женщины в шляпе» («Это было словно удар по голове»), а затем, по его же собственным словам, внезапно прозреет и отправится домой убеждать торговцев живописью обратить внимание на Матисса. Пуррман будет искать покупателей и помогать в организации первой выставки художника в Германии в 1908 году. Благодаря ему Матисс получит заказ от Карла Эрнста Остхауза: керамическое панно «Нимфа и сатир» для нового дома молодого коллекционера в вестфальском городке Хаагене[91]91
Матисс исполнил трехмастную керамическую композицию «Нимфа и сатир» для дома Хозенхоф в Хаагене в 1907 году (ныне в музее Карла-Эрнста Остхауза, Хааген).
2. Карл Эрнст Остхауз (1874–1921) – немецкий коллекционер, с 1906 года становится одним из главных ценителей и собирателей искусства Матисса в Европе. В 1922 году его собрание было приобретено специально созданным с этой целью Обществом Музея Фольванг в Эссене и объединено с музеем города. В годы фашизма работы Матисса были конфискованы нацистами.
[Закрыть]. Триптих из глазурованных плиток станет второй (после декорирования столовой в дядюшкином особняке в Ле-Като в 1895 году) заказной работой Матисса. Керамикой он занялся всего год назад в Кольюре, но увлекся этим занятием и вместе с художниками-фовистами расписывал белые фаянсовые кувшины и вазы в керамической мастерской Андре Меттея в Асньере близ Парижа. Кафельные плитки для Остхауза Матисс расписал столь же просто, как расписывал стилизованными цветами и фигурками танцовщиц тарелки и пузатые вазы. Керамика художника часто будет появляться в его натюрмортах рядом с красочными тканями и глиняными фигурками, помогая ему вести на холсте сложную пространственную игру и устанавливать взаимоотношения с другими предметами. Матисс уехал из Парижа 30 апреля, не дожидаясь закрытия Независимых. Сыновей он отправил к родителям в Боэн, а в Кольюр взял с собой жену, дочь и кузину Жермен Тилье. Тяжелобольную девушку-сироту, к которой его мать относилась почти как к родной дочери, отправили к морю в надежде, что южное солнце и морской воздух помогут ей, как помогли Маргерит и Пьеру. Матисс тогда только начал серию картин с фигурами – «Музыка», «Прическа», «Три купальщицы», – ставших основой для вещей его лучшей поры. Он работал с натуры, но сознательно подавлял индивидуальность своих моделей и предельно упрощал формы, добиваясь большей экспрессивности. Ему позировали трое: Амели, Маргерит и, возможно, его кузина. Девятнадцатилетняя Жермен была крупной (как все материнские родственники Жерары) миловидной девушкой во «фламандском стиле» и совсем не походила ни на хрупкую Маргерит, ни на яркую южанку Амели. Вероятно, именно она – коренастая круглолицая средняя девушка в «Трех купальщицах», странной маленькой картине, которая даст мощный импульс матиссовскому воображению.
Мирное течение лета в Кольюре длилось недолго. Через десять дней после приезда Жермен неожиданно стало хуже, и вскоре ее парализовало. Амели ухаживала за больной, а Матисс в ужасе наблюдал за приближением конца. О случившемся сообщили в Боэн, и Анна Матисс отправилась на Юг через всю Францию, но не застала любимую племянницу в живых. После смерти кузины Матисс проболел целый месяц, а Амели повезла его мать обратно на Север, где после панихиды в мрачной церкви, которую Анри ненавидел с детства, несчастную Жермен похоронили в семейном склепе. «Не думаю, что ко мне скоро вернется спокойствие, – писал Матисс Мангену в длинном, изобилующем ужасными подробностями письме. – Я совершенно потрясен случившимся с моей бедной кузиной».
Постепенно семья приходила в себя. Соседи-художники Террюс и Даниель де Монфред устраивали для Матиссов (в начале июня Амели вернулась в Кольюр с сыновьями) лодочные прогулки, рыбалку и ужины с мидиями. Потом к ним присоединились Майкл и Сара Стайн с сыном Алленом, но к этому времени чета Матиссов как раз засобиралась в Италию, где во Флоренции их уже ждали Лео с Гертрудой. По дороге, оставив детей у родных в Перпиньяне, они заехали к Мангену в Сен-Тропез и к Кроссу в Сен-Клер, неделю провели с Дереном в Кассисе и под конец добрались до Брака и Фриеза в Ла Жиота. Анри ехал в Италию безо всякого энтузиазма. Поездку он организовал специально для жены, тем более что Бернхемы только что заплатили обещанные 18 тысяч франков, и они с Амели впервые после медового месяца могли себе позволить путешествовать с комфортом. Во Флоренции они поселились на правом берегу Арно в «Отель д'Итали», дверь в дверь с церковью Оньиссанти с «Мадонной на троне» Джотто. «Мадам Матисс была взволнованна до глубины души. Сбылась ее девичья мечта. Она говорила, я все время себе повторяю, я в Италии», – писала потом Гертруда Стайн. Анри радовался за жену, но ничего выдающегося в окружавшей их красоте не находил. Богатейшие коллекции галереи Уффици и палаццо Питти его скорее смутили, нежели впечатлили. К тому же его раздражал Лео со своими бесконечными советами и рекомендациями. Напряженность в отношениях возникла еще в Париже, когда Лео, попробовавший заняться живописью, попросил «откровенно высказаться» о его работах. Тем летом полного разрыва не произошло, но после флорентийской встречи Лео Стайн больше не купит у Матисса ни одной картины.
Стайны снимали виллу в пригороде Флоренции, во Фьезоле, по соседству с виллой «I Tatti», принадлежавшей Беренсону, который, собственно, и уговорил Лео приехать сюда. К 1907 году Беренсон занимался уже не только научными изысканиями, но и активно дилерствовал в паре со своим соотечественником, талантливейшим торговцем произведениями искусства Джо-сефом Дювином (не без участия Беренсона ему удалось увлечь старыми итальянцами богатейших американских покупателей во главе с Перпонтом Морганом). И хотя в тот приезд Матисс ни разу не был у Беренсона на вилле, столь антипатичная ему атмосфера купли-продажи (учитывая его собственный негативный опыт общения с дилерами) словно витала в здешней атмосфере. Отголосок ее странным образом настиг художника в Венеции. «Личное свидание» с итальянским Ренессансом Матисса разочаровало, а пышная живопись Тициана и Веронезе («воспевавших скорее земное, нежели духовное наслаждение») оставила ощущение какой-то искусственности и чрезмерной сладострастности. Пагубное влияние на венецианских живописцев, по его мнению, оказали церковь и государство, по заказу которых они работали. «Да, я глубоко в этом убежден: все это делалось для богатых, – говорил он поэту Гийому Аполлинеру несколько месяцев спустя. – Художник опускается до уровня своего заказчика».
Единственным, что тронуло Матисса, были итальянские примитивы – любовь к треченто и кватроченто он привез именно из Италии[92]92
Примитивами раньше называли итальянских художников эпохи треченто – итальянского искусства проторенессанса XIV века; кватроченто – искусство раннего итальянского Возрождения XV века.
[Закрыть]. Лео возил его в Ареццо смотреть фрески Пьеро делла Франческа[93]93
Пьеро делла Франческа (ок. 1420–1492) – итальянский художник XV века, создавший в церкви Сан-Франческо в Ареццо цикл фресок на тему легенды о «животворящем древе креста».
[Закрыть], а в Сиену – «Маэста» Дуччо[94]94
«Маэста» (ит. – величание) – иконографический тип Девы Марии («Похвала Богородицы»), окруженной ангелами, поющими ей славу, распространенный в XIII–XIV веках. Алтарный образ исполнен в 1308–1311 годах художником Дуччер ди Буонинсенья (1255–1319) по заказу города Сиены; ныне хранится в Музее дель Опера дель Дуомо.
[Закрыть]. Ради фресок Джотто[95]95
Джотто ди Бондоне (1267–1337) – итальянский художник эпохи Возрождения. Фрески Капеллы дель Арена, созданные между 1304 и 1306 годами, считаются его главным произведением. Падуанские фрески ознаменовали переворот в живописи благодаря установлению художником четкой пропорции между живописными пространствами; первостепенное значение у Джотто приобретает моделировка объема тенью, и в связи с этим свет начинает трактоваться не как средневековое цветоизлучение, но как реальное освещение, предваряя тем самым перспективу Ренессанса. Джотто первым из художников утвердил светотень, которая станет непреложным требованием европейской живописи.
[Закрыть] в Капелла дель Арена они поехали в Падую. «Для меня Джотто – предел желаний», – признается Матисс гораздо позже Пьеру Боннару. «Когда я увидел в Падуе фрески Джотто, я не старался понять, какой именно эпизод из жизни Христа у меня перед глазами, – написал он в «Заметках живописца», начатых почти сразу по возвращении из Италии, – но я сразу проникся чувством, которым была наполнена эта сцена, ибо оно было в линиях, в композиции, в цвете, а название только подтвердило мое впечатление».
Вернувшись в Кольюр в середине августа, Матисс возобновил свои живописные эксперименты с еще большим рвением. Ему захотелось выразить собственное понимание роскоши, не имеющее ничего общего с чувственностью венецианского Ренессанса. В матиссовской «Роскоши» («Le Luxe»), огромном полотне высотой более двух метров, чувствовались отголоски «Рождения Венеры» флорентийца Боттичелли, но сам сюжет (стройная черноволосая женщина с двумя служанками, одна несет госпоже букет цветов, другая – вытирает ей ноги) значил для него не больше, чем фабула сцен из жизни Христа Джотто. Действие картины разворачивалось на фоне тщательно выписанных горных вершин Кольюра, вплоть до хорошо знакомой бледно-розовой полутени, появлявшейся над заливом в определенный час. Отличительной чертой картины был плоский фон, без градаций «по закону итальянской фрески». Во второй версии «Роскоши» Матисс еще более усилил эффект фрески, смешав краски с клеем, чтобы заставить их мерцать.
И вот, спустя десять лет после взбудоражившего публику и критиков «Десертного стола», Матисс создает собственный, индивидуальный стиль, объединив элементы из, казалось бы, несовместимых источников. «Я никогда не избегал влияния других, – скажет он той осенью Аполлинеру. – Я счел бы это трусостью и недоверием к самому себе». И перечислит все, что повлияло на его манеру: «иератический стиль египтян», «утонченный стиль древних греков», «сладострастие» камбоджийских резчиков по камню, произведения древних перуанцев и статуэтки африканских негров (к этому перечню следовало бы еще добавить алжирские ткани). Он заявит, что взял из западной культуры все, что ему было нужно («Здесь мы находим пищу, которую любим, и ароматы других частей света могут служить нам только приправой»), и не забудет упомянуть сиенских примитивов, Джотто, Пьеро делла Франческа, Дуччо («не такого мощного в передаче объемов, но внутренне более глубокого») и Рембрандта. Себя и художников своего поколения он назовет наследниками европейской живописи, «простирающейся от цветущих садов Средиземноморья до суровых северных морей». Матисс хотел обновить пластический язык. Ой твердо верил, что только «победоносный инстинкт» способен преодолеть косность стагнирующего искусства начала XX века («Сознание этого художника – результат его знакомства с сознаниями других художников. Новизной своей пластики он обязан своему инстинкту или знанию самого себя», – написал Аполлинер). Матисс видел, что его тяга к инстинкту вызывает у публики возмущение, поэтому стоически защищался от обвинений в грубости, агрессии и непристойности. «Я пытаюсь лишь создать пластический язык, свободный от устаревших правил и догм, разрушение – последнее, что может прийти мне в голову», – уверял он.








