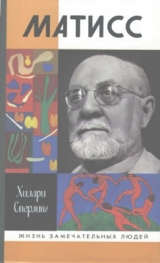
Текст книги "Матисс"
Автор книги: Хилари Сперлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
В ту самую неделю, когда 8 июля на Севере справляли свадьбу младшего брата, шестилетняя дочь Матисса заболела дифтерией. Маргерит посинела, начала задыхаться и наверняка умерла бы, если бы доктор не сделал срочную трахеотомию (во время операции, которая проходила на кухонном столе на улице Шатоден, 25, Анри держал дочку за руку). Потом девочку поместили в госпиталь Бретонно на Монмартре, где она к тому же заразилась брюшным тифом. Чтобы скрыть огромный шрам на шее, ей придется годами носить черную ленту, но не это будет самое страшное – гораздо серьезнее окажутся проблемы, связанные с поврежденной трахеей, которые будут преследовать ее почти всю жизнь. После выхода из больницы Матисс написал Маргерит в полосатом переднике, смотрящей прямо на зрителя впалыми черными глазами. Портрет производил сильное впечатление. Простой и выразительный, как рисунок ребенка, он сочетал непосредственность юной модели с пронзительной хрупкостью этого по-взрослому чувствующего существа.
В конце осени или начале зимы Матисс встретил Берту Вейль. У нее была своя галерея – почти никому не известная, как она сама сказала, – где она собралась продавать современных художников. На небольшое наследство, которое мать оставила ей в качестве приданого, Вейль организовала в декабре 1901 года первую выставку. Через год, в феврале, она устроила следующую, на которую пригласила Матисса и Марке. Кроме зимнего пейзажа Марке приятели тогда ничего не продали, но в апреле мадемуазель Вейль сумела продать за 130 франков натюрморт Матисса (его купил художественный критик из Тулузы Артур Хюк, один из коллег Армана Парейра). Этюд чуть меньшего размера ушел за 70 франков. Это были первые продажи Матисса с тех пор, как пять лет назад он решил, что не желает угождать никому, кроме себя самого. Вейль пригласила его участвовать и в третьей выставке, которая намечалась на июнь. Наконец-то у Матисса появилась и галерея, и верный сторонник. Берта Вейль прониклась тем, что он делает, и не требовала менять курс или приспосабливаться к чужим вкусам. Однако такой, казалось бы, счастливый поворот событий не успокаивал. Матисс продолжал сомневаться в себе и своих способностях и однажды исполосовал картину ножом. Его снова атаковал старый враг – бессонница. Матисс долго потом вспоминал весенние бессонные ночи в дешевом отеле у Булонского леса, которыми пришлось расплачиваться за нервное перенапряжение от постоянных сражений с холстом. Именно с тех пор Амели, не покидавшая мужа в поездках на этюды, взяла за правило читать ему вслух, пока он не засыпал или пока не наступал рассвет.
Первые четыре года брака оказались самым плодотворным периодом в творчестве Матисса. Весной 1902 года он писал с большей смелостью и уверенностью, чем когда-либо прежде. Его цвета наконец освободились от натуралистической описательности и обрели самоценность. Анри закончил серию видов собора Нотр-Дам, который писал из окна мастерской. За последние семь лет он ушел от серебристо-серой гаммы и стал использовать чистые тона – бирюзовый, фиолетовый, ярко-зеленый и малиново-розовый, пытаясь не столько достоверно воспроизвести утренний или вечерний свет, сколько создать его живописный эквивалент. В конце лета или в начале осени он написал серию небольших пейзажей – так называемые «Люксембургские сады» (по словам Амели Матисс, он писал их в парке принадлежащего Юмберам замка в Вив-О, где ее родители проводили то лето). Деревья на его полотнах становились пятнами чистого алого, оранжевого и фиолетового; желтые полосы солнечного света, оттененные сине-фиолетовым индиго и розовым, пролегли по тропинке. В этих работах Матисса, как полагают большинство критиков, уже были заложены все «детонаторы» фовистского взрыва 1905 года.
И тут грянула новая беда. Теперь несчастье обрушилось на родителей Амели, которые все эти нелегкие годы так поддерживали молодую пару. Вернее, тучи сгустились над мадам Юм-бер: два судебных иска, сопровождавшихся серией опасных атак прессы; требовавшие назад свои деньги кредиторы, число которых росло с каждым днем, и в итоге – паника, переросшая в массовую истерию. 6 мая 1902 года президент Гражданского трибунала официально распорядился вскрыть знаменитый сейф, где лежали ценные бумаги, являвшиеся залогом кредитоспособности «Великой Терезы». Процедура была назначена на 9 мая. За два дня до этого события Арман Парейр поднял бокал шампанского «за поражение врагов мадам Юмбер». Это был последний совместный ужин Парейров и Юмберов. Через два дня десятитысячная толпа обманутых вкладчиков собралась перед домом на Гранд Арме, 65. Прибыло огромное количество представителей прессы, как французской, так и международной. Вся Франция находилась в возбужденном ожидании. Юмберов нигде не могли отыскать – даже верные Парейры не знали, где они. Напряжение нарастало. Когда же наконец вскрыли сейф, в нем не нашли ничего, кроме старых газет, мелкой итальянской монеты и пуговицы от брюк.
Глава четвертая.
ТЕМНЫЕ ГОДЫ.
1902–1904
Два последующих года историки искусства в один голос называют «темными годами». Безрассудные эксперименты оборвались на середине, и Матисс вернулся к мрачным серо-земляным тонам, традиционным сюжетам и «старомодной» манере, не вызывавшей никаких споров. Исследователи объясняют столь внезапную перемену «природной осмотрительностью», «растерянностью», «врожденной буржуазной практичностью» Матисса, заставившими художника прекратить рискованные поиски. В действительности все было гораздо проще и трагичнее: после страшного скандала с Юмберами Матисс вообще не мог писать. Длилось это больше года: с начала мая 1902-го до конца августа 1903-го.
Для Парейров крах Юмберов означал полное крушение. Денег у них не было, надежд устроиться на работу тоже. Даже журналист Ф. И. Мутон из газеты «Матэн», чьи расследования во многом способствовали разоблачению Юмберов, и тот был тронут горем двух стариков («Разоренный и раздавленный Арман Парейр занят теперь единственным вопросом – как раздобыть пропитание на завтра»). Юмберы исчезли без следа: полиция пыталась напасть на след беглецов, но безуспешно. В их отсутствие козлом отпущения сделали Парейра.
Юмберы, как вскоре выяснилось, исчезли вместе с пенсионными фондами компании «Rente Viagure», которая была объявлена банкротом. В результате одиннадцать тысяч мелких вкладчиков потеряли свои сбережения, что только усугубило страдания Парейров. 14 мая полиция провела в их квартире обыск, в тот же день был обыскан шляпный магазин дочери, а также мастерская зятя на набережной Сен-Мишель. Энергичные рейды полиции спровоцировали новую волну исчезновений, вынужденных отставок, краха банков и самоубийств. Немало ведущих столичных адвокатов, кормившихся благодаря многолетнему судебному процессу «Юмбер – Кроуфорд», были близки к разорению. Сами же Кроуфорды – давно почивший американский миллионер, оставивший завещание в пользу Терезы Юмбер, и два племянника, настойчиво волю дядюшки оспаривавшие, – в действительности оказались не более чем плодом воображения мадам Юмбер. Никаких миллионов Кроуфорда, никакого завещания и никаких наследников не было. А была команда опытнейших юристов, нанятая мадам Юмбер, которая противостояла не менее искусным представителям закона, чьи услуги тоже оплачивались мадам (хотя они этого и не знали). В тех редких случаях, когда племянники Кроуфорда должны были появляться собственной персоной, дабы ввести в заблуждение очередного кредитора или предстать перед адвокатом, их роли исполняли братья Терезы – Ромен и Эмиль Дориньяки.
В течение двадцати лет Тереза Юмбер умело использовала доверчивость, а в некоторых случаях и добровольное соучастие своих кредиторов – банкиров и финансовых спекулянтов, которые поддерживали ее шаткую империю, – сначала предоставляя денежные ссуды, а затем забирая их с непомерно высокими процентами «интереса». Крах финансовой пирамиды вызвал настоящий взрыв негодования в обществе. В 1898 году Рене Вальдек-Руссо, ставший на следующий год премьер-министром Франции, окрестил дело Юмбера «величайшим мошенничеством века». Во время премьерства Вальдека-Руссо завершился другой, еще более громкий скандал, годами будораживший общественную жизнь Франции. Помиловав в сентябре 1899 года капитана Дрейфуса, Вальдек-Руссо не стал копаться в грязном деле Юмберов. Слишком много высокопоставленных политиков и гражданских чиновников, слишком много банкиров, юристов и членов суда проявляли благосклонность к мадам Юмбер, и никто из них не был заинтересован в обнародовании всех ее секретов. Круг близких друзей «Великой Терезы» включал бывшего главного прокурора республики, председателя Апелляционного суда и начальника полиции, чьи подчиненные, как считалось, прилагают невероятные усилия, чтобы отыскать Юмберов (полный провал в деле поиска беглецов был явно не случаен). Даже те, кто не был вовлечен в эту аферу персонально, опасались за выживание нынешнего правительства, не говоря уже о чести республики. И хотя мистификация с наследством Кроуфорда исходила от Терезы, нетрудно было догадаться, что за этой аферой стоял ее свекор, бывший министр юстиции и глашатай республиканского идеализма Гюстав Юмбер. Залогом невероятного процветания кроуфордской фантазии был прочный юридический фундамент, который заложил «добрый папаша Юмбер». С любой точки зрения – исторической, политической, финансовой, юридической – дело Юмберов представляло угрозу влиятельным кругам Третьей республики.
Шляпный магазин Амели был закрыт, а ее родители остались без жилья и средств к существованию, так как после побега Юмберов полиция опечатала дом на авеню Гранд Арме. Отца и мать приютила Берта, работавшая учительницей в женском коллеже в Руане. «Кто бы мог поверить в это? – воскликнула мадам Парейр в порыве отчаяния. – Зарплата за двадцать лет исчезла! И теперь мы на улице. Если бы не жалованье нашей младшей дочери, мы бы просто голодали!» Имя Парейров во Франции было покрыто позором. Оскорбления, унижение, безденежье – справиться с таким грузом не каждому было под силу. От нервного и физического истощения Берта и Амели заболели. Матисс, неожиданно оказавшийся единственным (не считая молодой свояченицы) кормильцем для жены, троих детей и жениных родителей, к осени тоже был на грани нервного срыва.
Впервые в жизни он пытался писать костюмные портреты, которые пользовались спросом у покупателей. Поскольку в моде была испанская тематика, Матисс тоже попробовал наряжать в испанские костюмы свои модели. Но натурщик Бевилаква нелепо выглядел в костюме тореадора и с гитарой в руках, равно как и взгромоздившаяся на высокий кухонный стул Амели, напялившая белые атласные брюки тореро и бренчащая с «нечеловеческим» лицом на гитаре (в конце концов Матисс не выдержал, опрокинул мольберт, Амели отшвырнула гитару, и оба они разразились гомерическим хохотом). В том же году Анри написал целую серию картин с цветами: скромные букеты желтых лютиков и поникших подсолнухов в импровизированных вазах, выдержанные в тускло-коричневых тонах. Резкость, с которой они были исполнены, придала некий модернистский поворот «намекам» на смерть и горе, к которым традиционно прибегали в изображениях «мертвой природы» фламандские «живописцы цветов и плодов». Жан Пюи был потрясен одним из этих «замечательных своим суровым характером» натюрмортов. «Это был портрет большого металлического кофейника с несколькими хризантемами, торчащими из его горлышка. У кофейника, твердо стоящего на трех коротких ножках, был решительный и живой вид, а краски хорошо согласовывались с фоном».
20 декабря 1902 года парижские вечерние газеты сообщили о том, что Юмберов нашли в Мадриде и они в руках правосудия. В тот же день французская полиция явилась в дом Берты Парейр в Руане, чтобы арестовать ее отца, и 21 декабря он был этапирован в Париж. Амели не удалось даже приблизиться к отцу: железнодорожный перрон был забит многолюдной толпой, напоминавшей сборище линчевателей. Армана Парейра препроводили в тюрьму Консьержери на острове Ситэ, где ему было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве и подделке документов. Единственным из членов семьи, которому удавалось еще сохранять самообладание, оставался Матисс. Мало того, что на его иждивении была большая семья, теперь он еще и занимался всеми делами, связанными с процессом: успокаивал впавшего в истерику тестя (который объявил голодовку, пытаясь доказать свою невиновность), нанимал ему адвокатов. Матисс встречался с газетчиками, грозя особо ретивым судебными преследованиями за публикацию недоказанных судом обвинений, и т. д. На допросах, длившихся в течение всего января, Парейр держался с достоинством. Следователи устроили серию театрализованных очных ставок между Парейрами и Юмберами, содержавшимися под усиленной охраной в той же Консьержери. 20 января 1903 года состоялась первая очная ставка Армана Парейра с его бывшим учеником и многолетним работодателем, алчность и коварство которого привели обоих на скамью подсудимых. Кто-то из двоих, несомненно, лгал, и после «крайне ожесточенной перепалки» Фредерик Юмбер признал себя побежденным. Спустя два дня Парейр встретился с Терезой Юмбер, которую последний раз видел восемь месяцев назад. Когда Тереза попыталась протянуть ему руку, а он с презрением отвернулся, она залилась краской. В последних числах января Арман Парейр был освобожден условно.
К тому времени Матисс был уже совершенно без сил. Журналисты, в подробностях освещавшие заявления горячего южанина Парейра (пресса конечно же мгновенно встала на сторону обиженного), не сумели добиться от его зятя ни слова. Сдержанность и осмотрительность, так свойственные всем северянам, дорого обошлись Матиссу. В феврале он слег. Три врача в один голос заявили, что его состояние опасно (он не спал уже четвертую неделю), и прописали покой и строжайшую диету. В течение двух месяцев ему было запрещено не только работать, но даже писать письма. Кризис застал его в Боэне, и о возвращении в Париж не могло идти и речи. Тем не менее Анри поехал, помог Амели закрыть магазин и вывез семью из квартиры на улице Шатоден. Остаток зимы супруги с детьми провели у Матиссов в Боэне. Трудно было выбрать более неблагоприятный момент, чтобы приехать в свой родной город. Реакция на дело Юмберов на Севере была гораздо более яростной, чем где-либо во Франции, за исключением разве что Тулузы. Местные газеты ежедневно публиковали сенсационные бюллетени: Юмберы задолжали северным промышленникам 25 миллионов франков; северяне не только потеряли больше других вкладчиков, но и превратились во всеобщее посмешище. Жители Боэна, мягко говоря, не слишком доброжелательно отнеслись к возвращению блудного сына, учитывая, что его жена приходилась дочерью правой руке Юмберов. Матисс превратился в пугало, которым соседи стращали своих детей. Еще многие годы в Боэне и Сен-Кантене будут считать своего земляка Анри Матисса трижды неудачником: дело отца продолжить не сумел, юристом не стал, и нормального художника из него не вышло – даже правдоподобный портрет или какую другую правильную картину написать не может. Все называли его «городским сумасшедшим», дурнем Матиссом (le sot Matisse).
Хуже, чем весной 1903 года, Матиссу, наверное, не было никогда. В марте он послал письмо Марке, подробно обрисовав страдания, которые причиняет ему бессонница. Он боялся, что бессонные ночи закончатся тяжелейшим нервным расстройством. Желания писать у него не было – оно просто исчезло. Поддержать и подбодрить его было некому: Амели, единственный человек, кто был на это способен, сама пребывала в подавленном состоянии. Продать ничего не получалось. Даже родной брат и тот не захотел ничего купить (Анри припомнит это Огюсту через сорок лет и скажет, что тот мог бы стать богачом, а не заставлять стоять перед ним чуть ли не на коленях). Чувствуя, что родителям его шумное семейство мешает, Матисс с женой и детьми перебрался в принадлежавший отцу дом на улице Фагард, 24. Дом был высокий и узкий, с покатой крышей. В тесной полутемной мансарде с небольшим окном, выходящим во внутренний двор, и двумя крошечными окошками в крыше Матисс устроил мастерскую. Здесь он написал поникшие пурпурные георгины в винном бокале и «Мастерскую на чердаке», изобразив мольберт с картиной, палитру, лежащую на ящике, и складной бамбуковый столик с теми же увядшими георгинами.
Критики увидят в тесном, мрачном пространстве «Мастерской на чердаке» отзвук ночных кошмаров, преследовавших художника: ощущение клаустрофобии усиливалось из-за неестественно яркого света, льющегося из маленького прямоугольника окна, оказывавшегося фокусом всей картины. Сам же Матисс включал «Мастерскую» и «Букет на бамбуковом столе» в число лучших своих полотен. Он сожалел лишь об одном – что ради тональной выразительности прибег к сдержанному колориту. «Лучше всего здесь получились соотношения света и тени (entre les valeurs et les couleurs). Какая глубина и мягкость в тенях! – писал он сыну Пьеру в 1942 году о своих старых картинах. – Что стало с мастерской, где это было написано? Сорок лет назад! Ты был еще маленьким. Я и сейчас вижу тебя в синем полосатом костюмчике, сшитом мамой. Ты тогда был очаровательным».
Матиссы впервые жили под собственной крышей всей семьей, не отдавая то одного, то другого ребенка на попечение бабушек или кормилиц. Но невеселые мысли о будущем, несмотря на семейную идиллию, радости не приносили. «Дела наши плохи, – писал в июле Матисс Бюсси. – Множество неприятностей, больших и маленьких, чаще больших, чем маленьких, которые мне пришлось перенести в жизни, хотя я не очень стар, обязанности, которые я собирался мужественно исполнять, ко всему этому вечный недостаток денег, сопутствующий нашей профессии, – все это приводит меня почти к окончательному решению бросить живопись и заняться другим, скучным, но достаточно денежным ремеслом, чтобы просуществовать». Пьер Матисс, которому в июне 1903-го исполнилось три года, впоследствии вспоминал, что в семье говорили о намерении отца устроиться колористом на фабрику ковров.
Родители приютили Анри с женой и детьми у себя, когда ему больше некуда было деться, но их великодушие имело предел. Мать, разумеется, продолжала верить в любимого сына, как и любая мать, но даже ей возразить отцу теперь было нечего. Все сомнения насчет способностей старшего сына оказались абсолютно обоснованны: шестидесятитрехлетний Ипполит Анри Матисс, человек в городе уважаемый, больше не сомневался: сын позорит его имя. «Несколько дней назад отец со злостью сказал, что все меня держат здесь за придурка, хотя я им пока и не стал, – написал Матисс одному из друзей. – Самое худшее, что во всем этом он винит меня». Конфликт достиг критической точки. Восьмидесятилетним стариком Матисс мог иногда растрогаться до слез, вспоминая отца, «которому доставил столько страданий и который никогда не верил в него».
Единственным выходом оставался отъезд из города, тем более что занимать предназначенный для сдачи в аренду дом бесконечно Матисс не мог. В июле он нашел жилье в восьми милях от Боэна в Лекей-Сен-Жермен – бывшей деревушке, превращенной в спальный район, где в унылых кирпичных бараках ютились работники текстильных фабрик Гиза. Матисс надеялся просуществовать здесь примерно год, рассчитывая на еще более мизерный заработок, чем зарплата фабричного рабочего. Иного выхода из тогдашнего совершенно безнадежного положения не было. «Ныне я полностью исчерпал все возможности моей семьи и рассчитывать на помощь родных далее не могу», – писал Матисс 31 июля Бюсси. Он надеялся, что Амели (которая, к счастью, стала чувствовать себя лучше, едва они покинули Боэн) сумеет поправиться и они продержатся в Лекее хотя бы год.
По словам Жана Пюи, Матиссу к концу 1902 года удалось заработать 1200 франков, продав пять или шесть этюдов Волла-ру, который оценил его новый сдержанный и спокойный стиль. Наверняка можно было бы продать и больше, но хитрец Воллар кормил особенно нуждавшихся художников намеками и туманными обещаниями, а если и платил, то сущие копейки. Пылкая Берта Вейль сама еле сводила концы с концами и была скорее щедра на поддержку словом, нежели делом. В провинции заработать продажей копий старых мастеров было нельзя по определению. Тем не менее после переезда в Лекей душевное состояние Матисса значительно улучшилось. «Моей жене это место подходит, что же касается меня, то я рассчитываю написать как можно больше картин, – писал он другу. – Все было бы хорошо, если бы не дьявольская потребность в деньгах».
При доме Матиссов, стоявшем на обрыве за церковью, имелся сад. Вторым преимуществом здешней жизни был восхитительный вид на гряду меловых холмов. Даже унылые свекольные поля и те сверкали летней зеленью. Впервые Матисс писал семейную жизнь в своем собственном доме и саду, что часто будет делать в будущем: натюрморт с яблоками на измятой скатерти в красно-белую клетку в духе Сезанна; букет желтых и фиолетовых анютиных глазок, в котором не осталось и следа от меланхоличности прошлогодних букетов. Иногда по утрам Матисс надевал рюкзак и шел в соседнюю деревню Боери, где в парке, принадлежавшем его кузену Сонье, писал неброские пейзажи, стараясь уловить игру света и тени. Он потратил массу времени и сил, чтобы заинтересовать коллекционеров, но никто не выразил желания выплачивать ему авансы за будущие картины. Кузен Сонье, купивший за полцены два вида своего скромного шато, остался единственным его покупателем.
После поездки в Париж в середине августа Матиссу пришлось расстаться с мечтой провести год в деревне, а заодно и с планом заключить контракт с неким синдикатом коллекционеров (такие варианты случались, когда у художника заранее выкупались будущие работы). Правда, Воллар, которого Матисс обозвал жуликом (fifi voleur), купил еще несколько картин. Он даже предложил устроить у него в галерее персональную выставку, на что Матисс согласился без особого энтузиазма. «Полагаю, он взглянул бы на меня с осуждением, если бы я отказался от каторжных работ, которые они называют жизнью художника, – написал он с горечью. – Эта выставка станет первой радостью моей буржуазной жизни».
Чтобы присутствовать на сессии суда присяжных по делу Юмберов, Матисс съездил в Париж. Зал суда был переполнен в ожидании, как выразилась газета «Матэн», «одного из самых фантастических и захватывающих судебных спектаклей, какой только можно было вообразить». Юмберы выглядели высохшими и подавленными. Люди смотрели на них и не верили своим глазам: все происходило словно в волшебной сказке, когда золото в один миг превращается в сухие листья. Сменявшие друг друга на свидетельской трибуне банкиры, юристы и бизнесмены в один голос во всеуслышание заверяли, что их заставили поверить во всю эту нелепицу не иначе как посредством колдовства или гипноза. Сама мадам Юмбер, бледная, лихорадочно возбужденная, бросала в зал суда горящие взгляды, то проклиная своих мучителей, то произнося надтреснутым голосом какие-то невнятные фразы. «Великая Тереза» выглядела затравленной. Казалось, весь мир радовался ее унижению.
Месье и мадам Парейр были вызваны в качестве свидетелей во вторую неделю судебных слушаний. Они давали показания спокойно, без драматизма и откровений (во время заседаний их зять настолько расслабился, что даже отлучился из зала и успел назначить пару сеансов натурщику Бевилакве). Никаких новых подозрений в адрес Парейра и его супруги, чьей преданностью воспользовались Юмберы, высказано не было; их единодушно признали невиновными. Тереза и ее супруг отделались достаточно легко: пять лет заключения в одиночной камере. Если бы суд проводился с той же скрупулезностью, что и предварительное расследование, наверняка слишком многие важные персоны лишились бы своих постов. Все во Франции вздохнули с облегчением: дело было закрыто, и никто больше не пытался копаться в коррупционных махинациях. Мадам Юмбер отправилась отбывать срок в женскую тюрьму в Ренн, а ее муж Фредерик – в Мелен. Парейры вернулись к младшей дочери в Руан. Катрин Парейр так и не смогла оправиться от крушения веры в обожаемую Терезу Юмбер, на которой почти три десятилетия зиждилась ее вера в себя. Она умерла в возрасте шестидесяти лет в тот самый год, когда Тереза вышла на свободу (о судьбе самих Юмберов после их освобождения в 1908 году ничего и не известно)[62]62
На основе материалов, изученных в связи с работой над биографией Анри Матисса, Хилари Сперлинг издала в 1999 году небольшую книгу «Великая Тереза, или Грандиозный скандал века».
[Закрыть]. Арман Парейр дожил до преклонного возраста, сохранив неувядаемую любознательность: он много читал, писал, изучал языки. Ученики Берты, в доме которой он жил до конца дней, и дети Матиссов его обожали.
Сами Матиссы вернулись в Париж осенью 1903 года, оставив сыновей на Севере: Жана с любимой бабушкой в Боэне, а Пьера в Руане с тетей Бертой и старшими Парейрами. Маргерит вернулась с родителями, и они зажили прежней жизнью на набережной Сен-Мишель, 19, где Анри арендовал новую мастерскую с тремя небольшими смежными с ней комнатами на пятом этаже. Той осенью Маргерит исполнилось девять, и она уже была вполне самостоятельной девочкой. Марго могла спокойно сидеть и внимательно наблюдать за работой отца или убирать квартиру, когда мать уходила к себе в магазин. После почти двухлетнего перерыва Матисс вновь стал рисовать дочь, и ее профиль появился на глиняном барельефе. С тех пор Маргерит станет его любимой и ничуть не менее важной моделью, чем жена.
В новой мастерской было два окна с видом на Сену – одно смотрело прямо на Нотр-Дам и Дворец правосудия, другое – на мост Сен-Мишель, стоявший чуть выше по течению. Эти виды Матисс писал теперь постоянно. Он вспоминал, что начинал утро, стоя в одиночестве перед «Тремя купальщицами» Сезанна; поднимался рано и осторожно, стараясь не разбудить жену и дочь, почти бесшумно проскальзывал в мастерскую, чтобы успеть рассмотреть картину в первых лучах солнца, поднимающегося из-за собора Нотр-Дам. Потрясение, которое он испытывал, было глубоким и острым. Матисс впитывал в себя Сезанна, как когда-то сам Сезанн – Пуссена; и хотя внешне художники были совершенно непохожи, скрытая связь между ними была несомненна. Влияние картины Сезанна было огромным еще и в духовном смысле. «Если Сезанн прав, значит, и я прав, – повторял Матисс словно заклинание в тяжелые минуты. – А я знаю, что Сезанн не мог ошибаться». Художник, олицетворявший собой разум, ясность и логику, помогал Матиссу справиться с собственными терзаниями. Сезанн верил, что порядок на холсте является следствием порядка в голове и что молодой художник должен первым делом получить четкие ответы на мучающие его вопросы. «Сезанну всегда открывалось столько возможностей, что он больше кого-либо другого нуждался в том, чтобы привести свой разум в порядок», – утверждал Матисс.
Амели пошла работать модисткой в шляпный магазин тети Нины. Анри тоже искал работу, в чем ему всячески пытались помочь друзья. Но пока что единственная реальная поддержка исходила от близкого друга Бюсси Огюста Бреаля, чья жена регулярно приглашала Матиссов на обед и щедро заплатила за два написанных в Лекее холста – целых 400 франков. «Эти деньги появились как нельзя кстати, – сообщил Матисс Бюсси. – Настолько вовремя, что исчезли в один миг». Бреаль, который и сам был художником, предложил Матиссу обеспечить его учениками – он уже нашел их в Лондоне для их общего друга Бюсси. У Бреалей были неплохие связи: через свою жену Огюст Бреаль был близок к английскому семейству Стрэчи. Именно у Стрэчей, чей дом в Лондоне позже превратился в «резиденцию» Блумсберийского кружка[63]63
Блумсберийский кружок – элитарное сообщество британских интеллектуалов, писателей и художников, объединенных сложными семейными, дружескими и творческими отношениями, с 1905 года регулярно собиралось в доме покойного литератора и критика Лесли Стивена на Гордон-сквер в лондонском районе Блумсбери. Наиболее известные члены кружка: писательница Вирджиния Вулф (дочьЛ. Стивена), критик Литтон Стрэчи, экономист Джон M Кейнс и др.
[Закрыть], теперь давал уроки Бюсси (вскоре женившийся на одной из своих учениц, сестре критика Литтона Стрэчи, Дороти). Но Матисс словно притягивал к себе несчастья. В начале ноября пришло сообщение из Руана, что у малыша Пьера тяжелейшее воспаление легких. «Боюсь, что это закончится плохо, – в отчаянии написал Матисс в конце этого ужасного года Бюсси. – Моя жена… только что уехала в Руан выхаживать маленького Пьера… Ему всего три года».
Во второй раз Матиссы едва не потеряли ребенка. Когда Пьер немного окреп, Амели привезла его на набережную Сен-Мишель, и теперь забота о брате стала одной из обязанностей Маргерит. Той зимой Матисс написал бледного, похудевшего Пьера в обнимку с деревянным конем по прозвищу Бидуй. Марго и маленькому мальчику трудно было привыкнуть к художническому быту: позировать, не шуметь, не мешать работать. Отправить сына назад не получилось: едва Пьер оправился, как серьезно заболела его любимая тетя Берта. У сестры Амели давно появились явные симптомы туберкулеза, но она не обращала на это внимания. Когда же под Новый год ей стало совсем плохо, то врачи уже не верили, что она когда-нибудь сможет вернуться в школу к своим любимым ученикам. Берта проболела до самой осени. В просьбе перевести ее в Тулузу ей было отказано. Местные власти сочли, что связи ее семьи с Юмберами делают перевод туда мадемуазель Парейр нежелательным, и Берту направили еще южнее, в Перпиньян. Этот переезд еще сыграет свою роль в дальнейшей жизни Матисса и повлечет за собой невероятные перемены в его живописи.
31 октября 1903 года состоялось торжественное открытие Осеннего Салона. Матисс, Марке и Манген, которым и принадлежала идея нового объединения, собирались выставлять в основном молодых художников и относиться к отбору произведений более либерально. Целый месяц они разрабатывали стратегию и собирали работы для нового Салона, вернисаж которого состоялся холодным осенним вечером в неотапливаемых полуподвальных залах Пти-Пале. Выставка производила мощное впечатление. «Там были дерзость и юношеский задор, прорвавшиеся сквозь монотонность и предсказуемость больших ежегодных Салонов… – писал коллекционер Андре Левель. – Я увидел полотна, которые, как мне показалось, без сомнения будут олицетворять искусство нашего времени и ближайшего будущего. Я поверил им всей душой, клянусь». Матисс был представлен «Тюльпанами» и скучным, старомодным фламандским интерьером «Мотальщик пряжи из Пикардии». Если в Боэне эти картины и могли кого-то тронуть, то в Париже казались вчерашним днем[64]64
Матисс сказал тогда Симону Бюсси, что из созданных за последние шесть лет работ он отобрал для показа лишь те, что представят «толпе собирателей, нисколько не задумывающихся о терзаниях и муках художника, его спокойное, улыбающееся лицо».
[Закрыть]. Работать надо было совершенно иначе. И в начале 1904 года Матисс постепенно возвратился к тому, на чем остановился почти два года назад, чтобы от этой «отправной точки» двинуться вперед, к «искусству будущего».
Он мечтал о свете и цвете. «Ты советуешь мне приехать на Юг, – писал он Бюсси, который с женой проводил лето на средиземноморском побережье, в местечке Рокбрюн вблизи Ментоны, – я и сам мечтаю об этом, но, mon cher, что можно сделать без денег? Полагаю, я должен работать там вдвое больше, чем на Севере, где зимний свет так скуден, – возможно, позже так и случится». Зимой Матисс познакомился с Полем Синьяком, у которого, как выяснилось, был дом в Сен-Тропезе, куда он приглашал на этюды молодых художников. Синьяк был вице-президентом Общества Независимых художников[65]65
Общество Независимых художников (Société des Artistes Indépendan) было основано в 1884 году и с того же года начало проводить выставки, именовавшиеся «Салон Независимых».
[Закрыть], не скованного, в отличие от других выставочных объединений, консервативными вкусами прошедшего века. В 1904 году Общество получило новую площадку – просторные, светлые залы Grandes Serres, стеклянных теплиц, выстроенных на Сене для сельскохозяйственного отдела Всемирной выставки 1900 года. Салон Независимых был единственным, где отказались от старой конкурсной системы и соглашались выставлять всех желающих, будь они даже непрофессиональными художниками. Матисс вошел в комитет по развеске (картин в 1904 году экспонировалось почти две с половиной тысячи) и был выбран одним из заместителей Синьяка. Весной у Независимых сам он выставил шесть полотен – столько же, сколько Камуэн и Марке. Приятели продали все и с триумфом отправились на Юг, а Матиссу удалось найти покупателей только на натюрморт с цветами и один из интерьеров.








