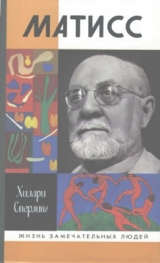
Текст книги "Матисс"
Автор книги: Хилари Сперлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
За борьбой художника пристально следил его старый знакомый по мастерской Бурделя Мечислав Гольберг. Где-то в конце лета Матисс получил от него письмо с предложением письменно оформить «доводы в свою защиту»: Гольберг был готов посвятить очередной выпуск своего небольшого, но весьма престижного журнала об искусстве целиком Матиссу. Никто никогда не предлагал ему ничего подобного. Впервые за двадцать лет «сражений с холстом» Матисс отложил кисти и краски. Он позволил себе подвести некоторые итоги достигнутому и даже заглянуть в будущее. 10 сентября 1907 года Гольберг получил текст «Заметок живописца», который тут же передал в набор. Вот уже два года прикованный к больничной койке Мечислав медленно умирал в санатории в Фонтенбло. Он знал, что готовящийся номер «Cahiers de Mécislas Golberg» станет его завещанием. Матисс приехал его навестить, и они вместе подобрали иллюстрации к «Заметкам», но взять интервью у художника Гольберг был уже не в силах. Они договорились, что материал о творчестве Матисса подготовит его сотрудник.
Познания в живописи этого молодого помощника были довольно отрывочны, а критические статьи представляли собой не более чем пересказ слухов и неумеренное восхваление друзей (Пикассо в первую очередь), и звали его Гийом Аполлинер[96]96
Гийом Аполлинер (1880–1918, настоящие имя и фамилия Вильгельм Аполлинарий Костровицкий) – французский поэт и критик польско-итальянского происхождения, один из самых влиятельных деятелей художественного авангарда начала XX века.
[Закрыть]. Несколько недель он не появлялся, а потом, во время ужина, наспех взял интервью. По правде говоря, Матисс лишь отвечал на вопросы, подготовленные Гольбергом, который скончался 28 декабря в Фонтенбло. Ровно за две недели до смерти он увидел взятое по его просьбе интервью Матисса в соперничавшем издании «Фаланга» («La Phalange»). Из-за этого прискорбного эпизода со своим первым интервью Матисс всегда довольно презрительно относился к критическим высказываниям поэта, во многом обязанного началом карьеры художественного критика именно Гольбергу.
Матиссовские «Заметки живописца» остались неопубликованными. Вместо них в январском и последнем номере издаваемого Гольбергом журнала появилась статья «Дикие» («Les Fauves»), принадлежавшая перу Мишеля Пюи, – пространный и категоричный по тону обзор творчества Матисса (проиллюстрированный «Видом Кольюра») с кратким упоминанием о других фовистах в заключение. Какими бы схематичными и грубыми ни кажутся нам последние работы Матисса, писал автор, мы (Пюи имел в виду себя и своего брата, художника Жана Пюи) не в силах оторвать от них взгляда: они настолько мощны, что, кажется, вобрали в себя энергию всего Осеннего Салона. На закрывшемся более трех месяцев назад Салоне 1907 года были выставлены три новые картины Матисса: «Роскошь I», небольшой эскиз «Музыка» и блистательный декоративный портрет Амели («Женщина в красном мадрасском платье»). Две последние Сара и Майкл Стайны купили сразу, а «Роскошь I» попросили одолжить на время. Еще две картины Матисс продал супружеской паре из Германии, художнику Оскару Моллю и его молодой жене Грете, которая не могла забыть сверкающие глаза художника, его рыжую бороду и черную шубу из овчины, вывернутой мехом наружу. Пуррман привел Моллей в мастерскую на набережной Сен-Мишель, где они сразу влюбились в «Трех купальщиц», – небольшой холст излучал такую мощь, что показался Грете намного больше, чем был на самом деле. С этой покупки и началась одна из лучших коллекций Матисса в Европе.
Перемены в живописи набирали все более стремительный темп, и во главе движения шел Матисс, которого Аполлинер назвал «дичайшим из “диких”». Осенний Салон был наводнен работами художников, имитирующих его стиль, но не имеющих, по словам самого Матисса, ни малейшего понятия о его сути. Грета Молль вспоминала картину некой русской художницы, изображавшую «сидящего на корточках мужчину, впившегося острыми зубами в собственную ногу, из которой струилась кровь». Художники, пытающиеся копировать мой стиль, говорил Матисс, так же мало разбираются в нем, как и те злопыхатели, которые разглядели десять лет назад микробы на дне графинов в моем «Десертном столе».
Как-то осенью Матисс выбрался в Бато-Лавуар посмотреть на «Авиньонских девиц» Пикассо. Картина показалась ему насмешкой над всем, за что он так долго боролся и чего с таким трудом достиг. Большинство с ним соглашалось. Жорж Брак говорил, что при виде ее ему кажется, будто он наелся паклй или хлебнул бензину, а Дерен мрачно предрекал, что Пикассо кончит тем, что повесится в мастерской рядом со своими «Девицами». Однако спустя всего шесть месяцев и Брак, и Дерен изменят свое мнение на прямо противоположное и переметнутся от фовизма к новому, пока еще безымянному движению, возглавляемому Пикассо. К этому времени наиболее влиятельные пропагандисты современного искусства расколются на два лагеря. Лео и Гертруда Стайн уступят большую часть принадлежащих им полотен Матисса Саре и Майклу, а сама Гертруда использует все свое влияние для поддержки Пикассо и будет делать все возможное, чтобы сеять вражду между «матиссиста-ми» и «пикассистами».
Между художниками начнется бесконечный творческий диалог, который нередко будет напоминать дуэль. Спустя сорок лет, сравнивая карьеру Пикассо со своей, Матисс скажет, что действовал медлительней, нежели Пикассо, усваивавший все новое с завидной скоростью. Для Пикассо были открыты все пути (хотя он и не соглашался с этим, уверяя, что всю жизнь боролся против легких путей), тогда как Матисс всегда шел одним, единственно возможным для себя путем[97]97
Метод Матисса – это «сознательное созидание по намеченному плану», он «идет своей дорогой по определенному маршруту», тогда как Пикассо «отбрасывает все ограничения», – написал один из критиков.
[Закрыть]. Разжигаемая Стайнами конфронтация между двумя столь полярными мастерами принесла неплохие результаты, ибо спровоцировала одно из самых продуктивных соперничеств в истории западного искусства. Цели, которые преследовали оба художника, были совершенно противоположными: «Мы как два полюса: он – Северный, а я – Южный», – говорил Матисс. Рожденный у линии фронта Матисс, с детства знакомый с ужасами войны, всю жизнь терпевший издевки и оскорбления, искал и находил в своей живописи спокойствие и стабильность, которых ему так недоставало в профессиональной или личной жизни. Пикассо, сравнительно защищенный от трагедий XX столетия, с ранних лет окруженный восхищением и поклонением, положил в основу своего великого искусства распад и разрушение. Как человек, Матисс всегда пытался дистанцироваться от насмешливого тона клоунов и шарлатанов. Для Пикассо же шутовство стало второй натурой. «Он отворачивается от собственного “я”, – тонко подметил Матисс в 1951 году, когда ему был восемьдесят один год, а Пикассо еще только семьдесят. – Он от природы эстет, а хочет быть крестьянином, пашущим землю в тяжелых сапожищах».
Недвусмысленные насмешки в свой адрес были Матиссу неприятны, но сомнительный почет беспокоил его ничуть не меньше. Он так активно старался разъяснять свою позицию, что осенью 1907 года даже открыл мастерскую на набережной Сен-Мишель и раз в неделю, после полудня, показывал свои работы, объясняя, с чего начал и в каком направлении движется в своем творчестве. Приглашались все желающие, но приходили в основном иностранцы, посещавшие, подобно Пуррману и супругам Молль, рисовальные классы Коларосси. Сара Стайн, которая в ту пору серьезно занялась живописью, сумела уговорить Матисса давать уроки небольшой группе ее друзей. «В то время мне важно было быть понятым. Я знал, что мне нужно занять определенное место. Я хотел его занять. Вот почему я открыл школу», – скажет художник впоследствии. Вместе с Пуррманом Сара арендовала помещение в уже упоминавшейся «Птичьей обители» («Couvent des Oiseaux»), заброшенном женском монастыре, где у Матисса имелась вторая мастерская. Он согласился раз в неделю проверять работы студентов «без какого-либо вознаграждения», полагая, что «материальные соображения» помешают ему в любой момент прекратить это занятие (позже, правда, пришлось все-таки установить плату за обучение – во избежание чрезмерного наплыва безденежных желающих). Большинство учеников либо были друзьями его семьи, либо сделались ими в процессе учебы, как двадцатитрехлетняя Грета Молль, бывшая в классе самой молодой. Грета подружилась с мадам Матисс, часто играла с Маргерит и Пьером (Жан еще ходил в школу у бабушки в Боэне), а в декабре устроила для маленьких Матиссов настоящую немецкую рождественскую елку с блестками, серебряными шарами и свечами. Это было их первое Рождество в новом семейном доме.
После пятнадцати лет житья то на одном, то на другом этаже в доме на набережной Сен-Мишель, 19, Матисс с женой и детьми перебрались в пустовавший женский монастырь Святого сердца (Sacré-Coeur), на углу бульвара Инвалидов и улицы Бабилон. Огромная трапезная с высокими белыми стенами превратилась в мастерскую, отделенную перегородкой от помещения, в котором проходили занятия «Академии Матисса». Первый этаж очаровательного особняка XVIII века заняло семейство художника, до декабря 1907 года обитавшее то в комнате над магазином Амели, то в крошечных комнатках при мастерской на набережной, устроенных для одиноких холостяков. Девятилетнего Жана забрали наконец из Боэна, и впервые со дня рождения он остался жить с родителями. Счастливые отец и мать развесили по стенам картины и стали устраивать обеды для друзей: готовила Амели, вина выбирал Воллар, а в особо торжественных случаях прислуживать за столом приглашали итальянского натурщика Бевилакву, облачавшегося во взятую напрокат ливрею. Монастырская приемная длиною в шесть метров стала салоном Амели: из ее высоких окон был виден Отель Бирон (в котором жил Огюст Роден и который позже превратился в его музей). Этажом выше поселились Ханс Пуррман и американец по имени Патрик Генри Брюс, а мансарду заняли две русские девушки.
Матисс был строг и требователен. «Матисс мыслит как художник, – писал Пуррман. – В нем нет ничего от учителя, он почти всегда оставался таким же учеником, как мы». Советы, которые он давал, всегда основывались на собственном опыте, а общение с учениками только помогало анализировать и переосмысливать достигнутое. Занятия с ним увлекали и будоражили воображение, но самыми полезными и конструктивными, по общему мнению, были практические уроки. Матисс умел сделать рисование таким же простым и естественным, как дыхание. «Всегда нужно понять, куда линия хочет идти и где она хочет сойти на нет», – говорил он. Его чувство композиции было подобно музыкальному слуху. Свои умозаключения Матисс формулировал в ясных и убедительных метафорах. Создание картины он, например, уподоблял труду кулинара, или плотника, или строителя: «Вы видите цвета черепицы, карниза, стен и ставней, которые все вместе составляют единое целое; такой же должна быть и картина».
Многое из того, что он говорил, было довольно-таки сложно для понимания. Но Матисс не делал скидок на неопытность своих учеников, слушавших затаив дыхание, как он, шаг за шагом, вел их путем, который прошел сам. Он заставлял их копировать классические гипсы, отправлял по субботам в Лувр и объяснял свою теорию цвета, демонстрируя ее суть на практике. Все переходили в мастерскую, находившуюся за соседней дверью, где Учитель раскладывал перед ними резные жезлы и фигурки африканских племен, объясняя их скульптурные достоинства, или с гордостью показывал рисунки Майоля, Руо и восхитительный чернильный набросок Ван Гога. Кульминацией обычно становилась картина Сезанна «Три купальщицы». «Его молчание перед ней было красноречивее любых слов. В такие мгновения в мастерской воцарялся дух восторга и благоговения». Группа студентов-энтузиастов – восемь-десять человек, все, кроме одного, иностранцы, все примерно одного возраста, в большинстве своем впервые оказавшиеся вдали от дома, – больше походила на большую семью, чем на академический класс. Матиссу вообще всегда лучше работалось в кругу семьи. Позже, когда класс сильно разросся, «Академия Матисса» утратила эту семейность, а ее руководитель – свой энтузиазм. «Никогда больше Матисс не был столь открыт, – писала Грета Молль, – столь переполнен желанием поделиться своими знаниями и опытом, никогда он так вдохновенно не беседовал об искусстве, художниках, никогда так заинтересованно не обсуждал наши работы, как в эти первые счастливые месяцы».
Матисс предложил юной Грете написать ее портрет. У Молль были голубые глаза, розовые щеки и волосы цвета то ли меда, то ли спелой кукурузы. Когда же после первых сеансов (Грета позировала по три часа в день) портрет стал приобретать поразительное сходство с оригиналом, художник пришел в ярость. «Несмотря на все мои старания… я не мог продвинуться дальше внешнего очарования, – сетовал он, – мне никак не удавалось уловить присущую ей статуарность». Тогда он заперся в мастерской и переписал портрет: убрал золотые кудри, изменил форму головы и прически, а руки сделал толще и грубее – чтобы они гармонировали с разросшимися арабесками «ткани из Жуй» на заднем плане. Увидев, что Матисс сделал с портретом, Грета и ее муж пришли в ужас. Другие модели в подобных обстоятельствах либо заливались слезами, либо наотрез отказывались от портрета. Молли обдумывали, как поступить, целых два дня, а потом передали через Пуррмана, что покупают картину (хотя она стоила больше, нежели они могли себе позволить). «Картина стала нашей и нравилась нам все больше и больше… Это одна из самых прекрасных и сильных работ Матисса», – писала Грета полвека спустя, цитируя, с нескрываемым удовольствием, слова критика Андре Сальмона о ее портрете: «Я мог бы убить человека, который им владеет, ради того, чтобы заполучить его».
Грета позировала, сидя перед огромным двухметровым полотном, превосходившим по своим размерам даже «Роскошь». Им была картина «Купальщицы с черепахой», законченная Матиссом в феврале 1908 года, а уже в марте зарезервированная для себя Карлом Эрнстом Остхаузом по настоянию Пуррмана. А в апреле на бульваре Инвалидов, 33, появился коллекционер из России Сергей Щукин (Матисс встретил его у Независимых и пригласил в мастерскую). Во время их последней встречи у Дрюэ восемнадцать месяцев назад Щукин покупал Гогена. Теперь он «дозрел» до Матисса. «Русский обезумел от вашей картины, он беспрерывно говорил о цвете и захотел получить повторение, что Матисс, однако, отказался делать», – писал староста «Академии Матисса» Ханс Пуррман Остхаузу, пересказывая восторги Щукина по поводу «Купальщиц с черепахой». Строгое, сдержанное полотно, так понравившееся Щукину, было упрощенной версией прошлогодней картины «Три купальщицы». На фоне пейзажа, который Матисс свел к трем цветным горизонтальным полосам, изображавшим траву, воду и небо, три стилизованные женские фигуры (почти в натуральную величину) рассматривали маленькую черепаху – единственное яркое пятно на всем огромном холсте. «Я все время думаю о вашем восхитительном “Море”, – напишет Щукин художнику после возвращения в Москву, имея в виду именно «Купальщиц с черепахой». – Я живо ощущаю эту свежесть, это величие океана и это чувство печали и меланхолии».
Весной 1908 года Сергей Иванович Щукин оказался на распутье. Стабильное существование крупнейшего российского торговца текстилем, внешне такого же собранного и солидного, как и Матисс, было нарушено целой цепью страшных потрясений: сначала самоубийство младшего сына, затем внезапная смерть жены и, наконец, самоубийство младшего брата в январе 1908 года в Париже. Он чувствовал, что потерял все, что было ему так дорого в прежней, счастливой жизни. Попытки заполнить образовавшуюся пустоту – путешествия, щедрая благотворительность, уход в религию, деловая активность – оказались тщетными. Приезжая в Париж, Щукин часто ходил в египетские залы Лувра. Он говорил Матиссу, что чувствует в искусстве Древнего Египта тот же сгусток энергии, что и в картинах Сезанна. Визит в мастерскую Матисса неожиданно дал волю эмоциям Щукина, которые тот в себе доселе подавлял. Впервые встретив живого художника, чьи картины разговаривали с ним с такой убедительной непосредственностью, Щукин «неистово начал скупать всего Матисса, какого только мог найти в Париже», как выразился Пуррман.
Торговцы были поражены готовностью русского платить за авангардное искусство цену, по которой до сих пор продавалась только салонная живопись. Благодаря покровительству Щукина жизнь Матисса, с материальной точки зрения, буквально преобразилась. Впрочем, взаимоотношения между ними с самого начала были скорее творческими, нежели чисто коммерческими. Ни один из коллекционеров не воодушевлял Матисса так, как Щукин, заказавший перед отъездом в Москву сразу три новые картины. Во-первых, он пожелал иметь варианты двух рабод, принадлежавших Остхаузу (речь шла о картинах «Купальщццы с черепахой» и «Нимфа и сатир»), а во-вторых, огромное декоративное панно для парадной столовой своего московского особняка. Матисс словно только и ждал этого заказа и сразу же начал новую картину. На фоне ровных горизонтальньгх полос зеленой травы, светло-синего моря и темно-синего неба он в третий раз написал три фигуры – на этот раз мальчиков, играющих в шары.
«Игра в шары» входила в серию условно-плоскостных настенных панно – ничего более смелого Матиссом до той поры сделано не было. При виде огромных, однообразных, устрашающих цветовых плоскостей «Купальщиц с черепахой» даже Сара Стайн засомневалась, не говоря уже об остальных. Зато Щукин влюбился в картину с первого взгляда, а когда понял, что заполучить ее не удастся, сразу заказал Матиссу написать для него другие три, включая декоративное панно для столовой размером вдвое больше, чем остхаузовские «Купальщицы». Щукин лишь попросил выдержать панно в синей гамме, поскольку собирался повесить картину рядом с пылающими ярко-желтыми красками полотнами Гогена (которых к 1910 году в столовой соберется шестнадцать, и все вместе они составят знаменитый «гогеновский иконостас»). Заказ русского коллекционера станет проверкой возможностей новой манеры Матисса, который ради этого вернется к сюжету, выбранному его учителем Густавом Моро десять лет назад тоже в качестве «образца для испытания». В новой версии «Десертного стола» появятся все старые мотивы: окно, стул с высокой спинкой, скатерть, фрукты, цветы, графины с вином, служанка в черном платье и белом переднике. Но на этот раз лейтмотивом станет скатерть – переходящая из картины в картину «ткань из Жуй», вдохновлявшая Матисса при создании нескольких натюрмортов и портрета Греты Молль. В новом «Десертном столе» или же «Гармонии в голубом» украшенное арабесками и корзинками цветов сине-белое полотно займет почти весь холст.
Матисс работал над «большим натюрмортом» (GNM – grande nature-morte – как он его назвал в письмах) все лето 1908 года. Семейная поездка на юг, ставшая уже традиционной, на сей раз была отложена. Из-за болезни матери Амели пришлось уехать в Перпиньян, где Катрин Парейр, окруженная заботливыми дочерьми, слабела с каждым днем. А Матисс остался в Париже – работать над щукинскими заказами. Законченную «Гармонию в голубом» пришли посмотреть Амбруаз Воллар и Эжен Дрюэ, который 6 июля сфотографировал картину[98]98
Дрюэ сделал тогда не традиционный черно-белый снимок, а цветной диапозитив, который впоследствии сильно выгорел. Только благодаря ему и узким полоскам прежней живописи у кромки холста, оставшимся от «Гармонии в голубом», можно представить себе первоначальную гамму картины, превращенной Матиссом в «Гармонию в красном», ныне хранящуюся в Государственном Эрмитаже. Эжен Дрюэ ввел практику фотографирования произведений художников. Подобные фотографии назывались «Druet Process».
[Закрыть], после чего Матисс почти сразу переписал ее в красной гамме. Внуки правнук ткачей, имевших обыкновение менять цвет своих узоров, он не находил в этой процедуре ничего необычного. Художник объяснял Анри Кроссу, что в его тогдашних экспериментах цвет был главной движущей силой и «Гармонию» он переписал «ради лучшего цветового равновесия». «Он ничего не понимает, – раздражался Матисс, когда кто-то говорил ему, что он написал совершенно другую картину. – Это не другая картина. Просто я ищу силу и равновесие цвета». Почти вся поверхность холста стала теперь красной: красный цвет, словно разлившаяся краска, перетек со скатерти на стену, и всё в картине соединилось в общий узор. Яблоки, апельсины, лимоны, графины, замысловатая ваза в центре стола и даже служанка с фруктами, все утратили свою индивидуальность и подчинились, подобно инструментам в оркестре, ритму синих арабесок скатерти.
Ткацкое дело на родине Матисса шло рука об руку с радикальным новаторством. В «Гармонии в красном» художник использовал богатейшие декоративные традиции края, в котором родился; он ниспровергал академические правила, пытаясь доказать свою преданность чистому цвету, которую всеми силами стремились обуздать его учителя. Щукин, увидев осенью ожидаемую с таким нетерпением «Гармонию в голубом», нисколько не смутился ее превращением в «Гармонию в красном». Некоторые объясняли эту покорность доверчивостью неотесанного, малообразованного барина, «привыкшего к кроваво-красному цвету старинных русских икон». Однако Сергей Щукин занимался текстилем профессионально. Он унаследовал процветающую компанию, которая под его руководством превратилась в текстильную империю «И. В. Щукин и сыновья», одну из ведущих российских торговых фирм. Привыкший сам выбирать расцветки и узоры тканей[99]99
В его конторе даже имелось несколько дизайнеров, или, как их тогда называли, «ученых рисовальщиков», которые работали над созданием ассортимента для фабрик, продукцией которых торговала фирма «И. В. Щукин и сыновья».
[Закрыть], он инстинктивно понял синтаксис нового изобразительного языка Матисса, уловив не только его свободу и широту диапазона, но и экспрессивную мощь. «Декоративность и выразительность, по сути, одно и то же», – говорил Матисс, и Щукин был в числе тех немногих, кто понимал, что под этим подразумевал художник. Русский коллекционер одним из первых почувствовал, что Матиссу удалось «довести силу цвета и энергию линии до интенсивности, неведомой прежним поколениям».
Лаконичные письма, которые Матисс писал Щукину летом девятьсот восьмого года, сообщая об успехах и задержках в работе, перемежались неутешительными новостями, которые приходили в Париж из Перпиньяна, где угасала его теща. Матисс бился над преобразованием синего в красное, когда в конце июля она умерла. Смерть мадам Парейр подвела черту под скандалом с Юмберами, который едва не погубил ее семью. И хотя ни друзья, ни родственники Матисса никогда не касались этой темы, горький осадок той истории остался навсегда. Все связанное с процессом Юмберов считалось в семье табу, поэтому страх перед всем, что могло показаться вторжением в их личную жизнь, передался следующим поколениям. Пренебрежение мадам Парейр к нападавшей на нее прессе десятилетиями продолжало жить в ее потомках, не говоря уже о самом Матиссе. Анри Матисс, безусловно, считался выдающимся художником, но о его человеческих качествах отзывались весьма нелицеприятно; при жизни да и долгое время после кончины его называли эгоистичным, черствым и скупым. И мало кто догадывался, что во многом это происходило из-за невероятной скрытности семьи, бывшей настолько единодушной в своем нежелании раскрывать фамильные секреты, что тайна мадам Парейр, сошедшей в могилу в 1908 году, оставалась похоронена вместе с ней еще целых девяносто лет[100]100
Автор имеет в виду свои собственные исследования, связанные со скандалом вокруг Юмберов; до публикаций Хилари Сперлинг этот эпЯ' зод никогда не предавался огласке.
[Закрыть].
После похорон Матиссы вернулись в Париж, где Анри продолжил готовиться к предстоящему Осеннему Салону, в члены отборочного комитета которого он был приглашен вместе с Марке. Среди единодушно отвергнутых жюри работ оказались и картины Жоржа Брака[101]101
Жорж Брак (1882–1963) – французский художник, один из родоначальников кубизма.
[Закрыть], чье сотрудничество с Пикассо грозило отменой всех основополагающих критериев, которыми доселе руководствовалось жюри. Пытаясь описать одно из браковских творений критику Луи Вокселю, Матисс набросал на бумаге комбинацию из прямых и поперечных линий. «Картина состоит из маленьких кубиков» («Un tableau fait de petits cubes»), – произнес он фразу, которой было суждено остаться в истории.
Сам же он выставил в Салоне несколько картин, центральной из которых стала «Гармония в красном». «Неожиданно я оказался перед стеной, которая пела, – нет, она кричала, кричала красками и излучала сияние, – написал о картине молодой скандинавский студент. – Что-то совершенно новое и беспощадное было в ее необузданной свободе…» Счастливым обладателем «Гармонии в красном» был Сергей Щукин, появившийся на парижской сцене, чтобы принять у Сары Стайн эстафету «главного собирателя Матисса». Желание русского коллекционера собрать подобную коллекцию (щукинские письма художнику той поры так и пестрят ссылками на картины мадам Стайн) вскоре осуществится. Он станет обладателем тридцати семи матиссовских полотен (через руки Сары Стайн прошло примерно столько же), которые выставит для публики в своем московском особняке, превратившемся накануне революции в первый в мире музей современного искусства.
Не кто иной, как Матисс пригласил Щукина осенью 1908 года в мастерскую Пикассо в Бато-Лавуар посмотреть «Авиньонских девиц». Поначалу картина вызвала у гостя отвращение, но затем он изменил свое мнение и стал покупать работы Пикассо десятками – и это при том, что кубистическая живопись становилась все более и более агрессивной, все более трудной для понимания и практически непродаваемой. Матисс, надо отдать ему должное, часто проявлял инициативу и представлял работы коллег дилерам и коллекционерам. Делал он это от чистого сердца и заботу о друзьях и приятелях не афишировал: старался проводить работы через строгое выставочное жюри, помогал развешивать и продавать картины; часто подбадривал и помогал советом, знакомил собственных потенциальных покупателей с художниками, которые терпели нужду. Манген, Марке, Пюи, Дерен, которых взял под свое крыло и стал продавать Воллар, были обязаны своими успехами прежде всего Матиссу, чье собственное материальное положение было в ту пору, конечно, не столь бедственным, но все же еще далеко не стабильным.
Однако даже относительный достаток не изменил семейных приоритетов. Едва у них осенью появились деньги, как Матисс позволил себе пополнить коллекцию и купил одного Ренуара у Дрюэ и шесть акварелей Сезанна у Воллара. В тот самый день, когда пребывавшая в состоянии полного счастья от сыпавшихся на мужа щукинских заказов Амели Матисс похвасталась Грете Молль, что купила замечательные простыни в универмаге «Бон Марше», Матисс тоже отправился за покупками. «Изумительный персидский ковер был чудо как хорош. Он не мог забыть его и только повторял: “Как он прекрасен! Как прекрасен!”» Эти восторги у Амели выслушивала в течение двадцати четырех часов, а потом пошла и вернула простыни. Семейный бюджет не мог осилить двух покупок, и повторилась история с синей бабочкой. Матисс получил свой волшебный ковер и, как вспоминала Грета Молль, сидел довольный, попыхивая сигарой, любуясь его красками и орнаментом, которые вскоре перевоплотятся в чудесный «Натюрморт в венецианском красном».
В последних числах 1908 года написанные Матиссом по просьбе покойного Гольберга «Заметки живописца» опубликовал авторитетный журнал «Grande Revue». В том же году его работы впервые экспонировались в Лондоне («Импрессионизм… впал в детство благодаря месье Матиссу, темы которого и их трактовка откровенно инфантильны», – писал критик из «Burlington Magazine»), Нью-Йорке («французский художник умен, дьявольски умен… Тремя яростными мазками он способен изобразить самку во всей ее срамоте и омерзении») и Москве (где приведенные в замешательство любители искусства реагировали на его живопись, по удачному выражению князя Сергея Щербатова, «словно эскимосы на граммофон»). Завершал Матисс девятьсот восьмой год в Берлине, куда приехал на открытие своей выставки в галерее Пауля Кассирера вместе с Пуррманом и Моллями. «Гвоздем» ее стала «Гармония в красном», сделавшая последнюю остановку в Западной Европе по пути в Москву. Самые смелые поклонники художника были напуганы. Критики называли его картины бессмысленным, бесстыдным, инфантильным уродством или того хуже – болезненным и опасным бредом сумасшедшего. И хотя Матисс всеми силами стремился достичь гармонии, именно ее менее всего находили современники в его искусстве.
В новогоднюю ночь 1909 года Матисс вступил в свое сорокалетие. Тосты за будущий успех могли показаться преждевременными, хотя, сколько бы нападок ни пришлось ему еще вытерпеть, он вполне мог рассчитывать на поддержку отряда своих самых преданных сторонников во главе с Сарой Стайн, Пуррманом и Моллями, к которым теперь прибавилось еще и мощное подкрепление в лице Щукина. Но не менее важным было обретение равного себе соперника: феноменальная быстрота реакции Пабло Пикассо и его «звериный взор» будут заставлять Матисса постоянно работать на пределе возможного. В довершение всего он наконец научился сдерживать всплеск неконтролируемых эмоций, что и позволило ему стать настоящим художником. «Если в картине царят порядок и ясность, – писал Матисс в «Заметках живописца», – то это означает, что порядок и ясность с самого начала существовали в уме художника или же художник сознавал их необходимость».
В этом и состояла суть строгой теории, сформулированной в «Заметках живописца», опробованной в портрете Греты Молль и реализованной в «Гармонии в красном». В начале XX столетия, в момент невиданного разброда и шатаний, Матисс мечтал об «искусстве уравновешенном, чистом, спокойном, без волнующего или захватывающего сюжета». Он говорил, что искусство должно быть облегчением, «отдыхом от мозговой деятельности, чем-то вроде удобного кресла», и эта метафора насчет удобного кресла принесет ему гораздо больше вреда, чем любое другое из его образных выражений. Не зная биографии Матисса, вникнуть в смысл этих слов сложно. Только спокойствие и стабильность искусства могли «нейтрализовать» человеческие страдания, которым он, годами терпевший унижения и насмешки, видевший насилие и разруху, искренне сопереживал. В «Гармонии в красном», но с еще большей силой в последовавших за ней «Танце» и «Музыке» искусство Матисса достигло такой эмоциональной глубины и чистоты чувств, какие, наверное, присущи только музыке.
В начале января, по пути из Берлина домой, Матисс заехал к Остхаузу, жившему неподалеку от Эссена. Он хотел посмотреть, как установили в доме коллекционера в Хаагене его керамический триптих. Сюжет «Нимфы и сатира» был вполне традиционен: в центре – волосатый сатир, подкравшийся к уснувшей нимфе, а на боковых панелях – та же коренастая, мускулистая нимфа изображает танцевальное па, и все это в обрамлении бордюра из виноградных гроздьев. Недавно он закончил картину на тот же сюжет, но остхаузовский сатир с аккуратной бородкой и торчащими ушами совершенно преобразился на оставшемся в парижской мастерской холсте. Матисс недвусмысленно очеловечил аллегорический сюжет: грубый, похотливый мужчина крадется к обнаженной женщине, свернувшейся на земле. Бледно-розовая плоть мужчины обведена красным цветом возбуждения. Таким же красным обведено и тело женщины, но каждая линия ее выразительного тела – склоненная голова, повисшие груди, раскинутые руки и ноги – демонстрирует изнеможение, беспомощность и вынужденную капитуляцию.
Картина написана в духе «Похищения» («Насилия») Сезанна, где точно такой же обнаженный мужчина властно увлекает за собой такую же безвольную, вялую женщину. Неистовый эротический заряд обеих картин усиливался резким цветом и размашистостью линий. В случае Матисса вызывающей выглядела даже сама живописная фактура: стремительные мазки, грубые контуры пейзажа, заполненного однотонной зеленью, расплывчатые пятна вокруг головы, руки и колена мужчины – все передает крайнее возбуждение. «Нимфа и сатир», как и полотно Сезанна, картина одновременно очень личная и символичная. Кажется, что матиссовский сатир собирается задушить жертву своими огромными красными ручищами – точно такое же желание испытывал Матисс всякий раз, когда начинал писать. Спустя многие годы художник признался поэту Луи Арагону, что каждая картина была для него насилием. «Насилием над кем? – вопрошал он, поражая собеседника (а может быть, и себя самого) грубым сравнением, всплывшим из глубины подсознания через три десятилетия после написания «Нимфы и сатира». – Насилием над собой, над своей нежностью или слабостью перед сочувствующим объектом». По-видимому, он подразумевал, что женские модели возбуждали в нем те же чувства, которые разжигало творческое вдохновение во время работы. То, что скрывалось за этими чувствами, и привело к созданию картины «Нимфа и сатир», которую художник сначала назвал «Фавн, застигающий нимфу врасплох».








