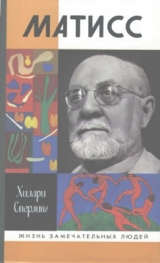
Текст книги "Матисс"
Автор книги: Хилари Сперлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
Глава седьмая.
ОТКРЫТИЕ ВОСТОКА.
1910–1911
Переезд в Исси-ле-Мулино осенью 1909 года был не просто переменой адреса: Матисс принял решение удалиться со сцены. «Если когда-нибудь история моей жизни будет правдиво рассказана от начала и до конца, – написал он более тридцати лет спустя сыну, – она удивит каждого. Когда меня втаптывали в грязь, я терпел и не протестовал… и чем дальше, тем все сильнее и сильнее осознавал, насколько был непонят и как несправедливы были ко мне». Общественный бойкот сделал его упрямым. «Весь мир отвернулся от него, – говорила Лидия Де-лекторская, с которой художник в последние годы жизни был, наверное, откровенней, чем с кем-либо другим. – Все столпились вокруг кубистов, Пикассо окружала целая свита. Это был вопрос чести. Он этого никак не проявлял и никогда не показывал, насколько глубоко это его ранило».
Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал случай в одном из артистических кафе на Монпарнасе, куда как-то зашел Матисс. Сидевший там Пикассо с компанией сделали вид, будто не заметили его, и Матисс остался сидеть в одиночестве. И ни один художник, которых в кафе было полным-полно, не ответил на его приветствие. «Всю жизнь я провел в карантине», – с горечью говорил он, вспоминая эту сцену. Недавний его союзник Андре Дерен переметнулся вместе с Жоржем Браком и другими фовистами в лагерь Пикассо, но их дезертирство стало для него даже некоторым облегчением. Матисс никогда не рассматривал себя лидером партии – искусство вообще для него не имело политического измерения. «Он не рвался отражать удары противников и бороться за благосклонность непостоянных друзей, – писала одна из жен Пикассо, Франсуаза Жило. – Он боролся только с собой, поскольку главным его соперником был он сам». Для кубистов, ставших самым влиятельным и наиболее воинственно настроенным из всех тогдашних художественных объединений, Матисс оставался любимой мишенью. И тогда он решил исчезнуть и переехал в Исси. «Я затаился и стал наблюдать, что же произойдет».
Матисс и стремился к уединению, и одновременно страшился своего затворничества. Их новый дом по адресу Кламарское шоссе, 92, находился ровно на полпути между Исси, бывшим тогда небольшим поселком, и новой железнодорожной станцией Кламар. Трехэтажный поместительный каменный особняк стоял за высокой оградой на вершине холма, откуда были видны выстроившиеся вдоль берегов Сены заводы, окрестные поля и огороды. Комнаты были небольшие, но на редкость пропорциональные, а главное, здесь имелись телефон, ванная и центральное отопление, что в те времена еще считалось большой редкостью. Матиссы не знали никого в округе, и по соседству с ними в первые годы вообще никто не жил, поэтому Анри на всякий случай держал при себе пистолет и запрещал мальчикам вечерами выходить из дома одним. И хотя ежедневно с вокзала Монпарнас в Кламар уходили десятки электричек, для круга, к которому принадлежали художник и его жена, Исси-ле-Мулино находился за чертой известного им мира.
В Париже болтали, что Матисс обзавелся шикарным поместьем и зарабатывает огромные деньги, но на первых порах жизни в Исси дела у семейства обстояли далеко не блестяще. Три тысячи франков в год для их бюджета были весьма обременительны, и довольно часто в конце квартала им не хватало денег, чтобы заплатить за аренду дома, особенно если к этому прибавлялись счета за непредвиденные визиты к врачу. Если бы не контракт с галереей Бернхемов, который Матисс подписал той осенью, арендовать дом в Исси они бы точно не смогли. Братья Жосс и Гастон Бернхемы, они же Бернхем-Жёны (то есть Бернхемы-младшие) соглашались покупать все, что напишет художник, но по фиксированной цене: от 450 франков за самый маленький холст до 1875 франков за самый большой плюс 25 процентов с прибыли от продажи каждой работы[111]111
Контракт, заключенный Матиссом 18 сентября 1909 года с фирмой Бернхем-Жён, гласил: «Все картины, которые месье Анри Матисс напишет до 15 сентября 1912 года, он обязуется предоставить фирме, а та обязуется купить их у него, каков бы ни был их сюжет». Если художник решал продать картину до ее завершения третьим лицам, то цена делилась пополам с галеристами. Во французской системе были приняты так называемое форматы или пропорции холста для «фигурной живописи». Форматов существовало десять, и самым большим считался «формат 50» (116x189 см)
[Закрыть]. Первое соглашение художник и галеристы подписали сроком на три года.
Переезд, который давал Матиссам возможность начать новую жизнь, поначалу казался настоящим бедствием. Прежде они путешествовали налегке и жили в дешевых квартирах с минимумом вещей (не считая картин и коллекции тканей), а теперь на них обрушилась целая лавина забот, связанных с содержанием большого дома. Но постепенно все как-то наладилось: мальчикам нашли школу, а Маргерит – врача, сад вскопали и засадили деревьями. Матисс составил расписание на каждый день недели. Воскресенье он отвел для отдыха, понедельник – для визитов гостей и переписки, пятницу и субботу – для преподавания в Париже (пока школа окончательно не закрылась). Вторник, среда и четверг были целиком отданы работе (он писал в мастерской в дальнем углу сада). Но даже когда все шло строго по расписанию, собственно на работу оставалось меньше половины недели. От этого художник постоянно находился в напряжении: надо было заканчивать «Танец» и «Музыку», а он постоянно нервничал и паниковал, терзался собственной бездарностью и страдал от изматывавшей его бессонницы. После обрушившегося на Исси под Новый год снегопада началось страшное наводнение, которого не помнили в этих краях. Со свинцово-серого неба нескончаемым потоком десять дней подряд лил дождь, отчего художника словно парализововало и он уже был готов погрузиться в депрессию.
На 14 февраля было назначено открытие его выставки у Бернхемов (обещание братьев устроить в 1910 году персональную выставку, собственно, и стало одной из причин, заставивших Матисса подписать с ними контракт). Он выставил шестьдесят пять полотен, начиная с традиционных фламандских натюрмортов и кончая «Сидящей обнаженной», купленной Самба, – с такой полнотой его творчество никогда прежде не демонстрировалось. Однако публика матиссовские достижения не оценила, а критики разругали ретроспективу в пух и прах, заявив, что художник неспособен следовать некой четкой линии или выработать собственный стиль. Ну и напоследок еще и обвинили в вульгарности и бессмысленной грубости. Поползли слухи, что Матисс получал огромные деньги от доверчивых иностранных студентов, а во время занятий якобы самолично увенчивал себя лавровым венком (некоторые и вовсе утверждали, что не венком, а золотой короной)[112]112
Историю с венком описывает в «Автобиографии Эллис Б. Токлас» Гертруда Стайн, а Раймон Эсколье пересказывает ее в книге о Матиссе в главе «Первая корона». Художнику действительно был прислан лавровый венок одним из его почитателей, бостонским археологом. На красной ленте было выведено: «Анри Матиссу, победившему на поле брани в Берлине. Томас Уиттемор». Матисс, ставший при виде этого подарка еще мрачнее, чем обычно, произнес: «Однако я еще не умер». Мадам Матисс решила, видимо, разрядить обстановку. «Лавр будет хорош в супе, – сказала она, отщипнув листок, – а ленту Марго сможет носить в виде банта в волосах».
[Закрыть]. Из-за всех этих сплетен выставка приобрела скандальную известность и желающих посмотреть на картины Матисса оказалось столько, что Бернхемам пришлось продлить ее на десять дней. Только в начале марта, когда она наконец закрылась, Матисс смог сбежать из Парижа. Сначала он собирался укрыться в Перпиньяне, но потом передумал и отправился в Кольюр, где Майоль и Террюс целый месяц приводили своего подавленного и деморализованного друга в чувство.
Единственным, кто отважился публично защищать Матисса той весной, оказался, к сильному его неудовольствию, Аполлинер. Стайны, разумеется, по-прежнему поддерживали его, хотя и негласно, и прежде всего Сара. Ее коллекция давно превратилась в «учебное пособие» для поклонников творчества Матисса, начиная со Щукина и Беренсона и кончая молодым американским фотографом Эдвардом Стейченом[113]113
Эдвард Стейчен (1897–1973) – американский фотограф, художник, музейный куратор. Вместе со знаменитым фотографом Альфредом Стиглицем открыл фотогалерею (Little Galleries ofthe Photo-Sécession, более известную как «291» – по номеру дома, в котором она располагалась), одной из первых показавшую в Америке работы Матисса, Родена, Сезанна и Пикассо. Стейчен, снявший в 1911 году моделей парижского кутюрье Поля Пуаре для журнала «Art et Décoration», считается основоположником фейшен-индустрии.
[Закрыть] (который впоследствии организует две первые выставки художника в Нью-Йорке). Приходившие на улицу Мадам в первый момент обычно с отвращением отворачивались от картин, но затем, к своему удивлению, понимали, что оторвать взгляд от сочных матиссовских полотен, выстроившихся рядами, рама к раме, не могут. «Это поразительное зрелище! Яркое, пестрое, с грубыми, но невероятной красоты линиями», – восхищалась поборница авангарда леди Оттолин Морелл. Любовь к кричащим краскам, грубым украшениям и огромным шляпам делала лондонскую аристократку особенно восприимчивой к новому искусству. Впрочем, у нее имелся единственный недостаток – она не умела хранить «торжественную тишину», к которой призывала миссис Сара Стайн. «Никто не отваживался говорить и хранил гробовое молчание потому, что здесь, кажется, кричали сами стены».
Парижским гидом леди Оттолин был Мэтью Причард, постоянно бывавший у Стайнов на улице Мадам, 58. Причард был самопровозглашенным пророком. Он не занимал никаких официальных должностей, избегал академического мира, крайне редко выступал с лекциями и практически не публиковался. И при этом обладал, как выражался Т. С. Элиот[114]114
Томас Стернз Элиот (1885–1965) – выдающийся англо-американский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. Познакомился с Матиссом благодаря Причарду перед Первой мировой войной.
[Закрыть], «исключительным влиянием, выходящим за пределы его известности», которое и использовал в интересах Матисса. Современное искусство настолько заинтересовало выпускника юридического факультета Оксфорда, что эстет-самоучка Причард бросил занятия восточным искусством и уехал в Париж. Выставка у Бернхемов потрясла его. «Я был ослеплен великолепием ваших работ, едва только вошел в галерею», – признался он потом художнику. Причард стал таким преданным и страстным почитателем Матисса, что любой неодобрительный отзыв вызывал у него бурную реакцию. Узнав, что модный портретист Джон Сингер Саржент презрительно высказался о живописи его кумира, Причард в сердцах воскликнул: «Да он ему и в подметки не годится! Если бы мистер С. осознал ее истинный смысл, то совершил бы харакири перед одним из своих собственных творений».
Всю весну и осень 1910 года Причард регулярно появлялся в мастерской в Исси, привозя с собой либо молодых, либо солидных, состоятельных поклонников художника, в основном американцев, прибывших в Париж вслед за ним из Бостона. Изощренный философский склад ума Причарда придавал интеллектуальную весомость – «безукоризненную оксфордскую респектабельность» – малопонятному для большинства курсу, которым двигался художник. Широкие познания Причарда и его интеллектуальный подход импонировали Матиссу, точнее, той стороне его натуры, которая боролась, говоря его собственными словами, за «наведение порядка в своем, хаотичном по природе, уме». Эту дисциплинированность сумел схватить в своей фотографии Стейчен, запечатлевший Матисса в мастерской в Исси: перед нами не мятущийся творец, а эдакий мастеровой высшего разряда в белом рабочем халате, застегнутом на все пуговицы. Что же касается Причарда, то искусство для него было в первую очередь инстинктивным и эмоциональным. Подобно многим ревностным подвижникам, он нуждался в помощи, чтобы подняться над более упрощенным уровнем чистой интуиции. «Многое из того, что Матисс дает нам, можно отыскать в нашем подсознании, – отмечал Причард в своих записных книжках «Разговоры с Матиссом». – Чтобы понять его суть, мы должны войти в состояние транса или экстаза и погрузиться в глубины нашего существа».
Матисс использовал более энергичные способы, чтобы выразить чувства, которые испытывал, опрокидывая барьеры между собой и живописью. Особенно ожесточенно он боролся с хороводом танцоров, первый эскиз которого Причард увидел в апреле 1909 года. Матисс потратил более полугода, последовательно концентрируясь на отдельных деталях: надвигающемся приливе, скалах Кассиса, соснах в Кавальере; на фигурках из глины, которые он начал лепить, переехав в Исси, изучал пластику человеческого тела. Как только первое из двух внушительных полотен (каждое высотой в два с половиной метра и длиной почти в четыре) было установлено в большой квадратной мастерской с огромными окнами и стеклянным потолком, он попытался использовать свои находки. Матисс писал стоя на стремянке, нанося краску на холст большими кистями: фигуры танцующих были выше его самого. Помогавший ему в мастерской Пуррман поражался, насколько изменение одной только линии нарушало равновесие всей композиции («Он… манипулировал всей группой, словно это была одна фигура с восемью ногами и восемью руками»). Матисс действовал интуитивно, движения его были спонтанны – так обычно ведут себя опытные танцоры или спортсмены. «Картина подобна игре в карты, – говорил он Пуррману. – Вы должны с самого начала понять, что хотите получить в конце; все должно быть просчитано и закончено еще до того, как начнется».
Процесс создания картины был сродни физическому труду. Работая над заразительными ритмами «Танца», Матисс мурлыкал себе под нос танцевальную мелодию. Она возвращала его не к танцующим каталанским рыбакам в Кольюре, а еще дальше – на Монмартр, к мастеровым, кружащимся в вихре танца со своими возлюбленными в «Мулен де ла Галетт». Танцоры вздымались под его кистью на холсте словно огромная стихийная волна, пугая, по словам Пуррмана, «даже самого художника». Ничто не могло мощнее передать образ бьющейся, пульсирующей энергии, чем отсылавший к умершей классической традиции хоровод огромных фигур с их красными мускулистыми телами, цепкими ступнями и острыми ушами сатиров. В этой живописи чувствовался такой же животный взрыв чувств, какой Матисс испытал в двадцать лет, когда мать подарила ему коробку с красками, а он бросился к ним «подобно животному, которое очертя голову бросается к тому, кого любит».
Этот звериный, чувственный аспект и потрясал матиссовских современников больше всего. Они называли «Танец» примитивным, дьявольским, варварским, даже каннибальским, а Матисс лишь повторял, что стремился к гармонии и спокойствию. Противовесом неистовой страстности танцоров должна была стать сосредоточенность героев «Музыки». Над панно он работал одновременно, периодически переключаясь с то взлетавших, то приникавших к земле тел «Танца» к мягко-округлым фигурам «Музыки», выстроившимся в ряд словно ноты. Скрипка, на которой он играл в детстве, по-прежнему была для него дорога, хотя мальчик-скрипач в «Музыке» кажется не более чем посредником, необходимым художнику для выражения своих чувств к этому инструменту (почти через десять лет он использует тот же ход в картине «Скрипач у окна», которая станет очередной важной вехой в его творчестве).
В июне 1910 года Матисс принял решение закрыть свою «Академию». («Какое облегчение! – признался он другу. – Я относился к ней слишком серьезно».) Преподавание превратилось в тяжелую повинность. Число студентов росло, и слухи о том, что он наживается за счет учеников, множились. Матисс сказал Причарду, что на самом деле большинство студентов скорее нуждаются в «духовной встряске», нежели в его практических советах. Однако это было далеко не так. Его воспитанники сумели усвоить преподанный им изобразительный язык и «заговорить» на нем. Поэтому возвращение на родину выпускников «Академии Матисса» не прошло бесследно для Скандинавии, Соединенных Штатов, Германии и России. Коллекционеры именно этих стран (выходцами из которых в большинстве своем и были матиссовские ученики)[115]115
«Академия Матисса», в которой учились немцы, венгры, русские, американцы и только двое французов, стала «самой крупной фовистской колыбелью космополитичной парижской школы».
[Закрыть] еще при жизни Матисса приобрели гораздо больше его работ, нежели соотечественники-французы, англичане и прочие европейцы вместе взятые.
Не считая коротких поездок в гости к Леону Вассо в июне и к Марке в августе, Матисс провел все лето с семьей в Исси, работая над «Танцем» и «Музыкой». У мальчиков был теперь свой сад, где они могли играть (Жан учился в лицее, куда осенью определили и Пьера), а Маргерит дышала воздухом, выздоравливая после второй операции. Сад был замечательный: высокие деревья и кустарники окружали зеленый газон с извилистыми тропинками, которые вели к зарослям сирени; еще были фруктовые деревья, два пруда и оранжерея, где Амели выращивала рассаду. Шедшую к мастерской Анри дорожку окружали клумбы с яркими цветами.
Сад был прекрасен, но вскоре Амели почувствовала себя здесь сельской затворницей. Ей стало не хватать визитов художников с ихженами или подругами, которые прежде составляли круг ее общения. Кроме кухарки и пятнадцатилетней Маргерит в Исси не с кем было сказать и слова. Вместо того чтобы занять центральное место в жизни и работе мужа, Амели реально угрожала опасность потерять его насовсем. Даже если Анри и не уезжал по делам в Париж, то запирался в мастерской, отчаянно пытаясь наверстать отнятые у работы часы. Что же до часто бывавших в Исси «представителей художественного мира», иностранцев по преимуществу, то они относились к жене художника (если вообще замечали ее, учитывая, что Амели иностранными языками не владела) как к невзрачной, ничем не примечательной домохозяйке. Единственной, кто ценил мадам Матисс, была Гертруда Стайн, да и то в основном за ее домовитость. Все шло к тому, что домашняя рутина, которой Амели так страшилась с юных лет, поработит ее.
Почти все, кто посещал тем летом Матисса, покидали Исси в полном недоумении. Английский критик Роджер Фрай и двое его американских коллег были обескуражены и не верили своим глазам: огромные холсты показались им какой-то дурной шуткой. Фрай даже сравнил матиссовские картины с рисунками своей семилетней дочери и опубликовал крайне недоброжелательную статью о «Танце» и «Музыке», которые впервые предстали перед публикой на Осеннем Салоне 1 октября 1910 года. Реакция была убийственной. Перед панно собирались толпы негодующих, выкрикивали оскорбления, как, впрочем, они это регулярно делали на протяжении последних лет. Близкие друзья Матисса не знали, как реагировать, а коллеги-художники чувствовали себя оскорбленными. Рецензии в прессе были настолько отвратительными, что Амели прятала их от Анри[116]116
«Перед этими панно бесконечные взрывы негодования, ярости, насмешек. Действительно, вызывающе ядовитая раскраска создает впечатление дьявольской какофонии, рисунок, упрощенный почти до упразднения, где неожиданно уродливые формы выражают идею дерзко и повелительно. Мир, созданный Матиссом в этих каннибальски-наивных панно, признаюсь, очень неприятный мир», – писал, например, парижский корреспондент «Одесского листка».
[Закрыть].
Однако на сей раз ее муж оказался гораздо более подготовлен к происходящему, нежели полгода назад, во время своей ретроспективы у Бернхемов. Через неделю после открытия Салона Матисс исчез из Парижа. Он направился в Мюнхен, торопясь застать выставку «Шедевры исламского искусства», которая закрывалась через десять дней. Вместе с ним поехал Марке, а Причард, тщательно изучавший огромную экспозицию вот уже целые шесть недель, ожидал их в Мюнхене; вскоре к компании присоединился и Пуррман. Все старались поднять Матиссу настроение. Пуррман водил в пивные, Марке вызвался сопровождать во время похода к директору мюнхенской Пинакотеки барону фон Чуди[117]117
Хуго фон Чуди (1851–1912) – директор Новой пинакотеки в Мюнхене, ранее – Музея кайзера Фридриха в Берлине. Профессор Чуди, писай С. И. Щукин И. С. Остроухову, «считает Матисса одним из самых значительных художников нашего века» и даже заказал ему натюрморт для Мюнхенского музея (речь шла о «Натюрморте с геранью», 1910).
[Закрыть], первому и единственному стороннику Матисса в музейном мире. Но не Чуди с его коллекцией, а Причард подобрал наиболее эффективное «противоядие» для разбитого и раздавленного своим парижским провалом Матисса и предложил в качестве «лекарства» искусство мусульманского мира. Обилие восточных ковров, резьбы, изразцов, керамики, витражей, книжных миниатюр, византийских монет и бронзы действительно завораживало. Матисс с Причардом часами ходили по выставке, обсуждая влияние исламского искусства на современность. Ничто не могло так скрепить их союз, как эта проведенная в Мюнхене неделя. То, что Матисс назовет «открытием Востока», будет питать его творчество и определит маршруты путешествий трех последующих лет.
Вечером 15 октября от сердечного приступа скоропостижно скончался отец Матисса, и художник помчался из Мюнхена в Боэн, чтобы помочь брату с похоронами. Все связанные с ним скандалы конечно же докатывались до Боэна, омрачая отцу последние годы жизни: даже идя за гробом, Матисс чувствовал на себе презрительные взгляды земляков. Хотя Матисс и говорил, что под конец их общение свелось всего лишь к двум фразам (встречая его на станции, Ипполит Анри спрашивал: «Как дела?», а провожая на поезд, говорил: «Приезжай еще»), Матисс-старший годами помогал сыну, терпеливо снося насмешки соседей: он-то твердо знал, что Анри не жулик и не безумец. Отец с матерью были людьми гордыми, немногословными и упрямыми, скрывавшими свои эмоции под маской сухого северного остроумия. Когда к сорока годам Матисс снял большой дом, он привез родителей в Исси и с гордостью показал отцу свои владения, с особым удовольствием демонстрируя клумбы с цветами. «А почему бы не выращивать что-нибудь полезное, вроде картофеля?» – спросил торговец семенами. У Матисса навсегда осталась горечь от того, что отец умер, так и не узнав, что из его старшего сына вышел толк, и так и не поняв, что картофель далеко не единственное, что стоит выращивать. Кончина отца окончательно добила Матисса, и так уже бывшего осенью 1910 года на грани нервного срыва. «С тех пор я совершенно сломлен», – признался Анри друзьям через неделю после похорон.
Первые рецензии на Осенний Салон он заставил себя прочесть только через пять дней после возвращения из Боэна. «Сколько в них злости! – печально сказал он. – Хорошо, что я не прочел их вчера, когда ходил с Щукиным на Салон. Каким мне все это теперь кажется далеким – надеюсь, я искренен в своем безразличии». Нападки прессы на Матисса, само собой, рикошетом задевали и Щукина. Взволнованный Сергей Иванович появился в Париже 1 ноября, за неделю до закрытия Салона. Он уже привык к злословию московской публики, утверждавшей, что именно его извращенные вкусы довели до самоубийства двух его сыновей. От одной только мысли о грандиозном скандале, который разразится в Москве, появись «Танец» и «Музыка» на лестнице его особняка, становилось страшно. Такого его семье было не выдержать.
Во всем, что происходило в последующие дни, Матисс винил только Бернхемов. Братья появились в Исси с дурной вестью. Они приехали лично сообщить, что Щукин от панно отказывается, а вместо них покупает панно Пюви де Шаванна[118]118
Расстроенный Щукин, видимо, не хотел возвращаться в Москву с пустыми руками, поэтому и попросил Бернхемов подыскать для него что-нибудь «монументальное». В качестве замены матиссовским панно русскому клиенту был предложен грандиозный, состоящий из пяти частей картон Пюви де Шаванна.
[Закрыть], причем последнее настолько огромно, что показать его будущему владельцу негде, кроме как в мастерской Матисса. Художник явно плохо понимал происходящее и до конца не осознал, что почти два года напряженной работы потрачены впустую, если без возражений согласился на просьбу Бернхемов. Он выглядел как нокаутированный боксер, который не в силах подняться, – таким запомнила Маргерит отца в те дни; у него начали трястись руки и вернулась мучительная бессонница. Дочь вспоминала, что панно Пюви де Шаванна поразило ее – не своим витиеватым названием «Музы приветствуют Гения – вестника Света», а непривычными для нее, выросшей на энергичной живописи фовистов, изящными, бледными, похожими на привидения фигурами. Однако это столкновение искусства прошлого и будущего, казавшееся в матиссовской мастерской особенно отчетливым, отрезвляюще подействовало на Щукина. Решив, что заказ «Танца» и «Музыки» был чудовищной ошибкой, он предпочел Матиссу Пюви и отбыл в Москву.
Но мысль о матиссовских панно постоянно преследовала Щукина и не давала покоя. И ровно два дня спустя, во время стоянки поезда в Варшаве, он телеграфировал Матиссу, что принял решение от панно не отказываться. Следом, уже из Москвы, Сергей Иванович отправил длинное, откровенное, смелое письмо, в котором объяснял, что стыдится своей минутной «слабости и недостатка смелости»: «Сударь, в дороге (два дня и две ночи) я много размышлял… Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться». Он писал, что купленное у Бернхемов панно Пюви де Шаванна для него больше ничего не значит («В Париже, когда я взял Пюви, я был слишком под влиянием моих юношеских воспоминаний, когда я так увлекался Пюви», – оправдывался Щукин[119]119
Под «юношеским увлечением» Щукин явно имел в виду картину Пюви де Шаванна «Деревенские пожарные» (ныне – в Государственном Эрмитаже), которая висела в галерее его дяди Дмитрия Петровича Боткина на Покровке среди полотен барбизонцев. От своего Пюви он откажется довольно быстро и сменяет, потеряв на сделке десять тысяч франков, утех же Бернхемов на матиссовскую «Девушку с тюльпанами».
[Закрыть]), и просил, чтобы Матисс немедленно отправил в Москву «Танец» и «Музыку» «большой скоростью»[120]120
«Я решил выставить Ваши панно, – писал Щукин Матиссу 11 ноября. – Будут кричать, смеяться, но поскольку, по моему убеждению, Ваш путь верен, может быть, время сделается моим союзником и в конце концов я одержу победу».
[Закрыть].
Пуррман, который приехал в Иссси, чтобы помочь упаковывать панно, рассказывал, что Матисс в какое-то мгновение в панике отшатнулся от них: ему показалось, что фигуры на разложенных на полу огромных панно поднимаются и шевелятся под злобными взглядами муз Пюви де Шаванна, давно отбывших в Россию. Художник еще долго не мог взять в толк, что, собственно, произошло. «Если ты помнишь, я не рассыпался на куски, – писал он жене месяцем позже, вспоминая испытанный им шок. – Я просто впал в оцепенение». Семья была потрясена случившимся, но больше всего – неспособностью Матисса держать удар. Очередной, третий за 1910 год, нокаут художник получил от прессы и публики сразу после открытия 8 ноября лондонской «Выставки постимпрессионистов». И Матисс вновь сбежал из Парижа. На этот раз поезд увозил его в Испанию.
В Мадриде, куда он прибыл в четверг, 17 ноября, было холодно, шел дождь, и после двадцати часов тряски в поезде у него раскалывалась голова. Он рассказывал, что люди на улицах все как один напоминали священников или же, наоборот, были худыми смуглыми красавцами, точно как Анри Манген. Через два дня он отправился в Прадо и пронесся по залам музея, отправив затем несколько взволнованных открыток старым друзьям. 24 ноября, миновав Кордову, он добрался до Севильи, где сияло солнце. Он купил старинную стеклянную вазу для Амели, а себе – очередной ковер, кремово-синий с орнаментом в виде фанатов («Он не в очень хорошем состоянии, но, думаю, я смогу использовать его в работе… никогда не видел ничего подобного»). В Севилье он отыскал старого знакомого Огюста Бреаля, который показал ему город, сводил на фламенко и выделил комнату в своем клубе – единственном отапливаемом здании во всей Севилье (Матисс жаловался жене на отсутствие печей и на то, что испанцы даже не думают закрывать двери и окна). Все было бы хорошо, но в этом элегантном клубе Анри чувствовал себя настолько неловко в своем поношенном костюме, что пришлось просить Амели срочно прислать его единственное приличное пальто (предварительно на всякий случай сменив подкладку, чтобы не так выделяться на фоне безупречных холеных испанцев).
За шутливым тоном матиссовских писем скрывалось отнюдь не благоденствие. Первые недели в Испании Матисс существовал словно на автопилоте. Мои нервы так долго были натянуты как струны, говорил он потом, что остаться неповрежденными просто не могли. Предательство Бернхемов добило его, хотя последствия стресса начали сказываться чуть позже. В первую же ночь в Мадриде он так и не смог уснуть и с тех пор мучился бессонницей. К приезду в Севилью Матисс не спал уже больше недели, отчего совершенно обессилел. А тут еще испортилась погода, начались ливни с ураганным ветром. От озноба, сотрясавшего его физически и душевно, он дрожал так сильно, что металлическая кровать подпрыгивала на кафельном полу; «Мою кровать трясло, я тихо стонал и не мог успокоиться». Унимая лихорадку настойкой опия, он лежал у себя в комнате до тех пор, пока Бреаль не увез его к себе на улицу Империал, в квартиру с окнами во двор, колоннами, пальмами и фонтаном. Пришедший осмотреть больного испанский доктор оказался на удивление проницателен. Он объяснил Матиссу, что ничего серьезного у него нет и это всего лишь сильное нервное перенапряжение. Ему надо учиться управлять своим состоянием, для чего следует придерживаться всего двух правил: соблюдать режим работы и стараться быть чуть менее требовательным к себе. Если первая часть врачебного совета стала для Матисса непреложным законом на всю оставшуюся жизнь, то второй рекомендации он так и не научился следовать, даже если и пытался.
Кризис, казалось, миновал. «Моя дорогая Мело! – писал он 8 декабря жене, называя ее ласковым именем. – Я только что понял, что случилось со мной, причем понял до такой степени, что чувствую себя обновленным и спасенным». Свое выздоровление он описывал в выражениях, к каким прибегал только в исключительных случаях, рассказывая о судьбоносных моментах – будь то подаренная коробка с красками или первое впечатление от яркого южного солнца. В декабре 1910 года в Севилье Матисс ощутил похожий эмоциональный взрыв. Он чувствовал облегчение – силы возвращались к нему. Теперь можно было отправиться в Гранаду, что он на следующий день и сделал. В поезде оказалась застекленная смотровая площадка, где Матисс просидел всю дорогу, разглядывая с десяти утра до восьми вечера плодородную андалузскую равнину и суровые, начисто лишенные зелени горы Сьерра-Невады. В Гранаде его встретил еще более сильный, чем в Мадриде, ливень с пронизывающим ветром, и ему пришлось задержаться, чтобы переждать бурю. В воскресенье, 11 декабря, он наконец достиг своей цели. «Альгамбра[121]121
Альгамбра (араб. аль-Хамра – «красная») – архитектурный ансамбль мавританского периода, состоящий из мечети, дворца и крепости; возведен в XV веке как резиденция арабских эмиров Гранады.
[Закрыть] настоящее чудо, – написал Анри жене той ночью. – Я невероятно взволнован… не зря я так стремился сюда».
Амели переслала ему в Гранаду письмо от Щукина, в котором тот настоятельно просил срочно написать для него два больших натюрморта. С помощью относительно более доступного сюжета и приятной для глаза живописи «русский патрон» надеялся смягчить негодование, которое неизбежно должно было обрушиться на «Танец» и «Музыку». То, что заказ поступил именно в эту минуту и именно в этом месте, Матисс расценил как сигнал к действию. «Здесь ко мне пришли идеи, – написал он жене, – и я уже вижу картины почти готовыми…» Дворцы Альгамбры произвели на Матисса сильнейшее впечатление: ажурные стены, решетчатые окна, ритмические вариации одной и той же декоративной темы внутри и снаружи, игра контрастов и буйство орнамента (и все это на фоне покойной глади неба и воды) навсегда запечатлелись в его памяти. Полукрепость, полудворец, построенная во времена средневековых крестовых походов, Альгамбра была воплощением рая на земле – олицетворением мечты ислама о гармонии и покое. Что-то похожее было и в основе мечты Матисса об искусстве, приносящем духовное успокоение и умиротворение души. Впервые он сформулировал ее в знаменитой метафоре об удобном кресле, предназначенном для утомленного делового человека. Он говорил Причарду, что таким человеком представлялся ему Щукин, рассматривающий вечером у себя в гостиной его картины, которые помогали снимать напряжение после тяжелого трудового дня.
Поздно ночью во вторник, 13 декабря, Матисс вернулся в Севилью, где было все так же холодно и сыро. Временами его одолевала бессонница, но необычайный душевный подъем помогал справляться со слабостью. На следующий день была снята мастерская. Он расставил керамику, разложил ткани (включая очаровавший его кремово-синий ковер) и приступил к работе, не дожидаясь кистей, мастехинов и красок, которые послали ему из дома. В задуманных в Альгамбре для Щукина «Севильских натюрмортах»[122]122
Матисс в 1910 году написал для С. И. Щукина два натюрморта почти одинакового размера, которые ныне хранятся в Государственном Эрмитаже; один из них называется «Севильским», а другой – «Испанским».
[Закрыть] столкнулись европейская и восточная концепции декора. Композиция и набор предметов – фрукты, цветы, овощи, зеленый глазурованный кувшин и только что купленные ткани – были стандартными для западноевропейской живописи, но ритмическая текучесть вихрящихся линий и сверкающие краски принадлежали иному миру. «В восточных фризах рисунок сливается с фоном в единый орнамент, декоративное целое, великолепный колышущийся ковер, – писал русский критик Яков Тугендхольд, познакомившийся с коллекцией Щукина несколько лет спустя, – и именно это отсутствие различия между рисунком и фоном – характерная черта работ Матисса… Искусство Матисса – это самоупоение цветом и радование им других. Это не то “высокое” искусство, конструктивно связанное с архитектурой и проникнутое религиозным чувством… это – веселое искусство, веселое ремесло, рожденное нашим деловым XX веком как некий корректив к его деловитости, оставляющий искусству лишь функцию услады, лишь минуты досуга от дел».
Краски и кисти Матиссу одолжил старый приятель, испанец Франсиско Итуррино, заодно поделившийся с ним своей натурщицей – черноволосой скуластой танцовщицей по имени Хоакина. Цыганские танцовщицы Севильи стали открытием для Матисса, особенно шестнадцатилетняя Дора – «чудо гибкости и ритма». В отличие от потрясавшей Париж Айседоры Дункан, «останавливавшей своими движениями музыку, Дора продлевала звук своими арабесками»[123]123
Арабеск (арабеска, арабская живопись, гротеск) – тонкий орнамент с очень сложным, в основном симметричным рисунком, растительным или геометрическим, в который могли быть вплетены фигурки людей и животных.
[Закрыть]. Матисс написал в Испании всего три холста, в том числе небольшой портрет Хоакины. Он говорил, что кризис «усталости и отвращения» длился полтора месяца, что в Севилье он чувствовал себя совершенно обессиленным и все виделось ему словно сквозь пелену. Каждое утро он приходил в мастерскую ровно в десять, но из-за сильного сердцебиения и озноба уже через полчаса, в лучшем случае через сорок пять минут, бросал работу. Только вернувшись в Париж, он с удивлением обнаружил, что два щукинских натюрморта («продукт нервного напряжения») вышли очень даже неплохо.








