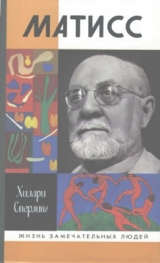
Текст книги "Матисс"
Автор книги: Хилари Сперлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
Вторую половину дня он проводил в художественной школе («Я хочу проникнуться ясной и сложной концепцией построения Микеланджело», – писал он Камуэну). По утрам он писал у себя в комнате в гостинице, где свет лился из окна и не было никакого намека на человеческое присутствие, не считая чемодана, прислоненного к стене холста, скрипки и ее футляра, лежащего на стуле. «Вспомни “Интерьер со скрипкой”, – писала годы спустя Маргерит, напоминая отцу о картине, которую они с Амели увидели, приехав к нему в феврале в Ниццу. – Вспомни… как мы втроем горячо ее обсуждали… Создав эту дивную картину… ты уже был готов… брать новую высоту, за которой либо откроются новые горизонты, либо тебе придется уничтожить свой холст».
Всю свою жизнь Маргерит слышала от отца, что лучше уничтожить картину, чем довольствоваться быстрыми результатами, сколь привлекательными бы они ни казались на первый взгляд («Необходимо заставлять себя идти на риск, ибо только в таком случае вы станете делать открытия и терзаться в процессе творчества»). На первом этапе «Интерьер со скрипкой» изображал стоящую на подоконнике вазу с цветами; деревянные ставни неплотно прикрыты, и виднеются полоска пляжа, синее море и кроны пальм. Отец с дочерью поссорились из-за «Интерьера со скрипкой», и эта ссора даже стала семейной легендой. Достаточно было Маргерит восхититься и назвать картину прелестной («c'était joli»), как Матисс «взялся за картину снова и довел ее до напряженного, неистового состояния», в котором «Интерьер со скрипкой» нам и знаком. Он убрал цветы, приглушил мягкость розового и охры и закрасил комнату черным, так что проникавший сквозь ставни солнечный свет стал подобен пламени. Это была поворотная работа: «В ней я соединил все, что приобрел за последнее время, с тем, что я знал и умел делать раньше».
Жена и дочь даже не сомневались, что с Матиссом происходят какие-то важные перемены, настолько он был возбужден и беспокоен. Он снова исступленно играл на скрипке (причем так громко, что во избежание протестов других постояльцев администрация отеля отправила его музицировать в дальнюю ванную комнату). На вопрос Амели, что толкает его на подобное музыкальное неистовство, Анри ответил, что совершенствует Мастерство из страха ослепнуть. «Слепой вынужден отказаться от живописи, но не от музыки. Тогда я смогу пойти по дворам и играть на скрипке и заработаю на пропитание тебе, Марго и себе». Шансы Матисса прокормить семью в качестве бродячего музыканта были весьма сомнительны. Однако эта отчаянная фантазия означала, что он уже решился переехать в Ниццу и ради туманного будущего готов в очередной раз поставить на карту свой устоявшийся быт, семейный доход и все прежние художественные достижения.
Но весной 1918 года наибольшее беспокойство вызывало положение Жана, который все еще находился в лагере под Эст-ром. От тамошних чудовищных условий у него появились гнойные нарывы на ноге, руке и на глазу. В первых числах марта мать с сестрой навестили его по дороге в Париж, где Маргерит уже ждали в госпитале. Едва только они вернулись домой, как траектория бомбардировок изменилась. «Даже до Ниццы докатилась паника», – писал им Матисс в последнюю неделю марта, когда немцы начали обстреливать Париж из новых орудий такой невообразимой мощи и дальности действия, что французы решили: видимо, в радиосообщения вкралась ошибка. «Однако это не было ложным слухом», – с грустью констатировал Матисс, когда прочел в газете о боях, шедших недалеко от Боэна, между Сен-Кантеном и Камбре. Не готовые к скорости и масштабам наступления немцев, решивших во что бы то ни ста-: ло закрепиться в Пикардии и Фландрии, союзные армии отступали. Матисс каждый день вставал на рассвете, торопясь прочесть свежую газету. Связи либо не было вообще, либо она работала мучительно медленно. Телеграммы доставлялись в течение нескольких дней, телефонных разговоров приходилось ожидать часами, часто так и не добившись соединения. Матиее давно не получал от жены писем, не считая телеграммы с просьбой выслать денег. Информацией его снабжали один из служащих банка и издатель местной газеты. В Ницце внезапно сильно похолодало. 29 марта, на Страстную пятницу, когда бомбардировки столицы сделались особенно ожесточенными, снаряд угодил в церковь во время службы. Началась паника, но по личному приказу Клемансо машинам запретили выезжать из Парижа. Амели разбирала и упаковывала вещи в соответствии с указаниями, поступавшими из Ниццы, где ее муж пребывал в полном отчаянии от того, что не может быть рядом с ней.
«Я уже был на шаг от отъезда, – рассказывал он Марке. – Моя жена велела мне остаться. В ожидании новостей я работаю». Матисс провел пасхальное воскресенье в одиночестве В художественной школе. В то время как Амели отправляла вещи (кроме самых больших картин) к Парейрам, которые повезли» Тулузу Маргерит и Пьера, он лепил из глины фигурку «Склонившейся Венеры» по мотивам Микеланджело. На следующей неделе наступление немцев приостановилось и паника в Париже улеглась. 7 апреля Пьер и Маргерит приехали из Тулузы в Ниццу, чтобы помочь отцу переехать в квартиру на набережной Миди, 105, по соседству с отелем. Матисс описывал жене, как они втроем уютно сидели у их собственного камина, слушая завывания ветра, который бушевал на море. Сын и дочь полностью одобрили новый вариант «Интерьера со скрипкой». Маргерит, тепло одевшись, каждый день позировала на балконе его новой мастерской над заливом. Матисс нарисовал и Пьера, когда тот играл на скрипке. Рисунок он взял за основу для довольно загадочной, схематичной картины со стоящей против света фигурой музыканта, которую назвал «Скрипач у окна».
Маргерит вернулась Париж, а Пьер остался, удивив отца легкостью, с какой свыкся с домашней рутиной и ранним отходом ко сну. Матисс снова с увлечением писал пейзажи и, когда квартиру на набережной Миди реквизировали для нужд армии, снял второй этаж небольшой виллы дез Аллье, стоящей в зарослях колючего кустарника на горе Борон над Ниццей[177]177
«Надо сесть на трамвай в Рикье. Сойти на Солюццио. Идти по старой дороге Монт-Альбан до пересечения с бульваром Мон-Борн. Остановись на этом перекрестке. Ты увидишь налево лестницу, ведущую на верх холма, а рядом тропинку, поросшую травой. На стене у этой дороги имеется дощечка с торжественным названием дороги “Петит авеню дю Монт-Ворн”. Ты поднимаешься и направо увидишь виллу дез Аллье, я живу там на первом этаже», – давал точные указания Камуэну Матисс. Этаж, который он снял, на самом деле был второй, поскольку первый этаж французами не считается.
[Закрыть]. Отсюда, с крутого каменного откоса, открывалась панорама всего побережья. Каждый день Матисс вставал в пять утра, чтобы не пропустить восход солнца («Я живу… на перевале Вильфранш, и солнце встает у меня за спиной. Я вижу, как освещаются горы около Канн, потом холмистый мыс Ниццы и наконец город»). «Я снова почувствовал себя человеком», – написал он 16 мая жене, поклявшись, что никогда больше не позволит себе месяцами жить в отеле. Отец с сыном вели скромный, почти студенческий образ жизни: играли на скрипке, рисовали (Пьер уже подумывал, что тоже мог бы стать художником) и по очереди занимались хозяйством. К ним приезжал Жан, получивший очередные двое суток отпуска, и мальчики приготовили обед, а потом все вместе отправились гулять по горам.
Матисс отправил Амели рисунок тропических лилий с белыми лепестками, похожими на жемчужные зернышки риса. Другое письмо он украсил наброском, изобразив на полях себя с отросшей бородой, нежно целующего жену в щеку; Амели он нарисовал молодой и энергичной, с волосами, уложенными на затылке в его любимую прическу. Таково было его представление об их партнерстве. В минуты мучительных творческих поисков и сомнений Амели всегда поддерживала его. Перед лицом бытовых трудностей и опасностей он часто терялся, тогда как его жене испытания лишь добавляли бодрости духа. «Моя дорогая Амели, ты восхищаешь нас своим мужеством, – писал Анри 21 мая, узнав, что два немецких снаряда разорвались на крыше его мастерской в Исси. – Мы здесь больше напуганы, чем ты, И в тот самый момент, когда я уже собрался уехать, ты пишешь: “Работай спокойно, все в порядке”». Такова была стойкая, хладнокровная Амели, женщина настолько же бесстрашная, насколько терпеливая, которую он полюбил с первой встречи.
27 мая немцы пошли в наступление на Севере и за три дня продвинулись к Марне. 3 июня они уже были в пятидесяти километрах от Парижа. «Это ужасно оставаться здесь, зная, что ты в опасности… – писал Анри. – Я могу быть таким же смелым, как ты, но только в своей работе». Но теперь даже живопись не могла его отвлечь. Каждый день он приезжал на трамвае в Ниццу, где на авеню де ла Гар после полудня вывешивались военные сводки. Маргерит с очередной партией картин снова выехала в Тулузу, а Амели стала готовить дом к полной и окончательной эвакуации. Анри собирался двинуться к ней на выручку, но пока ограничивался руководящими указаниями, давая точные инструкции, как и что необходимо спасать: большую картину Курбе свернуть в рулон («лучше начать с куска с трещинами»), античные скульптуры закопать в саду, а «Марокканцев» разрезать пополам и отправить по почте (чертеж, где пунктиром показывались линии надрезов бритвой, прилагался). Вслед за телеграммой от Амели, в которой она советовала мужу остаться в Ницце, пришла другая, сообщавшая о ее собственном отъезде, который ей посоветовал не откладывать Марсель Самба. Анри писал ей каждый день, снедаемый беспокойством за нее, за Францию, за свои картины, которые могут достаться врагу. «Я постоянно думаю о моих больших панно, которые ни в коем случае нельзя оставлять в Исси – особенно о “Купальщицах”, на которых я потратил столько сил и времени, – с грустью писал он. – Мужайся, моя храбрая Амели, и будь осторожна!»
13 июня, когда натиск немецкой армии почти выдохся, но еще не был окончательно остановлен, Пьеру исполнилось восемнадцать. «Меня спасла война», – говорил потом Пьер Мат тисе. Три года он выносил ежедневные занятия музыкой, ощущая их полную для себя бесполезность. В Ницце, когда он наблюдал за отцом, одержимым своей работой, ощущение бессмысленности того, чем занимается он сам, только усилилось. Все лето Пьер считал дни, когда эта тягомотина со скрипкой закончится и его наконец призовут в армию. Так и не дождавшись повестки, он уехал в Париж, надеясь попасть в число резервистов, набиравшихся для второго сражения на Марне. Теперь родители переживали за двоих сыновей, а вдобавок еще и за Маргерит: парижские госпитали были эвакуированы, хирурги мобилизованы, а следовательно, дочь больше не могла рассчитывать на неотложную медицинскую помощь. Надо было искать выход. Матисс предлагал жене подыскать временное жилье для семьи где-нибудь на Севере на случай, если столица все-таки падет, а Маргерит – комнату поблизости с местом нахождения одного из двух ее парижских хирургов. В начале года пришла открытка от Огюста Матисса. Брат, написавший еще в начале года, что старики и больные уходят из Боэна, сообщал, что наконец-то уговорил покинуть город и мать. «Я рад, что мама собирается, но думаю, она особенно не спешит… – писал Анри 23 июня жене, сильно сомневаясь в искренности материнского решения. – Она будет еще долго собираться и, прежде чем не вычистит до основания свой дом, ни за что его не оставит».
В итоге ему все-таки пришлось уехать из Ниццы. Получив сообщение, что дочь слишком слаба для очередного прижигания, Матисс сел на первый же уходящий в Париж поезд. 30 июня он прибыл в столицу, чтобы проконсультироваться с лечащими врачами, а на следующий день артиллерийский обстрел возобновился. Матисс провел несколько ночей с семьей в подвале в Исси; ударная волна выбила окна в доме на набережной Сен-Мишель, 19, и он сам выметал стекла в их с Марке мастерских. Амели решила укрыться в Ментеноне, чуть севернее Шартра, куда после девяти дней беспрерывных обстрелов Анри отправился на разведку. По дороге под звуки канонады Матисс писал акведук и чудом избежал гибели: шедший следом за его поездом состав потерпел крушение в Сен-Сире.
В августе французские войска начали контратаку на Западном фронте в районе Амьена. Жан служил механиком на аэродроме, а Пьер, попавший в артиллерийский полк, учился на водителя. Узнав, что младший сын заразился холерой, Матисс немедленно выехал в Шербур, откуда прислал страшное письмо, сообщив, что от эпидемии, охватившей все северо-западное побережье, 12 сентября умерли семнадцать сослуживцев Пьера, а на следующий день – еще десять. К счастью, оказалось, что у Пьера всего лишь банальный грипп, но отец другого новобранца посоветовал Матиссу попросту забрать сына домой на свой страх и риск.
В конце месяца союзные войска смогли наконец продвинуться на восток и вытеснили немцев из Фландрии. 29 сентября британские войска вновь заняли Сен-Кантен и 8 октября вошли в Боэн. Матисс был одним из первых гражданских лиц, прибывших в город. Он ехал и не узнавал знакомые с детства места: непролазная грязь, воронки от бомб, поваленные деревья, мертвые Лошади, лежащие в руинах города, опустевшие деревни. Дороги в Боэне были заминированы, дома разграблены, городская ратуша сожжена. Жители два месяца прятались от артиллерийского огня в подвалах, кормясь брюквой, сухарями и бобами. Огюста Матисса по двенадцать часов в день заставляли разгружать артиллерийские снаряды и таскать ящики, отчего у него открылся туберкулез. Брат с женой и дочками уже собрали все, что могли увезти с собой, и готовы были уйти из города, но их семидесятичетырехлетняя мать оставалась непреклонной. «Она тряслась от страха, но заставить ее уехать, несмотря на все наши просьбы, было абсолютно невозможно, – говорил потом Огюст брату. – Мы были бессильны против ее упрямства. Она ни за что не бросила бы свой дом, обреченный на разграбление».
Анна Матисс обменяла фортепьяно на продукты, а в нотные листы заворачивала провизию. Анри застал мать, как и предполагал, когда она переносила закопанные четыре года назад в саду ценности и чистила то, что уцелело. «Я скорее сожгла бы все, чем позволила бошам дотронуться до моих вещей!» – говорила она, жалуясь, что освободившие Боэн английские солдаты забрали все одежные щетки. Мамаша Матисс поклялась выжить, чтобы снова увидеть старшего сына. Но ничто не могло заставить ее уехать с ним в Исси до тех пор, пока дом, в котором прошла вся ее жизнь, не будет приведен в порядок.
Мать Матисса была женщиной с крутым нравом, как, впрочем, его жена и дочь. Все трое имели на него большое влияние. Все трое помогали ему и направляли на тот путь, которым он шел до последнего дня. Франсуаза Жило, одна из возлюбленных Пикассо, назвала мадам Матисс и Маргерит кариатидами, поддерживающими вход в «храм Матисса». Художник всегда уверял, что по натуре он был человеком безответственным, неорганизованным и крайне недисциплинированным. 11 ноября, в ночь, когда было подписано соглашение о перемирии и по всей Европе началась вакханалия веселья, он вскарабкался на стол в кафе (дело было в знаменитой «Ротонде» на Монпар-насе) и сыграл дикое фанданго на чужой скрипке («Да, старина, – сказал ему Марке, – видела бы тебя сейчас твоя Амели!»)[178]178
«Только бы “Cri de Paris” не посвятила мне статью в своем ближайшем номере!» – якобы испуганно сказал Матисс, возвращая скрипку владельцу
[Закрыть]. Уже через месяц Матисс уехал в Ниццу, чтобы снова приняться там за работу. Пикассо вспомнит о своем старом сопернике незадолго до кончины Матисса и десятилетия спустя откликнется на матиссовского «Скрипача у окна» странной картиной под названием «Тень». Прямая, сосредоточенная фигура стоящего у открытого окна «Скрипача» удивительным образом соответствовала состоянию Матисса в 1918 году. Перед ним открывался новый свет и новый мир – мир его воображения, в котором реальность обретала новые формы и смысл.
Часть вторая.
ХУДОЖНИК ЮГА

Глава первая.
ОТШЕЛЬНИК С АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ.
1919–1922
Всю весну 1919 года Матисс навещал Огюста Ренуара, жившего в большом поместье «Ле-Коллетт» в городке Кань-сюр-Мер близ Ниццы. Художнику было за семьдесят, во время войны он овдовел и пребывал в довольно жалком состоянии. Передвигаться сам Ренуар не мог, и его переносили из спальни в мастерскую на специальном кресле-портшезе, куда «он валился словно труп». Дряхлый, обмотанный бинтами, неспособный из-за тяжелейшего артрита держать кисть, Ренуар жил только ради того, чтобы писать, что он и делал каждый день, зажав кисть между большим и указательным пальцами. «Живыми в нем оставались только глаза, речь и его несчастная, скрюченная, деформированная, кровоточащая рука», – рассказывал Матисс, появлявшийся в «Ле-Коллетт», заканчивая писать очередной пейзаж где-нибудь поблизости. Смотреть, как старик морщится от боли, но не бросает работу, было невыносимо. «Боль проходит, Матисс, а красота остается. Я совершенно счастлив и не умру, пока не закончу… свою лучшую вещь», – успокаивал его Ренуар, широко улыбаясь. Писать он мог только на уровне глаз, поэтому большой холст пришлось намотать на вращающийся цилиндр и помощник то поднимал «Купающихся», то опускал.
Когда Матисс рассказывал о маленьком немощном человеке, сумевшем сохранить ум, память и страстное желание запечатлеть на холсте грезившихся ему обнаженных девушек на зеленом берегу, у него всегда дрожал голос. Наблюдая за этим «клубком страданий», оживающим за работой, Матисс поклялся себе, что тоже не струсит, если болезнь вдруг начнет одолевать его.
Впервые он появился в «Ле-Коллетт» 31 декабря 1917 года, в свой сорок восьмой день рождения. Ренуар был удивлей безупречным видом (Матисс в светлой фетровой шляпе, подобранной в тон просторному пальто из шотландской ткани, представлял собой «настоящий художественный манифест») и невероятной церемонностью своего гостя. «Матисс рядом с сидящим в кресле иссохшим Ренуаром, бросавшим пронзительные взгляды из-под серой каскетки, напоминал Рубенса-дипломата, вручающего верительные грамоты кому-то из престарелых пап», – съязвил сопровождавший Матисса Жорж Бессон. На самом деле Матисс просто безумно нервничал – ведь он знакомился с самим Ренуаром. Он отважится показать свои работы мэтру лишь несколько месяцев спустя и то в последнюю минуту запаникует и, уже стоя на перроне с рулоном холстов в руках, будет сомневаться, ехать или не ехать в Кань.
Амбициозный Бессон не мог понять подобной неуверенности, а Ренуара, напротив, такое поведение нисколько не удивило. «Быть может, я и не сделал ничего особенного, – сказал он, стараясь успокоить Матисса, – но мои картины – действительно мои. Я работал и с Моне, и с Сезанном и всегда оставался самим собой». Матисс старался тоже быть искренним и признался, что часто сомневается в себе, хотя твердо знает, что писать иначе не может. «Ну вот, – обрадовался Ренуар, – это-то мне в вас и нравится». Перед отъездом в Париж Матисс решил похвастаться своей коллекцией и повез в «Ле-Коллетт» самое ценное – «Купальщиц» Сезанна, пару картин самого Ренуара (что того необычайно тронуло) и «Спящую блондинку» Курбе, которую Ренуар назвал настоящим сокровищем, отчего ее владелец почувствовал себя в ту минуту настоящим набобом и так расхрабрился, что попросил у Ренуара купить одну из его работ. От неожиданного предложения обменяться картинами Матисс наотрез отказался («Я искренне тронут, но не достоин этого»). Он считал своими учителями Писсарро и Моне, всю жизнь преклонялся перед Сезанном, которого называл «богом живописи», но Сезанн и импрессионисты принадлежали к иному миру, и Матисс не позволял себе и помыслить быть ровней Ренуару.
В ту весну, когда Матисс только-только начал обживаться в Ницце, вилла «Ле-Коллетт» сделалась для него вторым домом. Вечерами он сидел со старым художником, со страхом ожидавшим наступления сумерек – ночами боли становились особенно мучительными («Ренуар любил поболтать. Он вспоминал о суровых годах ученичества и достаточно шутливо излагал историю импрессионизма»). Оба переживали за своих мальчиков: У Ренуара двое сыновей были тяжело ранены[179]179
Лейтенант 6-го батальона альпийских стрелков Жан Ренуар (1896–1979) был ранен, и ему угрожал перитонит; после ранения он перешел в авиацию, стал пилотом в эскадрилье разведчиков, а впоследствии талантливейшим французским кинорежиссером.
[Закрыть], а у Матисса один ожидал отправки на фронт, а второй – повестки. «Вместо того чтобы посылать на смерть в окопах стольких молодых людей, – негодовал Ренуар, – следовало бы отправлять туда стариков и калек: это мы должны были быть там». Но на фронт их с Матиссом не посылали, и оба занимались единственным, что умели делать, – живописью. Они говорили о технике письма, о репутации художника и о том, как меняются зрительное восприятие и средства выражения, вокруг которых и разворачивались главные сражения в искусстве последних десятилетий. Матисс жаловался на неуверенность и приступы паники, а старый мастер говорил, что это обычное дело и так будет продолжаться всегда. Чистые, яркие, открытые цвета, которые использовал Матисс, Ренуар не одобрял. Когда Анри привез ему начатый интерьер, где карниз красного дерева был самым темным тоном в картине, Ренуар возмутился. По всем правилам импрессионизма, сказал он, эта нелепая темная полоса должна была разрушить всю композицию («Если бы я поместил такой черный цвет в свою картину, он бы вылез вперед. Вы меня поражаете. Как вы этого добиваетесь?»[180]180
Этими словами Ренуар определил то, что, по словам Пьера Куртиона, являлось своеобразием Матисса: – «Глубину, созданную им без помощи традиционной перспективы… Другие художники пытались скомпоновать свои полотна умелым распределением окрашенных плоскостей, но их картины-ковры остаются пленницами двухмерного пространства декорации». «После отъезда Матисса Ренуар говорил, посмеиваясь и просовывая воображаемую кисть под левое колено: “Я думал, что этот парень работает вот так… Это неправда… Он много трудится!..”» – вспоминал Жорж Бессон.
[Закрыть]). Матисс отвечал, что конструирование пространства никак не связано для него с точным копированием натуры и имеет весьма отдаленное отношение к законам перспективы; что пишет он чисто инстинктивно, поэтому, когда инстинкт побеждает разум, ему всегда необходим человек, который бы помог критически оценить его работу. Он объяснял Ренуару, как раньше Причарду, каким именно образом ему удается «оберегать девственность своих впечатлений и отбрасывать все, что идет от рассудка».
После войны Матисс поселился в небольшой старой гостинице на Английской набережной (Promenade des Anglais). В хаосе военных лет работать он не мог, и целых четыре года прошли впустую – настало время наверстывать упущенное. В новогоднем поздравлении жене он набросал туалетный столик, балюстраду и муслиновые шторы в спальне – из этих незамысловатых элементов он вскоре начнет конструировать пространство своих картин, нарушая все известные доселе живописные законы и правила. 2 января 1919 года на Ниццу обрушился чудовищный шторм. Море бушевало и заливало набережную, превращая ее в стремительно несущуюся серую реку. Резкие порывы ветра сорвали ставни, разбили окна и даже большое зеркало в вестибюле отеля. «Зрелище было настолько потрясающим, что я не мог охватить происходящее глазом», – писал Матисс жене.
Когда на следующий день он рисовал открывшийся перед ним вид, руки у него все еще тряслись от восторга. Светлая, омытая дождем атмосфера всегда приятно возбуждала его. Небо сделалось безоблачным, и все вокруг засияло под лучами январского солнца. Когда Матисса потом спрашивали, почему он переехал в Ниццу, художник называл главной причиной солнечный свет – ясный, нежный и мягкий, несмотря на его необыкновенную яркость. Он говорил, что долго не мог поверить своему счастью, пока наконец не понял: отныне он будет видеть этот ослепительный свет каждое утро.
Тот шторм оказался для Матисса особым знаком – он принес с собой освобождение, а город, в котором постоянно светило солнце, превратился в его творческую лабораторию. Послевоенная Ницца представлялась тогда парижанину настоящим краем света. Этот не тронутый цивилизацией приморский город, отрезанный горами от Франции и Италии, словно проспал всю войну. «Ницца настолько не Франция («Nice est tout à fait niçois»), – говорил Матисс своему сыну Жану, – что я чувствую себя здесь чужаком». Все здесь казалось нереальным, начиная со старомодной гостиницы с выложенным розовой плиткой полом, лепными карнизами и расписным потолком в стиле итальянского рококо. Эта искусственность еще более усиливалась солнечным светом. «Вы помните свет, проникавший сквозь жалюзи? Он проникал снизу, от воды, как свет театральной рампы. Все здесь было обманчиво, абсурдно, поразительно, дивно («Tout était faux, absurde, épatant, délicieux»)…» – писал Матисс в 1941 году бывшему соседу по отелю «Медитерране» Франсису Карко. Средиземноморский свет помогал решать новые живописные задачи. «Из каждого кризиса Матисс всегда выходил живым и невредимым», – писал Бессон, наблюдавший за началом очередного «обновления» мастера. Если в эпоху фовизма импрессионизм мешал Матиссу двигаться вперед и он порвал с ним, то на этот раз его вдохновляли именно импрессионисты. «Творчество Ренуара… спасло нас от иссушающего влияния чистой абстракции», – заявил Матисс интервьюеру, объяснив, что, выжав из манеры все возможное, следует решительно переменить ее. Проблемы, над которыми он с таким упорством бился в 1916–1917 годах, отныне его не интересовали.
К 1919 году произошли серьезные изменения и в лагере сторонников художника. В Европе остались только двое: почти выдохшийся Причард и верный Марсель Самба, дни которого, к сожалению, были сочтены. Что касается преданного Пуррмана, то он, как и большинство немцев, оказался по другую сторону баррикад. Но своих друзей Пуррман не бросал и делал все, чтобы помочь Саре и Майклу Стайнам вернуть застрявшие в Берлине картины Матисса. Но опоздал. Стайны отчаялись получить свои картины и, едва представилась возможность, тайно продали их семидесятилетнему датчанину Христиану Тетцен-Лунду, сумевшему выторговать у них полотна за смешные деньги. В результате квартира удалившегося от дел торговца зерном в Копенгагене оказалась единственным местом в Европе, где поклонники художника могли видеть лучшие его довоенные работы[181]181
Христиан Тетцен-Лунд (1852–1936) – датский коллекционер, торговвец зерном. В 1915 году продал свой бизнес, в 1920-х годах его коллекция насчитывала пятьсот работ и была одним из крупнейших частных собраний в Европе. В коллекции имелось более двадцати работ Матисса, почти половина из которых ранее принадлежала Саре и Майклу Стайнам.
[Закрыть]. Стайны, которых в Париже навестил Матисс, были столь же мрачны и унылы, как и полупустые стены их квартиры на улице Мадам.
Еще более печальные известия доходили из России. По слухам, «Танец» и «Музыка» были уничтожены – то ли разорваны, то ли сожжены, а сам Щукин переселен в комнаты для прислуги. К счастью, дело обстояло не столь трагично. Коллекцию не тронули, а даже, наоборот, преобразовали в советский музей и открыли для публики – декрет о национализации был подписан самим Ульяновым-Лениным. Летом 1918 года Щукину удалось тайно выехать из России и присоединиться к укрывшимся в Германии жене и младшей дочери. А вскоре до Матисса дошла радостная новость: Сергей Иванович с семейством на Лазурном Берегу, здесь, в Ницце. Долгожданную встречу отметили поездкой в «Ле-Коллетт» к Ренуару. Матисс не сомневался, что теплые отношения возобновятся, и пригласил Щукина зайти к нему в «Медитерране» посмотреть новые работы. Он ждал несколько дней, однако Щукин все не приходил. Неожиданно они едва не столкнулись на улице, но в последний момент Щукин поспешил перейти на другую сторону. На этом все и закончилось. Щукин потерял всякий интерес к собирательству вообще и к Матиссу в частности. Они больше не понимали друг друга с полуслова. Бывший «идеальный патрон» не мог простить Матиссу равнодушие к судьбе его же собственных картин, оставшихся в Советской России. А Матисс, упивавшийся возвращением к живописи, до конца не осознавал, какой страшной трагедией стала для Щукина потеря коллекции (да и не только ее одной!), и обижался на его безразличие к своим новым творческим исканиям.
Кроме живописи, Матисса почти ничто не интересовало. Он был захвачен работой с первого дня появления в Ницце и, хотя и жаловался, что тащится, словно выдохшаяся ломовая лошадь, чувствовал себя на пороге какого-то важного открытия. «Пока не могу тебе сказать, в чем это выразится, – написал он жене 9 января 1919 года, – так как это еще не пришло, но моя идея состоит в том, чтобы приблизиться к подлинной живописи» (la vraie peinture). Спустя четыре дня у него появилась новая модель. В Ницце почти не было молодых женщин, соглашавшихся позировать, поэтому Матисс страшно разозлился, узнав, что директор художественной школы одновременно предложил ее всем местным художникам, включая Ренуара. Но вряд ли она бы понравилась старику: девятнадцатилетняя Антуанетта Арну была не в его вкусе. В отличие от дородных розовощеких моделей Ренуара это была бледная, стройная, гибкая девушка, отличавшаяся изысканными манерами и живостью ума, что Матисс особенно ценил.
Матисс рисовал Арну одетой и раздетой, читающей и отдыхающей, но чаще всего просто пристально смотрящей на него. Он помещал в картины с Арну все, что мог найти у себя в номере, – вазу с анемонами, пару лимонов, собственные кисти. Этот нехитрый набор раскладывался на муслиновой скатерти, наброшенной на туалетный столик с овальным зеркалом, в котором отражались море и небо. Арну вдохновила его на серию картин на классический сюжет «Художник и его модель». «Бледно-серый день с примесью нежно-розового, и розовый коврик на полу – все остальное жемчужно-серого цвета; в зеркале ты можешь даже увидеть жемчужно-серого меня с палитрой», – с восторгом сообщил он Амели 25 января. Он усаживал Арну на высокий стул, стоявший у открытой балконной двери: на ней были модная короткая туника, розовато-лиловые чулки и туфли на высоких каблуках с большими бантами; в руках она держала зеленый зонт. В «Женщине с зеленым зонтом на балконе» – самой необычной из этой серии картин – яркие полосы света и пятна серой, синей и черной краски сложились почти в геометрическую композицию, настолько искусно художник стилизовал женщину, дверной проем, балюстраду и вертикальные полосы пляжа и моря на заднем плане.
Матисс переживал одно из тех важных «переходных состояний», когда ему требовалась модель, способная облагородить и очеловечить «испытание живописью». Сначала он думал, что Арну будет подменять дочь, но Марго не сумела приехать в Ниццу, и серию картин, для которой она позировала ему в Исси во время войны, продолжить не удалось. Тогда в Исси он сам придумывал для нее костюмы и экстравагантные головные уборы Вроде оригинальной шляпки без полей с синими перьями, отороченной мехом кепки и нелепого бархатного берета, напоминавшего гриб-дождевик. В Ницце Матисс смастерил для Арну великолепную шляпу из итальянской соломки, которую украсил темно-синей лентой и белым страусиным пером. Арну носила шляпу с таким изяществом, что простой белый пеньюар смотрелся на ней как роскошный бальный туалет. То стильная и обольстительная, то скромная, словно школьница, Арну умела достойно выглядеть, даже не имея на себе ровным счетом ничего, кроме шляпы. Когда наступило лето, Матисс повез Арну на залив в Вильфранш. Там, на террасе отеля с синей балюстрадой, она позировала ему в старомодном белом платье с высоким воротом и длинными рукавами. Теперь она сидела под розовым зонтом, в шляпе, которую Матисс украсил цветами.
Днем Матисс писал, а вечерами рисовал. С этих пор он будет так делать всегда, чувствуя, что не может найти равновесия между цветом и чувством: «Я сконцентрировался на линии и цвете и искал способ добиться наибольшей выразительности именно в них. Мне стало ясно, что ради этого следует пожертвовать другими ценностями: материальностью, глубиной пространства и богатством деталей». Теперь он искал способ, как сохранить ясность и выразительность, не принося в жертву ни объем, ни индивидуальность модели, ни текстуру меха, перьев, пуха, тканей и цветов. Он снова и снова возвращался к кружевному воротничку Арну, рисуя его в мельчайших деталях («каждую петлю, да-да, почти каждую ниточку») до тех пор, пока не выучил наизусть и не мог двумя быстрыми линиями преобразовывать «в орнамент, арабеск, не утрачивавший свойств именно этого кружева». Ту же процедуру он проделал с вышитой туникой Арну, с ее шляпой, волосами, руками и лицом. Матисс разрабатывал приемы, которыми он будет пользоваться до конца жизни, – между строк его писем домой прямо-таки пульсирует энергия, с которой он бился над обновлением своей манеры.








