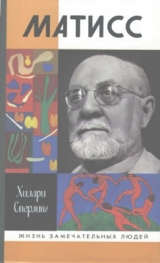
Текст книги "Матисс"
Автор книги: Хилари Сперлинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
«Он был одной ногой в могиле! – писала Берта в декабре
1937 года жене Пьера. – Моя сестра держится хорошо; она всегда проявляет мужество в критических ситуациях. Мы все в нашей семье такие. Мы – отважные люди». После того как Муссолини и Гитлер заключили союз, Пьер стал уговаривать родителей переехать подальше на запад, что из предосторожности поспешили сделать многие обитатели Ниццы. Однако Матисс не хотел уезжать с Лазурного Берега, хотя договор об аренде их квартиры на площади Шарль-Феликс истекал летом 1938 года. Вместо того чтобы бежать непонятно куда, он вдруг решил купить большую квартиру, точнее, две смежные, в огромном здании, возвышавшемся на северной окраине Ниццы на скалах Симьез. «Эксельсиор-Режина», последний и самый большой из императорских отелей, где в 1890-х годах проживала английская королева Виктория, опустел в 1914 году и долго стоял заколоченный досками. Потом его начали переделывать в многоквартирный дом и закончили реконструкцию в самое неподходящее время. Продать квартиры в преддверии новой войны владельцам дворца не удавалось даже по дешевке. Матисс стал первым и на тот момент единственным из желающих поселиться в «Режине». «Твоя мама в восторге, – сообщила в январе 1938 года Берта Пьеру. – Кажется, все невзгоды позади: у нее начинается новая, счастливая жизнь! Твой отец более сдержан».
В феврале Матисс опять заболел (на сей раз у него случился абсцесс во рту) и пришлось отправиться на консультацию к своему дантисту в Париж. Лечение затянулось до начала марта. Он по-прежнему был еще слаб – сказывались последствия тяжелой пневмонии; по настоянию Амели Лидия поехала вместе с ним. «Все в ужасе от последних действий Гитлера, – написал Матисс Пьеру, когда в марте Германия аннексировала Австрию и готовилась к вторжению в Чехословакию. – Большинство предпочитают об этом не говорить, поскольку не знают, что готовит им будущее, которого все так боятся». Он заторопился обратно на юг, в Ниццу, и перед отъездом вместе с Лидией прошелся по бутикам в районе улицы Боэси, где шла весенняя распродажа. Для пополнения реквизита мастерской весной 1938 года было куплено шесть вечерних платьев. На протяжении следующих десяти лет они станут главной «экипировкой» героинь его картин военных лет.
Нарядные туалеты Матисс будет использовать так же, как листы цветной бумаги, которые он прикалывал к холсту, – те и другие будут для него «строительными блоками». Конструировать картины из плоскостей цвета он начал, когда понял, что украшать своими росписями огромные поверхности ему не придется. Весной 1938 года, не надеясь увидеть свое панно «Танец» на стене Пти-Пале, Матисс согласился исполнить очередную версию «Танца» – на этот раз для Русского балета Монте-Карло. Музыку для нового балета – первую симфонию Шостаковича – художник и балетмейстер Леонид Мясин выбрали вместе, вдвоем придумали и либретто, лейтмотивом которого стала «борьба между белым и черным, между духом человека и его плотью» (с недавних пор символизируемая для Матисса песней черного дрозда). Художник сделал небольшие фигурки с конечностями-прутиками, наспех соединив их кусочками цветной бумаги, – получилось грубо, но впечатляюще. Затем выстроил игрушечный театр, чтобы продемонстрировать, как будут выглядеть декорации: три белые арки барнсовского «Танца», а за ними – залитое красным, черным, синим и желтым цветом пространство. У подножия этих арок должны были двигаться танцоры в красных, черных, синих и желтых трико, мелькая по сцене, словно полосы и пятна цвета. Хореография вторила сценографии Матисса – Мясин освободил пластику и движения от всего лишнего, из-за чего «Красное и черное» превратилось почти в абстрактный балет. «Le Rouge et le Noir», как «Песнь соловья» двадцать лет назад, открывал совершенно новое направление в творчестве Матисса.
Несколько месяцев, пока шла работа над балетом, в доме на площади Шарль-Феликс продолжали готовиться к переезду. В июне, когда вещи и холсты были упакованы, супруги отбыли в Париж, чтобы осенью вернуться в уже готовую квартиру. Из Нью-Йорка на традиционные летние каникулы приехал Пьер с женой и тремя детьми (младшему, Питеру Ноэлю, было всего полтора года). Фотография запечатлела многочисленное семейство Матиссов в квартире на бульваре Монпарнас: пятеро внуков, их родители и постаревшие Анри и Амели. Тем тревожным летом 1938 года, когда привычный мир вновь стоял на грани краха, каждый думал, что они, быть может, собрались вместе в последний раз. Прежнего доверия со стороны близких Матисс не ощущал, дети больше не верили в него или в то, что он делал, – что, по сути, было одно и то же. Его гордость была задета, отчего он казался суровым и недосягаемым. Маргерит отдалялась от него, Пьер вообще собрался принять американское гражданство, из-за чего у него постоянно шли споры с родителями. В какой-то момент Пьер не выдержал, поменял билеты и уехал со своим семейством обратно в Штаты. Амели была так возмущена поведением сына, что по возвращении в Ниццу написала ему настолько резкое письмо, что Матисс не позволил его отправить.
В сентябре началась паника и парижане стали в страхе покидать столицу. В Ницце тоже было неспокойно – появился даже план официальной эвакуации населения (власти опасались, что Италия попытается вернуть себе город, который принадлежал Франции меньше столетия). Амели с сиделкой и ящиком, в который были спрятаны картины, перебралась к Берте в Бозель, где было безопаснее; Маргерит и Жан с семьей тоже покинули Париж. Матисс с Лидией остались в Ницце, боясь бросить на произвол судьбы квартиру и мастерскую; переезд со старой квартиры на новую так и не был закончен – поддавшиеся панике рабочие покинули «Режину», толком не закончив ремонт. Лидия упаковывала фарфор в корзины, сворачивала холсты, укладывала в ящики белье, а потом каким-то образом ухитрилась втиснуться с частью этого добра в забитый чемоданами и тюками вагон. Поезд привез ее в Монтобан, где в пустовавшем гараже Жан устроил склад. Переночевав в Бозеле, она вернулась к метавшемуся в одиночестве Матиссу, который в ее отсутствие успокаивал себя хлороформом и белладонной. В конце сентября премьер-министр Франции Эдуар Даладье улетел в Мюнхен, куда прибыл и британский премьер Невилл Чемберлен, и вместе они договорились с Гитлером о мирной передышке. Ликующие толпы французов встречали самолет Даладье в аэропорту Ле-Бурже. Матисс и Лидия слушали по радио заявление премьер-министра, что война предотвращена. «Если кто-то должен поверить в чудо, чтобы спасти Францию, то я верю в чудеса», – сказал Матисс.
Жизнь опять пошла своим чередом. В «Режину» возвратились маляры и штукатуры, а Матисс устроился в небольшом отеле «Бритиш», где начал работать над декоративным панно «Песня. Концерт»[234]234
Трехметровое панно «Песня. Концерт» (1939) было заказано Нельсоном Рокфеллером для своих апартаментов в Нью-Йорке и должно было украшать стену над камином.
[Закрыть], заказанным Нельсоном Рокфеллером. Лидия сумела расчистить пространство во временной мастерской, где была свалена вся мебель, а в середине октября уехала за Амели в Бозель. Вернувшись, мадам Матисс обнаружила, что квартира в «Режине» еще не готова и ей вместе с вещами придется неопределенное время ютиться в тесной комнате в гостинице. Матисса она видела мало – муж все дни проводил в мастерской, сожалея, что не может оставаться там на ночь («Я не могу спать с моими работами, как обычно, – говорил он Бес-сону, – и это мне очень мешает»).
Поездка из Бозеля в Ниццу негативно сказалась на состоянии мадам Матисс, легко переходившей, как все страдающие депрессиями, от безразличия и апатии к чрезмерному возбуждению. У Амели появилась навязчивая идея: Лидию следует уволить, причем немедленно. Матисс пробовал успокоить жену и объяснить, что не справится без помощницы. Лидия действительно была нужна ему для работы с бумажными вырезками: он изобрел этот метод во время работы над «Танцем» для Барнса, а теперь собирался применить для декоративного панно для Рокфеллера. Лидия прекрасно с этим справлялась: она ловко прикалывала вырезки, меняла их местами, счищала краску с поверхности холста, а затем повторяла эту операцию снова и снова, с трудом поспевая за Матиссом, который чуть ли не каждый час менял цвета. Еще она позировала ему вместе со своей подругой Еленой Голицыной для рокфеллеровской «Песни» – черно-розово-темно-зеленого фриза, состоявшего из четырех поющих и слушающих пение фигур. Матиссу в этом году исполнялось семьдесят. Но напоминания о возрасте, о приближающейся смерти, о хрупкости вдохновения и о том, как мало времени у него остается, на жену не действовали. Чем более убедительные аргументы приводил Матисс в защиту Лидии, тем больше крепла уверенность Амели в том, что ей не место в их доме.
Долгожданный переезд в «Режину», произошедший в середине ноября, омрачило непрекращающееся противостояние супругов, практически не разговаривавших друг с другом. У Матисса снова начались проблемы с сердцем, часто носом шла кровь, а перед глазами опять стали появляться мутные пятна. Чтение романа Киплинга «Свет погас», герой которого – художник, теряющий зрение и от отчаяния умирающий, только усилило страх ослепнуть. 3 декабря, сразу после завершения «Песни», Матисс официально уволил Лидию, однако в начале января собирался вернуть ее: Лидия должна была снимать квартиру и приходить к нему днем как секретарь. Амели такой вариант тоже не устроил, и она поставила мужу ультиматум: «Я или она». Такой выбор казался Матиссу бессмысленным и необоснованным. Очередной скандал закончился для него приступом тахикардии. Спасибо заботливому Бюсси, оказавшемуся поблизости: он увел друга на свежий воздух и привел в чувство. Родные и друзья пробовали разрядить обстановку, прежде всего Берта, лучше других понимавшая корни их конфликта. Но переубедить сестру ни ей, ни жене художника Чарльза Торндайка, ни семейному доктору не удавалось. В конце января появилась Маргерит, дважды приезжал из Парижа Жан. Обоих поразили непреклонность матери и упрямство отца. Бюсси, который редко позволял себе вмешиваться в чужие дела, даже отвел Маргерит в сторону и прочел ей «нотацию… о безнравственности доведения до смерти выдающихся пожилых художников».
Матисс и его жена, казалось, поменялись ролями. Теперь страдающий от бессонницы, больной и не способный работать художник нуждался в ночной сиделке, в то время как его жена-инвалид кипела мщением. «Пять месяцев назад мадам Матисс неожиданно встала с постели, в которой пролежала последние двадцать лет, – писала Дороти Бюсси Андре Жиду в марте 1939 года, – и с тех пор демонстрирует поразительную энергию, физическую и умственную, в бесконечной и безжалостной схватке с Матиссом…» Отчаянное положение старого друга не вызвало никакого сочувствия у Дороти и Жани Бюсси, выслушавших полный отчаяния рассказ Матисса о бурях, сотрясающих «Режину», с едва сдерживаемой улыбкой. «Мадам Матисс… устраивает ужасные сцены ежедневно в течение четырех месяцев», – бодро рапортовала Жани Ванессе Белл, которая разносила скандальные новости по Лондону, тогда как другие ее приятельницы оповещали Париж и Нью-Йорк. Измученному Матиссу снилось, что его обвиняют в убийстве и он никак не может доказать свою невиновность.
Но отвратительные сплетни были наименьшими из неприятностей, случившихся той зимой. «Я была уволена, – рассказывала Лидия. – Madame хотела, чтобы я ушла, причем вовсе не из женской ревности – для этого я не давала никакого повода, – а из-за того, что я вела все дела и заняла слишком большое место в доме». Лидия переехала в пансион и стала думать, что делать дальше. В случае войны ее, как лицо без гражданства, ожидала печальная участь. Однажды ей уже случалось терять все – дом, семью, родной язык, родину, надежду стать врачом. И вот теперь, когда ей выпал счастливый шанс начать все сначала, опять все рушилось. Через десять дней она отправила прощальную записку Берте Парейр, объяснив, что предпочитает самоубийство существованию, причиняющему несчастье ей и другим. Лидия выстрелила в себя, но пуля застряла в грудной кости. Нацелить револьвер на себя во второй раз у нее не хватило мужества. Написав новую записку сестре Амели, Лидия в тот же день уехала из Ниццы.
Берта, наблюдавшая своего зятя в течение сорока лет, начиная со времени скандала с Юмберами, ни минуты не сомневалась в честности Лидии, написавшей ей о своих отношениях с художником, вернее, об их отсутствии. Все, кто наблюдал за происходящим в Ницце, – даже жена и дочь Бюсси, считали, что у Матисса к его модели сугубо профессиональный интерес. Но в этом-то и заключалась суть проблемы. Для Амели Матисс не могло быть худшего предательства, чем отстранение от участия в делах мужа. Она пожертвовала всем и подчинила свою жизнь интересам мужа и его работы, а теперь, на седьмом десятке, оказалась лишней. В феврале 1939 года ее адвокат составил акт о расторжении брака. Одним из главных условий был раздел принадлежащего супругам имущества поровну – картин, рисунков, гравюр, скульптур и всего прочего.
В начале марта Амели отбыла в Париж по неизвестному адресу. Матисс чувствовал себя раздавленным. Дети разъехались, Берта собиралась вернуться в Бозель, Бюсси отбыли в Лондон, даже кухарка с мужем и те покинули его. Художник остался один в огромной квартире на седьмом этаже величественной «Режины» – единственный жилец огромного пустующего дворца, возвышавшегося на высокой скале над морем. С одной стороны, он размышлял о пятидесяти годах, отданных живописи, поглотившей его жизнь без остатка, с горьким разочарованием. Но с другой – упивался неожиданно обретенными свободой, покоем и одиночеством. Матисс понимал, что это лишь короткая передышка, что война неизбежна: Гитлер уже оккупировал Чехословакию и нацеливался на Польшу. «Щебетание моих птиц, к которым, казалось, я уже стал равнодушен, даже враждебен, покорило меня вновь. В этом огромном дворце в Симьезе, выброшенном на берег словно потерпевший крушение корабль, они отвлекали меня от надвигавшихся отовсюду бурь».
За три недели он закончил «Музыку», или «Гитаристку», – парную к рокфеллеровской «Песне». «Эта картина обладает диапазоном, богатством и силой звучания органа», – написал отцу Пьер, распаковав ящик с новым холстом. Сын сразу почувствовал в «Гитаристке» идущую от барнсовского «Танца» мощь и цельность, отсылавшую к огромным полотнам 1914 года. «Работа над картиной поддержала меня в самый мучительный и неприятный момент жизни», – писал Матисс. Отец и сын были единодушны: «Гитаристка» – лучшее из сделанного за последние годы. Если бы не война, Матисс непременно показал бы картину в Париже, чтобы заставить замолчать тех, кто (как и Маргерит) считал, что он выдохся как художник.
В мае 1939 года Музей современного искусства в Нью-Йорке выставил в мраморном вестибюле нового здания «Танец I» – первый вариант московского панно, написанного для Щукина[235]235
«Танец I» (1909. Музей современного искусства, Нью-Йорк) первый, оригинальный вариант московского декоративного панно «Танец» (260x391, Государственный Эрмитаж).
[Закрыть]. 11 мая Матисс присутствовал на премьере балета «Красное и черное» в Монте-Карло, а 5 июня – в театре Шатле в Париже (где балет назывался «Странная фарандола»). Программку балета украшала сцена битвы Геракла с Антеем – последний вариант рисунка «по мотивам Поллайоло», где побежденный был изображен Матиссом не ослепленным гигантом, а танцором, вздымающимся в мощном порыве ввысь. «Я находился в таком смятении, однако полный успех балета, а также идея новой постановки, которую мне было предложено оформить, поддержали меня», – писал он Бюсси, рассказывая о сюжете нового классического балета, который заканчивался сценой свадьбы двух олимпийских богов. «Я закончил с одной женитьбой и планирую другую», – радостно сообщил Матисс летом Бюсси, не ведая, что скоро начнется война и Русский балет будет распущен. Мастерскую Матисса на бульваре Монпарнас постоянно наводняли адвокаты со своими помощниками. Однажды он насчитал целых восемь человек, методично опустошавших ящики, обыскивавших шкафы, подсчитывавших рисунки и составлявших опись имущества. Представлять его интересы на бракоразводном процессе при разделе предметов искусства художник попросил своего дилера Поля Розенберга, тогда как противную сторону взялась представлять Маргерит. В первую неделю июля бывшие супруги встретились в кафе у вокзала Сен-Лазар. «Моя жена даже не взглянула на меня, а я не мог отвести от нее глаз и был не в состоянии вымолвить и слова, – сообщал Матисс, описывая Бюсси, как в течение получаса, пока Амели и Розенберг что-то обсуждали, пребывал в полном оцепенении. – Я сидел словно истукан, клянясь, что больше никогда не позволю заманить себя в подобную ловушку». Однажды он себя именно так и изобразил, словно предвидел эту сцену: двадцать лет назад, в «Разговоре», который купил Щукин, – Амели сурово смотрит на него, а он застыл перед ней в молчании. Ночами ему снились какие-то ужасы. Один из снов он пересказал Бюсси: будто бы его приговорили к смерти и он ждет, когда за ним придут и поведут на казнь. Но кошмар, который вскоре случится, не мог присниться ему даже в самом страшном сне.
Глава пятая.
ВОССТАВШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ.
1939–1945
К середине августа 1939 года, ввиду предстоящего раздела имущества, вся «художественная продукция» Матисса была учтена, классифицирована и передана на хранение в Банкде Франс. Матисс признался Полю Розенбергу, что чувствует себя совершенно опустошенным и мечтает поскорее убраться из Парижа. 22 августа он был в Женеве, куда приехал на выставку шедевров из музея Прадо. На следующий день нейтральную Швейцарию взбудоражила новость о подписании в Мюнхене[236]236
Так в тексте. (OCR)
[Закрыть] Германией и Советской Россией пакта о ненападении. Через неделю гитлеровские войска вошли в Польшу. 3 сентября Франция, а вслед за ней Великобритания объявили войну Германии. Начиналась третья в жизни Матисса война. Он поспешил вернуться в Париж и хотел было, как и все, бежать на запад, но, поняв, что это ему не под силу («Последние двенадцать месяцев меня совершенно сломили», – написал он Бюсси), остановился в городке Рошфор-ле-Ивелин, чтобы собраться с мыслями и решить, что делать дальше.
В деревенской гостинице в Рошфоре, что находился всего в полусотне километров от столицы, Матисс провел почти месяц, наблюдая за бесконечным потоком беженцев, читая «Дневники» Андре Жида и рисуя в лесу деревья. Рисовал он и Лидию, которая вновь была с ним. Он написал, что нуждается в ее помощи, и она появилась в день его именин, 14 июля. Лидия вошла со скромным букетом, который собрала в саду у тетки, жившей в предместье Парижа и на время приютившей её. Матисс увековечил его в натюрморте (белые маргаритки и синие васильки, рисунки на стене, подставка для натюрморта и даже сама модель), поместив букет на черном фоне в центре полуабстрактной композиции. Яркие, смелые «Цветы в День святого Анри» стали символом пакта, который они заключили в Рошфоре.
«Именно там мы договорились о нашем будущем сотрудничестве, – позже рассказывала Лидия. – Он должен был принять решение, возьмет он меня с собой или нет. Я практически не колебалась. Я была одинока, ничем не связана, и в жизни меня ничто не удерживало. Я понимала, что будут говорить люди о молодой красавице и старом богатом мужчине, но проблемы собственной репутации меня не интересовали». Оба чувствовали, что наступил решающий момент их жизни и обратного пути не будет. Матисс вел себя намного осторожнее, чем Лидия. «Он говорил: “Вы молоды. У вас вся жизнь впереди, все дороги открыты перед вами”. На что я возразила: “Дороги, ведущие куда? К чему?” – “Бедное дитя”, – ответил он. Видимо, только в тот момент он осознал, что я была словно чистый лист». В Рошфоре Матисс нарисовал Лидию в дорожном плаще с капюшоном – они собрались в путешествие, но еще довольно плохо представляли себе, как все у них сложится. Позже Де-лекторская любила сравнивать себя с вороном из русской сказки, летящим спасать израненного героя, брошенного умирать в чистом поле. «Это Матисс заставил меня почувствовать, что я еще могу быть кому-то полезной», – говорила она.
После оккупации Польши ни Гитлер, ни Муссолини ничего не предпринимали. Франция продолжала вести пассивную войну, в военные действия не вступала, но тем не менее объявила всеобщую мобилизацию, а с ней и чрезвычайные меры, что для Лидии, как и для сотен тысяч иммигрантов, означало невозможность передвигаться по стране без специального разрешения. Матиссу пришлось подключить все свои связи и через министра-социалиста Альбера Сарро выправить для русской секретарши необходимые бумаги. В конце октября они приехали в Ниццу. Город был переполнен войсками. На первом этаже «Режины» расквартировали роту марокканцев. Филодендроны в огромной мастерской так разрослись, что превратились в настоящие джунгли. Из-за предстоявшего раздела имущества мастерская казалась пустой: кроме незаконченных работ, нескольких бронзовых отливок да фигуры безрукой девочки – прелестной римской копии с греческого оригинала – в ней ничего не осталось. Зато можно было радоваться птицам – у Матисса их собралось около трехсот, жили они в специальной вольере, и за ними ухаживал птичник, являвшийся к своим питомцам каждый день. «Птичник» отделял мастерскую от жилой половины – столовой с мраморным полом (мрамор Матисс выбрал сам и сам нарисовал орнамент) и бывшей комнаты Амели, где всегда было прохладно, поскольку окна выходили на север. Со временем и эти комнаты тоже превратятся в мастерские, но пока они продолжали напоминать о прошлой, безвозвратно ушедшей жизни. В первые тревожные месяцы войны Матисс постоянно слушал военные сводки, пытаясь принять правильное решение, где им с Лидией следует остаться. В итоге он выбрал Ниццу, но готов был двинуться из города в любой момент.
Он никуда не ходил и ни с кем, кроме своих моделей, не виделся. Компанию ему составляли только его птицы, да и то лишь в свободные от работы часы. Лидия наотрез отказалась поселиться в его квартире и спала в комнате для прислуги в мансарде, четырьмя этажами выше. Рабочий день у нее начинался утром, когда приходили модели. Со стороны постоянное присутствие рядом со старым художником молодой дамы выглядело несколько двусмысленно, но Лидию это не смущало. Она раз и навсегда четко установила для себя, что готова делать для своего работодателя, а что – нет. «Я постоянно носила передник, – говорила она, – чтобы показать всем, что я служащая». До конца жизни Матисса она обращалась к нему только на «вы», представлялась как его секретарь и никогда не называла его иначе, чем «патрон»[237]237
«…Вас интересует, была ли я “женой” Матисса. И нет, и да. В материальном, физическом смысле слова – нет, но в душевном отношении – даже больше, чем да. Так как я была в продолжение двадцати лет “светом его очей”, а он для меня – единственным смыслом жизни», – напишет она своим родственникам в 1958 году.
[Закрыть].
Однако и его, и ее родственники не сомневались, что они любовники. Тетка, возмутившаяся сначала разводом племянницы, а потом тем, что та позволяет писать себя обнаженной, не желала более поддерживать с Лидией отношений. Жена и дети Матисса и вовсе обвиняли отца в разврате, заявляя, что он «втаптывает имя семьи в грязь» (то же самое говорил полвека назад его отец, правда, совсем по другому поводу). Матисс пытался представить возвращение Лидии как рабочую необходимость, но дети считали его поступок явной провокацией. Все трое были уверены, что таким образом он просто решил отгородиться от них. В присутствии Лидии Пьер, Жан и Маргерит вели себя отвратительно, делая вид, словно ее не существует вовсе; «эта русская» (между собой они ее иначе не называли) была для них хищной интриганкой, манипулирующей стариком-отцом. В связи с предстоящим официальным разделом имущества обстановка в семье была накалена до предела. Бесконечные претензии, обвинения и мелочные счеты жены доводили Матисса до исступления. Вызвавшаяся быть посредником Маргерит оказалась «под перекрестным огнем» обоих родителей; измученная морально и физически, она несколько раз теряла сознание, когда вместе со своим нью-йоркским адвокатом приезжала «инспектировать» содержимое квартиры в Ницце. Матисс сильно сдал: к концу дня глаза его так уставали, что он плохо различал написанное на холсте. Любителям во время войны было не до искусства, адвокаты получали огромные гонорары, что особенно бесило Матисса. «Это доведет всех нас до нищеты», – со злостью говорил он.
Нейтралитет в их большой семье хранили только двое – Берта и Пьер. Тетка с племянником не поддерживали ни ту, ни другую сторону, в споры не вмешивались и в один голос умоляли Матисса подождать, пока Амели остынет и успокоится. И все-таки в знак солидарности с сестрой Берта решила отказать зятю от дома – «до тех пор, пока эта русская остается с ним». Разрываясь между Анри и Амели, она покривила душой и сделала вид, словно сорока лет дружбы не было, что Матисс не летал в тулузский госпиталь, чтобы навестить ее после тяжелой операции, и вообще вел себя по отношению к ней как любящий старший брат. Но вот в чем нельзя было упрекнуть Берту, так это в отсутствии беспристрастности: виновницей их развода она Лидию никогда не считала. Такого предательства Амели сестре простить не смогла. Сестры Парейр продолжали жить по соседству в родном Бозеле, только Берта ютилась с тяжелобольной тетей Ниной в холодном доме и с трудом сводила концы с концами, а состоятельная Амели арендовала уютный коттедж, жила в полном достатке и с младшей сестрой разговаривать не желала.
Пьер в то время был самым близким отцу человеком. В момент начала войны Пьер находился во Франции и, разумеется, попал под мобилизацию. Матисс сделал все возможное и невозможное, чтобы помочь ему вернуться в Штаты, хотя страшно не желал отпускать сына далеко от себя. «Будет ужасно, если ты уедешь – что мне тогда останется? – написал он сыну за месяц до отлета в Нью-Йорк. – Останется только моя работа. Но этого недостаточно, поскольку в этом случае ты становишься пленником, запертым в невидимых стенах… Конечно, можно работать и в тюрьме (посмотри на Курбе[238]238
Матисс имел в виду судьбу французского живописца Гюстава Курбе (1819–1877), который в 1871 году, после падения Парижской коммуны, по приговору суда полгода отсидел в тюрьме.
[Закрыть]), но временами это становится нестерпимым». Видя, что никаких явных признаков нападения на Францию со стороны противника по-прежнему не наблюдается, Матисс подумывал удалиться от своих личных проблем куда-нибудь подальше, например в Бразилию. Он так истосковался по краскам и свету далеких стран, что перспектива нового путешествия немного его успокоила и предстоящий раздел имущества перестал казаться столь отвратительной процедурой. Конец апреля и первую неделю мая они с Маргерит разбирали сундуки и ящики с его работами в сыром холодном подвале парижского Банка де Франс. Он ужасно боялся опять схватить бронхит, а по ночам страдал такими спазмами в желудке, что испуганный портье даже вызывал врача. Однако ничего серьезного у постояльца врач не обнаружил.
Гитлеровские армии тем временем перешли в наступление и в апреле захватили Норвегию и Данию, а 10 мая двинулись через Бельгию, Люксембург и Голландию на запад. Через два дня они уже форсировали реку Мез на территории Франции. Когда начались бомбардировки Парижа, жители столицы вновь обратились в бегство, став частью многомиллионного исхода, двигавшегося из Фландрии и Бельгии. Огюст Матисс с женой успели уехать из Боэна, который вскоре был занят фашистами, и двигались на автомобиле на юг, в Бозель, надеясь найти убежище у Амели. Маргерит отправила Клода вместе с директором его школы в центр страны; жена Жана Луиза уехала с сыном на запад (сам Жан был призван в армию). Когда немецкие войска двинулись через долину Соммы на запад, к морю, Матиссу с Лидией удалось сесть в забитый беженцами поезд, шедший из Парижа в Бордо. Через несколько дней они оказались в приморском городке Сен-Жан-де-Люз, у самой испанской границы.
1 июня, когда армии Голландии и Бельгии были разбиты, а отступавший британский экспедиционный корпус готовился к переправе через Ла-Манш в Дюнкерке, Териад в Париже заканчивал печатать специальный выпуск журнала «Verve», который Матисс называл «военным». Накануне входа в столицу немцев художник дневал и ночевал в редакции: он вырезал из цветной бумаги и наклеивал на обложку буквы и фрагменты рисунка под неусыпным взглядом Териада, приложившего вместе со своими печатниками столько усилий, чтобы на свет появились первые матиссовские декупажи[239]239
Декупаж (фр. découper – вырезать) – декоративная техника, подразумевающая скрупулезное вырезание из бумаги, ткани или кожи отдельных элементов. Французский термин обычно применяется к работам больших мастеров, тогда как в остальных случаях подобную технику называют просто аппликацией.
[Закрыть]. Ничем другим ответить на позорное поражение своей страны в июне 1940 года они не могли.
Едва 14 июня немецкие войска вошли в Париж, правительство ушло в отставку. На следующий день новым премьер-министром Франции был назначен восьмидесятичетырехлетний маршал Петэн, который немедленно попросил Гитлера о перемирии.
Матисс был напуган капитуляцией Франции, потрясен творившимся кровопролитием, волновался за родных и близких, о судьбе которых ничего не знал. Больше всего его беспокоила Маргерит, уехавшая накануне падения Парижа на поиски сына. Но пришедшие письма и телеграммы сняли тяжкий груз с его души. Дочь с внуком добрались до Бозеля, и теперь на родине Парейров собрались почти все: Огюст с женой, Луиза с Жераром и, наконец, Маргерит с Клодом. Марго пришлось мчаться на автомобиле по проселочным дорогам Оверни, удирая от наступавших за ней по пятам немцев. «Никогда! – воскликнула Маргерит, узнав, что Франция капитулировала. – Я скорее умру с оружием в руках». Через две недели она разыскала Жана. «Итак, теперь все в безопасности», – с облегчением сообщил Матисс Пьеру 4 июля 1940 года.
Отныне существовало две Франции: оккупированный немцами Север и номинально свободный Юг с правительством Петэна в Виши. В июне Муссолини объявил войну Франции, и угроза захвата Лазурного Берега вновь стала вполне реальной. Матисс тем не менее полагал, что жить под итальянцами в Ницце несомненно лучше, нежели в Сен-Жане, где нацисты наверняка установят «новый порядок». Художник, у которого в кармане лежал заграничный паспорт с бразильской визой, говорил потом, что ему и в голову не приходило бежать из Франции («Я должен был выехать 8 июля… Увидев все своими глазами, я отказался от поездки. Я чувствовал бы себя дезертиром. Если все, кто на что-то способен, удерут из Франции, то кто же останется?» – написал он Пьеру). Им с Лидией чудом удалось вырваться из Сен-Жана, забитого беженцами, зажатыми в городе как в мышеловке (наступающие немцы с севера, испанские пограничники с юга). Они погрузились в едва ли не единственное такси, у которого наличествовал полный бак бензина, и успели выехать из города через южные ворота, в то время как через другие, северные, в Сен-Жан-де-Люз уже входили немцы. Через сто с лишним километров они остановились в первой же гостинице, где нашлись свободные номера. Поскольку поезда не ходили, в отеле «Феррьер» в Сен-Годане пришлось задержаться на весь июль. Каждое утро Матисс со страхом включал радио, читал газеты и мучился от болей в желудке, ставивших в тупик местных эскулапов. Через месяц они с Лидией добрались до Каркассона, а через две недели, когда снова стали ходить поезда на Марсель, в два часа ночи втиснулись в переполненный вагон.








