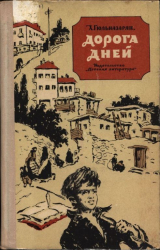
Текст книги "Дорога дней"
Автор книги: Хажак Гюльназарян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
ПЕРЕМЕНЫ В КВАРТАЛЕ
Перемены происходили не только на нашем дворе, но и во всем квартале.
Жестянщик Адам организовал артель – дело совершенно непонятное, особенно моему отцу.
– Э-э, братец, – говорил отец Газару, – родные братья и то не уживаются, как же это они друг с другом ладить будут?
– Чего там, уживутся, вместе будут молотками постукивать, вместе и деньги делить будут, – отвечал Газар.
– Скажешь тоже! – тянул отец. – Одно дело Адам – в день пять ведер мастерит, другое – Торо́с: этот лентяй и одного-то не сделает…
Газар ничего не мог возразить и, чтоб отделаться, говорил:
– Э-э, тебе что, своих забот мало?
Одним обстоятельством, однако, все были довольны.
В квартале стало тише, и люди говорили:
– Благословен будь отец Адама, наконец-то поспокойнее стало!
Организованная Адамом артель, или, как блестящими буквами было написано на вывеске, «фабрика металлистов № 1», разместилась возле Кантара, в старых казарменных конюшнях, а бывшие мастерские жестянщиков постепенно превращались в квартиры для десятков семейств, неизвестно откуда прибывших. Так незаметно перестал существовать один из «центров» нашего квартала.
Правда, там еще кое-где постукивали молотками последние кустари – лудильщик Парнак, коваль Нерсес и «нытик Гево» – жестянщик. Про последнего говорили, что он тайно торгует водкой.
В старом помещении школы собирались открыть фабрику обуви и кожаных изделий, куда приглашали на работу моего отца.
Среди новых обитателей нашего квартала особо примечательных личностей не было, кроме одного, который одиноко ютился в бывшей мастерской жестянщика Адама.
Через несколько дней после его появления рядом с цирюльней Симона открылась лавка, где наш новый сосед торговал газетами и дешевыми книгами. Еще он чинил часы – ремесло, которым не очень-то прокормишься, поскольку в квартале, кроме стенных ходиков, других часов ни у кого не было. Звали его Маркар, но, кроме нашего соседа Хаджи, который обращался к нему «парон Маркар», все величали его «Газет-Маркар» либо просто «Газет». Когда его так называли взрослые, он слышал в этом оттенок уважения и не сердился, но стоило нам окликнуть его так же, он выходил из себя, руки начинали дрожать, от злости он ронял лупу из правого глаза.
Взрослое население квартала относилось к Газет-Маркару с большим уважением.
– Шибко ученый человек, по-всякому говорить может, – заявляла Србун, и не без оснований.
Со дня ареста генерала Алагязова в квартале не осталось никого, кто бы говорил по-русски, тогда как Газет-Маркар знал не только русский, но и «язык герма́на», потому что в годы войны находился в плену в Германии.
Благодаря знанию языков, ремеслу («благородному ремеслу», как говорил мой отец) и особенно газетам с первых же дней своего появления Газет-Маркар прослыл авторитетной личностью, и преимущественно в вопросах политики. А политика, как и раньше, была основной темой разговоров в кофейне черного Арута при непременном участии нашего соседа Хаджи, отца Остолопа и прочих завсегдатаев. И в этих разговорах заключительное слово все почтительно предоставляли Газет-Маркару.
У последнего было много свободного времени, и, понятно, он успевал прочесть почти все полученные на продажу газеты и книги и, конечно, превосходил ученостью как моего отца, так и цирюльника Симона. Кроме того, были у него и какие-то связи в комиссариате просвещения, – Хаджи уважительно говорил: «За один стол с начальством садится». Газет-Маркар любил в разговоре бросить невзначай:
«Вчера вызывает меня наш Асканаз, – мол, что скажешь, дядюшка, хотим организовать театр».
Многие не верили в то, чтоб наркома интересовало мнение Газет-Маркара насчет открытия театра, но это невинное тщеславие продавца газет, помимо всеобщего почтения, приносило и свою пользу. Черный Арут, разные лавочники, включая гробовщиков, старались поближе сойтись с ним.
Цирюльник Симон, к примеру, брил его бесплатно и каждый раз, когда тот доставал деньги, повторял:
– Не надо, братец Маркар, не чужие ведь, авось и у меня к тебе дело будет.
Непонятно, чем мог быть полезен Газет-Маркар Симону, у которого, как мне помнится, и часов-то не было.
Маркар и внешностью отличался от остальных жителей квартала. Это был маленький, очень маленький стареющий человечек. За исключением заведующего нашей школой товарища Смбатяна, никто в квартале не носил коротко подстриженной светлой бородки. Светлые были у Газет-Маркара и усы, а голова большая, лысая, и только возле ушей торчало по пучку желтых волос, которые вечно выбивались из-под шляпы. Ходил он в костюме и в белой, всегда несвежей рубашке при неизменном черном галстуке.
Ореола славы, окружающего Газет-Маркара, не замечали только малыши, и в их числе были я и Чко, хоть мы и старались казаться взрослыми.
Каждый день рано утром, прежде чем открыть свою лавчонку, Газет-Маркар заходил в цирюльню Симона.
Вместо приветствия он непременно разражался какой-нибудь странной фразой:
– Итак, да здравствует рус…

– Ну, что там новенького в газетах? – спрашивал цирюльник Симон.
– Здравствуй, добро пожаловать, – отвечал цирюльник Симон и обращался к сидящему перед ним клиенту: – Голову брить будем?
– Нет, – отвечал тот.
Симон давал один конец ремня клиенту в руку и, держась за другой, точил бритву, а Газет-Маркару предлагал любезно:
– Садись, братец Маркар. Вот освобожусь, в нарды сыграем, – и кричал в глубь парикмахерской: – Ахчи, Наргиз, принеси-ка братцу Маркару чашечку кофе!
– Весьма благодарен, – улыбался Газет-Маркар и, приняв из рук Наргиз кофе, опускался на длинную скамью у стены.
– Ну, что там новенького в газетах? – спрашивал цирюльник Симон.
– Давай, уста, давай, некогда мне, – недовольно ворчал клиент.
– Все, кончаю, – отвечал Симон, подправляя ему усы.
И, пока Газет-Маркар, пофыркивая, тянул свой кофе, проливая на бородку и черный галстук, Симон, закончив дело, отряхивал замызганное полотенце, освежал лицо и голову клиента ароматной водой и говорил:
– Готово.
Наконец Симон мог спокойно выслушать рассказ Газет-Маркара, но в это время мы, малыши, начинали дружно вопить под окнами цирюльни:
– Газет, Газет!
Продавец газет вскакивал, дрожащими руками ставил на скамью недопитую чашку кофе и, путаясь в широких брюках, выскакивал из парикмахерской.
– Мерзавцы! – визжал он на весь квартал.
Симон улыбался вслед и в ожидании следующего клиента точил бритву, покачиваясь всем телом и вперив взгляд в дверь.
В ШКОЛЕ
Но, конечно же, для нас интереснее всего была новая школа – розовое здание с железной крышей. У ее высоких стен жалко ежилась церковь.
Когда мы перебрались в новое здание, число учеников увеличилось вдвое. Теперь с мальчиками и девочками нашего квартала здесь учились ребята и из других кварталов: были ученики даже из отдаленного Конда и Цахи-Мейда́на, что возле ущелья. Стало больше и учителей.
Во время перемен по длинным и широким коридорам расхаживали дежурные учителя и старшеклассники. Они следили за тем, чтобы мы, малыши, не шалили. И нас лишали удовольствия лихо съезжать по перилам с третьего этажа на первый, а на переменах нам не разрешалось больше устраивать игры в классе. Со звонком дежурные выгоняли нас во двор или в коридор. Пионерский штаб безоговорочно конфисковал все рогатки, из которых мы обстреливали узкие церковные оконца, и все ножи, потому что некоторые из нас умудрялись пробовать их лезвия на всех попадающихся предметах. Дошло до того, что даже на дверях кабинета заведующего школой товарища Смбатяна было вырезано крупными буквами: «Балда Мелик».
В награду за столь лестное мнение о нем четвероклассник Мелик, не зная точно, кто из нас автор этого шедевра, хорошенько поколотил и меня и Чко, а мы смолчали, потому что он не донес на нас.
На переменах даже во дворе расхаживали дежурные, и потому мы все шалости вытворяли на уроках.
Особенно мы проказничали на уроках пения, которые были у нас два раза в неделю, по вторникам и субботам. В школе уроки пения вел высокий мужчина в очках – товарищ Папаян, внешне очень выделявшийся среди учителей. Одевался он тщательно: черный пиджак обтягивал узкую спину, из-под пиджака виднелся жилет из того же материала, с многочисленными карманами, в одном из которых неизменно торчал камертон. Он носил белоснежные рубашки, а на длинной шее, под необыкновенной величины кадыком, застыл черный галстук-бабочка. Должен заметить, что и голова у Папаяна была особенная: носил он не общепринятые суконные колпаки и кепи, а широкополую шляпу.
Словом, наш товарищ Папаян был, что называется, аристократ, столь же не похожий на нас, как Миклухо-Маклай на своих папуасов. Но так же, как Миклухо-Маклай, он искренне пытался помочь своим папуасам, чего мы долго не могли понять и оценить.
Несмотря на все наши выходки, товарищ Папаян входил в класс всегда с улыбкой. Улыбаясь, здоровался с нами и, по близорукости не замечая, что ученики давно уже уселись, любезно предлагал:
– Садитесь, садитесь, дети.
Подходил к учительскому столу, отодвигал стул и, положив шляпу на стол, доставал из кармана чистый платок и протирал очки. Затем, водрузив очки на длинный, с горбинкой нос, доставал из жилетного кармана камертон, подносил его к уху и, взмахнув длинными руками, говорил:
– Ну, начали.
Все это казалось нам необыкновенно смешным. Мы едва не прыскали со смеху, а когда он, напоминая мотив, запевал первые две строчки песни, поднимался такой шум, что Папаян растерянно останавливался и, виновато улыбаясь, говорил:
– Не так, не так! Начнем сначала.
Чего хотели мы, маленькие дикари, от этого действительно прекрасного человека? Теперь я со стыдом вспоминаю наши проделки. Привязав к пальцам тоненькие резинки, мы обстреливали бумажными шариками его широкополую шляпу, обмазывали мелом края стола и стула, чтобы он запачкал костюм… Но хуже всего была злая, бездушная песенка, которую бог знает какой шельмец выдумал и распространил по всей школе:
Эй, очкастый черный черт,
Когда смерть тебя возьмет?
Эти строки мы распевали на мотивы всех разученных нами песен, пели ему вслед и даже под самым его носом, хором, во время уроков. В сплошном шуме до него не доходили слова песни, и с лица не сходила мягкая улыбка.
– Не так, не так, начнем сначала…
В ШКОЛЕ И НА УЛИЦЕ
Кроме пения, все остальные предметы преподавала нам товарищ Шахнабатян. Она заменила товарища Амалию, которая была нашей классной руководительницей первые два года. Мы шалили на уроках Папаяна, но это было несознательное озорство, а товарищ Шахнабатян мы ненавидели. И сама она, как говорила моя мать, «терпеть нас не могла». Товарищ Шахнабатян никогда не улыбалась, не кричала, всегда была одинаково угрюмой и надменной. Она носила длинное черное платье со множеством пуговиц. Все на ней было черным: и туфли, и чулки, и глаза, и волосы, только белый кантик воротника отделял ее маленькую головку от длинного туловища.
Мы боялись ее и завидовали ученикам третьего «Б», классной руководительницей которых была молоденькая красивая девушка, смешливая, веселая и добрая. На переменах она ходила, обняв за плечи своих учеников, по воскресеньям водила их на прогулки и обучала разным веселым играм. А товарищ Шахнабатян медленно проходила мимо нас, плотно сжав губы, и не отвечала на приветствия.
Она так и не выучила наших имен. Для нее не существовало Левона, Геворка, Рипсик, Рача… Были только: Бадалян, Маркосян, Дрампян…
Она входила в класс, подав рукой знак садиться, тяжелым, неприветливым взглядом скользила по партам и, не найдя, к чему придраться, раскрывала журнал и говорила почти басом:
– Титанян, к доске.
Маленькая девочка с фамилией великанши, трепеща, подступала к доске за очередным «неудом».
– Титанян, неудовлетворительно, – спокойно произносила товарищ Шахнабатян, складывая руки на груди. – Садись, дрянь.
Девочка садилась на место, украдкой вытирая слезы, а мы, замерев, ожидали, чья фамилия сорвется с бледных, сухих губ товарища Шахнабатян.
– Левонян… Хачикян… Амбарцумян…
В журнале росло число «неудов», пока не взрывался последний звонок, вызволяя нас из-под ига этой женщины в черном платье и с черной душой.
Только один из нас не дрожал, как все, перед товарищем Шахнабатян, потому что, хоть наша учительница и его звала по фамилии, это был ее собственный сын, Асатур Шахнабатян.
Асатур был высокий, с ленцой, наивный и общительный парень, но то, что мы вытворяли с ним, могло вывести из терпения даже верблюда. Всю ненависть к матери мы срывали на сыне. На переменах Чко, как волчок, вертелся вокруг него, без устали повторяя бессмысленную, глупую песенку:
Тощий Цатур,
Кривой Асатур,
Дай нам жвачку,
Получи болячку,
Глаза Асатура наполнялись слезами. А когда Геворк, передразнивая товарища Шахнабатян, придавал своему лицу надменность и, сложив руки на груди, говорил: «Шахнабатян, неудовлетворительно, садись, дрянь», Асатур кричал, потеряв терпение:
– Вот стукну – узнаешь… – и, сжав кулаки, бросался на Геворка.
Чко подставлял ногу, и Асатур во весь рост растягивался в коридоре. Мы тут же исчезали, зная, что на шум сбегутся дежурные учителя и пионеры. И они действительно прибегали, поднимали Асатура, расспрашивали, но то ли от страха, то ли из великодушия Асатур никого не выдавал.
– Споткнулся, – оправдывался он.
А сторож Багдасар растерянно повторял каждый день одно и то же:
– И чего это ты все на ровном месте спотыкаешься!
Долго так не могло продолжаться. В нашей ненависти мы переходили все границы. Крали его книги, тетради, прятали их, выкидывали шапку из окна…
Он пускался на все, пытаясь смягчить нас. Вначале решил доказать нам свою силу и надавал тумаков мне, Чко, Геворку и одной девчонке. Он был сильнее любого из нас, но драться со всем классом сразу не мог, а когда тебя лупит целый класс, то хуже этого не придумаешь. Асатур вскоре сам это понял и переменил тактику: теперь он старался не замечать насмешек и как-то глупо, жалко улыбался.
Таскал откуда-то абрикосы и раздавал ребятам, а раз, чтобы расположить нас к себе, стащил журнал. Мы «исправили» в журнале все неудовлетворительные оценки. Но результат оказался трагическим: товарищ Шахнабатян, раскрыв наше мошенничество, всем без исключения влепила «неуды», даже тем, у кого их не было.
Так обстояли дела в нашем классе, когда случилось вот что.
Однажды вечером мы с Чко возвращались из кинотеатра «Пролетарий». Шли мрачные, потому что проскочить в зал без билетов не удалось, а о том, чтобы купить их, не могло быть и речи.
На улице было мало народу. Тускло желтели фонари, смешно вытягивая тени редких прохожих.
На другом конце улицы кто-то крикнул:
– Держите его!.. Держите!..
Со всех дворов с лаем выскочили собаки, прохожие стали сбегаться на шум. И мы за ними. Вдруг навстречу нам выбежала огромная собака. Со страху мы бросились в подъезд ближайшего двухэтажного дома и притихли. Собака промчалась по безлюдной улице. Но затем на тротуар упала черная, длинная тень человека. Мы подумали, что он бежит за собакой, но, проходя мимо подъезда, человек вдруг остановился, огляделся и быстро подошел к водосточной трубе, которая доходила почти до земли. С минуту, наклонившись возле трубы, он что-то делал, будто завязывал шнурки ботинок. Мы уже хотели выйти из подъезда, когда он резко выпрямился и помчался вперед.
Мы вышли на улицу. Навстречу двигалась толпа. Кто-то громко вопил:
– Вай, сукин сын, стащил золотые часы!..
– Не горюй, отдаст, – пошутил кто-то.
– Ну конечно, – вмешался другой, – он их взял поглядеть, который час.
Толпа, постепенно рассеиваясь, прошла мимо нас. Я и Чко тоже пошли домой.
Нам стало весело, а Чко то и дело повторял чужую остроту:
– «Взял, говорит, поглядеть, который час»…
Мы были уже почти у нашей школы, когда Чко вдруг остановился:
– Учитель!
– Чего?
– Я знаю, где часы.
Я вытаращил глаза.
– Да ну?!
– Знаю. Честное слово, знаю! Пошли…
Он потянул меня за рукав, и мы повернули назад. На улице уже никого не было. Мы дошли до двухэтажного дома, Чко подошел к водосточной трубе, просунул туда руку и тут же вытащил:
– Погляди.
При тусклом свете электрических фонарей я увидел поблескивающие на ладони Чко золотые часы.
НАЧАЛО ИСПЫТАНИЯ
Если бы мы знали, какие беды навлекут на нас эти блестящие часы, которые к тому же не ходили! По дороге мы то и дело прикладывали их к уху, но они не тикали.
– Надо завести, – сказал Чко и стал крутить завод. Что-то хрустнуло внутри, но стрелка так и не сдвинулась с места.
Мы прошли мимо школы, свернули на нашу улицу и остановились. Чко спросил:
– Что теперь делать?
– Откуда я знаю!
– На́, забери с собой.
– Нет, нет, – поспешно отказался я, – бери ты.
– И я не хочу.
После долгих раздумий мы решили спрятать часы меж досок нашего амбара.
– Утром что-нибудь придумаем, – сказал на прощанье Чко.
Я пробрался во двор, быстро спрятал часы и вошел в дом. Наши еще не спали. Зарик за столом учила уроки, отец сидел на тахте и, откинувшись на подушки, слушал, как она читает, а мать вязала чулок из разноцветных бумажных ниток. Я хотел было тихо прошмыгнуть в угол, не привлекая к себе внимания, но мать отложила вязанье и язвительно произнесла:
– А-а, здравствуйте, добро пожаловать! Проходите, присаживайтесь…
Я остановился в растерянности, Зарик перестала читать, и все трое молча уставились на меня.
– Небось твой пастух думает, собака стадо сбережет? – прервала молчание мать. – Ты что, теперь и по ночам гулять будешь?
Я попробовал оправдаться:
– В школе я был, в школе. Занимались мы.
– Не ври! – сказала Зарик. – И не стыдно тебе?
Ясно, дома что-то произошло: я не в первый раз приходил поздно, но раньше меня не встречали так.
– А тебе-то что? – набросился я на Зарик.
– Молчи! – неожиданно сурово сказал отец. Его голос никогда не звучал так резко. – Где был? – понизив голос, спросил он.
Я опустил голову, я не мог обманывать отца.
– В кино ходил…
– Так бы и говорил. Ну-ка покажи билет.
– Билета нет.
– Нет? Конечно, нет! Да разве у тебя что-нибудь есть?
– Ну что я такого сделал? – со слезами в голосе сказал я.
– А что ты еще мог сделать? – вмешалась мать. – Вот учительница твоя приходила только что…
Я обо всем догадался, а мать, уже не сдерживаясь, обрушилась на меня:
– И не стыдно тебе! Отец хворый, а целый день трудится, от себя урывает, чтобы сыну всего хватало: и книг, и тетрадей, и карандашей. Слава тебе, господи, одет, обут…
Я невольно оглядел себя, увидел грубые, тяжелые башмаки, давно потерявшие прежний коричневый цвет, залатанные на коленях брюки и выгоревшую блузу, которые защищали от холода еще моего отца, и убедился, что у меня действительно есть все.
А мать все распалялась!
– Другие дети и голодные и холодные, а учатся. Вон сын Осанны – мать целый день стирает на других, воду таскает, а погляди, как сын старается, не надивишься…
Мать имела в виду Мелика из четвертого класса, которого я и Чко прозвали «балда Мелик», но который, по словам всех, хорошо учился.
– И что из тебя получится? Учительница говорит, ты еще ни разу не отвечал как следует… Весь день ты и твой дружок только и знаете, что других задирать.
– Что еще за дружок? – спросил отец.
Я ответил.
– Чко? Ну ладно, я завтра же его проучу как следует.
И как это мой отец собирался «проучить» Чко?
Конечно, об этом не стоило беспокоиться, но вот что меня удивило: товарищ Шахнабатян была у нас дома и разговаривала с родителями.
– Такая видная собой, приличная женщина, да разве такую можно обижать! – мало-помалу отходила мать.
Я перешел в наступление:
– «Видная, приличная»! Как бы не так! А с нами небось и разговаривать не хочет!
Отец снова прикрикнул:
– Да замолчи ты!
Мать еще долго причитала:
– Ох, судьба наша горькая! И в кого ты такой уродился…
Я сел на постель и стал раздеваться.
С неожиданной нежностью мать вдруг спросила:
– Дать тебе поесть?..
– Нет, – отказался я, хотя с обеда и крошки в рот не брал, бегал весь день и ужасно проголодался.
Когда я лег, все понемногу утихли.
Зарик кончила учить уроки, мать расстелила постели, затем нерешительно подошла к выключателю и с опаской нажала на кнопку.
С этой минуты начались мои мучения. С одной стороны, этот визит товарища Шахнабатян, ее разговор с родителями, подробности которого я не знал, но последствия которого, я предвидел, еще скажутся. С другой – эти злополучные часы… Я долго лежал в темноте с открытыми глазами и думал. Хватился вдруг, что утром часы не просто будет достать: женщины во дворе – моя мать, сестрица Вергуш, Мариам-баджи – вставали рано, с петухами. Так когда же нужно проснуться мне, чтобы незаметно пробраться к амбару? Не бойся я разбудить наших, хоть сейчас пошел бы… Решил не спать до рассвета. И мигом уснул.
Утром Зарик с трудом меня добудилась:
– Рач, Рач…
– Ну что?
– Вставай, в школу опоздаешь!
– Чего?
– Рач, ну вставай же!
Я открыл глаза. Наши все уже были на ногах. Я вспомнил про часы. Быстро умылся, выпил чай, собрал книги и выскочил из дому. Проходя мимо амбара, я опустил голову, не решаясь даже взглянуть на ту щель.
Во дворе школы меня поджидал Чко. По его виду я понял, что и ему плохо спалось.
– Ну? – спросил он сразу.
– Что?
– Принес?
– Откуда! – вздохнул я. – Только что проснулся, а во дворе уже полно народу.
Прозвенел звонок, пошли в класс. Но мы были неспокойны, без конца перешептывались, так что с первого же урока товарищ Шахнабатян выставила нас за дверь:
– Вон, бездельники!
Схватив книжки, мы побежали на речку. Было уже холодно. Мы сели на прибрежные камни, разулись и свесили ноги в воду. Чко сказал:
– Что будем делать?
– Откуда я знаю!
– Лучше бы мы их не брали.
– Почему?
– А на что они нам?
– Золотые ведь.
– Ну и что? Ты ведь не вор, чтобы краденое продавать.
Все теперь предстало мне в ином свете: слова «вор», «краденое» наполнили Меня ужасом.
– Чко, – сказал я, – знаешь, давай отнесем их в милицию.
– Это ты здорово придумал! – обрадовался Чко; но вдруг он сник. – Нет, нельзя.
– Почему?
– А если тот длинный узнает, знаешь, что нам будет?
Чко говорил так уверенно, что я сразу согласился. Нам и в голову не пришло, как «тот длинный», то есть вор, может узнать, что это мы сдали часы в милицию.
– Тогда отнесем, положим на место, – предложил я.
– Вот это верно! – вновь обрадовался Чко. – Черт с ними, пускай там и лежат.
Самый сложный вопрос был разрешен, мы успокоились. Достаточно дождаться вечера, тайком достать из щели часы, положить их снова в водосточную трубу, и мы избавимся от этих непрошеных забот.
Когда вопрос с часами был решен, Чко предложил залезть в сад «Гидростроя», поесть винограду.
– А если сторож поймает? – спросил я.
– Не поймает.
– А если?..
– Ну чего пристал! – разозлился Чко. – Увидит – удерем.
Отправились. По дороге я рассказал, что товарищ Шахнабатян вечером приходила к нам.
– Вай! – удивился Чко. – Она ведь и у нас была…
– Ну и что?
– А то, – замялся Чко, – что брат побил меня, а отец сказал, что возьмет из школы и отправит в Тифлис, к своей сестре…
– Да ну?.. – испугался я.
– Да не пошлет, – успокоил Чко, – он всегда так грозится.
Но мы и не подозревали, что на этот раз его отец сдержит слово.








