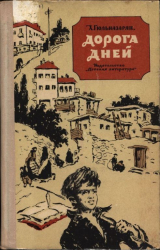
Текст книги "Дорога дней"
Автор книги: Хажак Гюльназарян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
ОДИН
Только после отъезда Чко я понял, как много потерял. Целый день бродил как потерянный, не находил себе места, все валилось из рук. Люди по-прежнему отправлялись по утрам на рынок, на работу, у каждого были свои заботы. Ребята играли на улице, дрались и мирились и потом получали дома нахлобучку. Лишь у меня одного не было никакого желания подраться или поиграть с кем-нибудь. Попытки Мко и его сверстников сблизиться со мной я презрительно отверг, а Погос и Амо по горло были заняты своими делами и заботами. Мое теперешнее положение мать определила так: «Козлу козел дороже стада баранов».
Но дело было не только в «козле». И в школе мои дела обстояли из рук вон плохо. История с часами не забывалась. Правда, старшие нам поверили, но ученики тем не менее видели в ней что-то подозрительное, а у меня не было ни настроения, ни возможности убеждать каждого в отдельности.
После того как товарищ Шахнабатян поставила перед педагогическим советом вопрос о нашем исключении и, несмотря на все свои старания, не достигла цели, наши с ней отношения значительно изменились.
Без Чко и тем более после того случая я уже не решался проказничать на уроках Шахнабатян. Она, по-видимому, заметила это, но мое невольное смирение не смягчило ее; напротив, время от времени в ее глазах я видел злорадную улыбку победительницы.
В шутках и нападках на жалкого Асатура я теперь не принимал участия, а товарищ Шахнабатян больше не выгоняла меня из класса, но и не вызывала к доске, не спрашивала уроков, даже когда я поднимал руку.
Случай с часами имел одно хорошее последствие. Я рассказал одноклассникам, как товарищ Папаян защищал нас с Чко, и это возымело свое действие: на уроках Папаяна стало спокойнее, а когда Геворк как следует всыпал одному мальчишке, который попробовал запеть ту глупую песенку, уроки Папаяна стали даже интересными. Мы открыли, что Папаян может не только обучать песням, но и знает очень много интересного. На переменах мы обступали его послушать удивительные истории.
Папаян организовал у нас в классе музыкальный кружок, и тут выяснилось, что у Геворка хороший голос, а во мне открыли талант барабанщика. И мне поручили бить в барабан во время школьных торжеств. Мать радовалась моим успехам, отец почему-то качал головой:
– Ну-ну! Человек из тебя не вышел, зато скоморох получится…
Вот как обстояли дела, когда в конце осени я получил первое письмо от Чко:
Шлю сердечный привет.
Здравствуй, Рач-джан. Рач-джан, меня приняли в школу. Рач-джан, наша школа почти рядом с домом. У нас большой двор, здесь живет много ребят – армян и грузин. Рач-джан, наш квартал называется Авлаба́р. Наша школа очень хорошая. У нас только один учитель, товарищ Бабаян, он очень хороший. Рач-джан, у меня хорошие товарищи Мисак и Самсо́н. Они хорошие ребята. Только, Рач-джан, очень я соскучился по нашему дому и по тебе. Рач-джан, передай приветы Логосу и Амо. Большие приветы твоему отцу, маме, Зарик, Мариам-баджи, товарищу Сурену, Каринэ и семье дяди Газара. Рач-джан, напиши мне письмо, что нового в нашей школе, передай приветы всем ребятам и еще товарищу Папаяну. Рач-джан, больше не о чем писать.
Твой Левон.
Трудно передать, какое впечатление произвело на меня это письмо. Я ожидал его с нетерпением, но, когда получил и прочел, очень опечалился.
«…у меня хорошие товарищи Мисак и Самсон. Они хорошие ребята». Я перечел это письмо несколько раз. А еще – письмо Чко было уж очень «культурное», совсем без ошибок, будто и не Чко его писал. Я вспомнил слова отца о больших городах и о том, что там можно «стать человеком». И я подумал, что Чко, наверно, уже стал «человеком». А я?.. Кто я?.. И что из меня получится? Конечно, в лучшем случае скоморох.
На душе у меня было тяжело, да и дома дела обстояли не лучше. С первыми же холодами отец мой снова простыл и слег, на сей раз, кажется, надолго. И до болезни дела отца шли не блестяще: новая мастерская, разместившаяся в здании нашей старой школы, она же «фабрика», очень мешала делам отца. На этой «фабрике» был специальный цех, где обувь чинили и лучше и дешевле. Только близкие соседи – Мариам-баджи, Газар и другие – приносили чинить отцу свои старые башмаки. Сколько же пар обуви должен был истрепать Газар, чтобы наша семья из четырех человек могла прокормиться? А когда отец заболел, Доходы наши совсем иссякли.
– Зима на носу, а дома ни полена, ни щепочки! – горестно вздыхала мать.
В эти дни я часто видел ее с покрасневшими глазами.
Накануне январских каникул, когда выяснилось, что, кроме пения, по всем остальным предметам у меня одни «неуды», как-то сам собой решился вопрос о моем уходе из школы.
– Эх, – вздохнул отец, – что попусту толковать, если в нем самом нет тяги к учению?..
Упреки отца и соседей на меня не действовали, и я мало-помалу пришел к выводу, что «учеба не моего ума дело».
– Ну, раз ученый из него не получился, пусть хоть ремеслу научится – и дому подмога будет, – осторожно завела разговор мать.
Отец долго молчал, и матери показалось, что он заснул.
– Месроп, а Месроп…
– Вечером сходи позови Адама, – мрачно сказал отец.
Но я жестянщиком не стал. Как некогда Погоса, так теперь и меня товарищ Сурен определил в механическую мастерскую.
С этого дня все стали шутливо именовать меня «рабочим классом».
А на письмо Чко я не ответил. Наверно обидевшись, и он перестал писать.
Теперь я действительно остался один.
В МАСТЕРСКОЙ
В конце декабря сразу навалило много снега. Отец все болел, а дома совсем не было дров. Однажды, когда я и товарищ Сурен шли в мастерскую мимо Кантара, Сурен остановил груженную дровами телегу:
– Что, дед, продаешь дрова?
– Продаю, – ответил возница.
– Сколько просишь?
– Один туман.
– Идет. – И товарищ Сурен достал из кармана новенькую хрустящую десятку.
Возница, довольный, взял деньги и спросил:
– Куда везти?
– Рач, – сказал товарищ Сурен, – сядь с ним, покажи, куда ехать. Выгрузишь во дворе, вечером придем распилим.
Обрадованный, я взобрался на телегу, а товарищ Сурен добавил:
– А сумеешь, и печку приладь.
Спустя два часа я уже установил печь, вывел трубу за окно, а Газар и уста Торгом, не дожидаясь Сурена, стали колоть дрова и складывать в сарае.
– Да хранит тебя бог. Сурен-джан! – растроганно благословляла моя мать.
А отец беспомощно улыбался:
– Не перевелись, видать, добрые люди на свете!..
Закончив дела, я побежал в мастерскую.
Я ходил туда уже несколько дней. Мои учебники и тетради, перевязанные резинкой, пылились на полке в стенном шкафу, а на ладонях затвердели первые мозоли.
Нелегко мне было в мастерской. Я делал что придется, что прикажут старшие: бегал за куревом, подтаскивал к стенкам тяжелые металлические стержни, подметал мастерскую.
На работе ко мне относились очень тепло; наверно, потому, что я был самый маленький.
В первый день Сурен повел меня в глубь мастерской, где, склонившись над токарным станком, работал какой-то человек. Я не видел его лица, разглядел только концы необычайно длинных усов.
В мастерской стоял такой грохот, что Сурену пришлось кричать:
– Мастер Амазасп, эй! Мастер Амазасп!..
Человек поднял голову.
– Привел вот, – положив руку мне на плечо, прокричал товарищ Сурен.
Амазасп хмуро взглянул на меня из-под густых бровей и кивнул головой.
– Мастер тебе скажет, что делать. – И товарищ Сурен поспешил в другой конец мастерской, к своему станку.
Но мастер, словно позабыв обо мне, молча работал. Шкив на его станке быстро вращался, и такой же шкив вращался на металлическом стержне над станком, а широкий ремень, соединяющий два колеса, стремительно скользил, хлопая над моим ухом: чоп, чоп, чоп…
Захваченный, я не спускал глаз с вертящейся оси, на которой, сбрасывая вьющиеся серебряные стружки, поблескивал металлический брусок.
В мастерской было три таких станка. Тут и там, словно задрав носы, шумели какие-то машины, а в углу, широко разевая жаркую пасть, дышал горн. Все ушли с головой в работу, и особенно старались три кузнеца. Они вытаскивали из огня раскаленный металл, бросали его на наковальню и с удивительной ловкостью по очереди били тяжелыми молотами.
Пока я стоял, всецело поглощенный работой кузнецов, станок мастера Амазаспа вдруг остановился. Мастер взял уже обточенную цилиндрическую деталь и, вытирая пот с лысины, сказал:
– Возьми-ка тот веник, убери мусор…
Это были первые слова, которые я услышал от него, и так началась моя работа в мастерской.
Мастер мне сразу не понравился. Не понравилась мне и мастерская, все эти машины, станки и бесконечный грохот, от которого, казалось, можно было сойти с ума. Я вспомнил светлые, чистые классы школы и сравнил с этой мастерской, пышущей жаром и дымом. Припомнил товарища Папаяна, даже позабыв о существовании товарища Шахнабатян…
К горлу подкатил комок, и я, глотая слезы, стал убирать стружку, складывать в специальный ящик выточенные моим мастером детали, назначение которых мне не было известно.
С непривычки заломило спину, разболелись руки, закружилась голова. Казалось, что я сейчас упаду и заплачу, как маленький, в присутствии этих незнакомых, неласковых людей. Но вот раздался гудок, похожий на паровозный, кто-то громко крикнул:
– Шабаш!..
В то же мгновение прекратился страшный грохот, станки, машины остановились, и только горн все еще дышал жаром.
В обеденный перерыв все расположились под стеной на камнях, назначение которых до того я не знал.
– Пошли! – приказал мастер Амазасп и направился к большому камню, над которым со стены свисал узелок.
Он развязал узелок, там оказалось несколько вареных яиц, бутылка молока и завернутый в платок лаваш. Он расстелил платок на камне, разложил еду и, присев на краешек, сказал:
– Присаживайся.
Потом очистил яйцо, посолил, завернул в лаваш и протянул мне:
– На́.
Постеснявшись, я отказался.
– Да бери же, – сказал он сердито.
Я взял.
И вдруг он улыбнулся:
– Университет, говоришь, кончил?
Я не понял его вопроса, но он улыбнулся так неожиданно, что от смущения я перестал жевать.
Когда подошел товарищ Сурен, мастер уже поучал меня:
– Эх ты, дуралей! Раньше бы с тебя тут семь шкур спустили… И как ты сквозь землю не провалишься?.. На себя погляди – в твои годы целый дом был на моих плечах…
– Ну что я такого сделал, мастер?
– А то вот, что не учился как следует. Трудно было, что ли?.. В наше время мы об учебе и не мечтали. Ну и времена! У кого плов, а у кого ложка…
Он говорил громко, чтобы все слышали, но странно: чем больше он упрекал меня, или, как сказал бы отец, «срамил на весь свет», тем легче становилось на душе, и я даже стал улыбаться.
– Он еще смеется! – накинулся мастер Амазасп, протягивая мне бутылку с молоком. – Дуракам и тут делать нечего. Гляди, что не так сделаешь, уши надеру.
Но напрасно напускал он на себя суровость: я уже догадался, что, несмотря на длинные усы и хмурый взгляд, мастер мой был не из тех, кто дерет уши.
НОВЫЙ ГОД
Как скоро забываются все беды и неприятности!
Накануне Нового года дела нашей семьи обстояли благополучней: отец поправился и хотя не выходил еще из дому, но чувствовал себя хорошо. Товарищ Сурен все-таки убедил его поступить на «фабрику». Мать на радостях упрятала подальше в сарай инструменты и стульчик отца. В комнате стало просторнее, чище и даже, как мне показалось, красивее.
В тот день я принес домой первую получку. Честно говоря, не полагалось, но мне выплатили за месяц вперед, так как приближался Новый год.
Я получил, как говорила моя мать, «большие деньги» – тринадцать рублей пятьдесят пять копеек. Когда я положил деньги на краешек тахты перед отцом, он удивленно поднял на меня глаза:
– Что это?
– Моя зарплата.
– Вай, умереть мне за тебя! – воскликнула мать.
Отец тут же послал с Зарик десять рублей товарищу Сурену за дрова:
– Долг платежом красен.
Три рубля он бережно сложил и спрятал в старенький кожаный кошелек, а мелочь протянул мне:
– На́, купишь себе что-нибудь.
Итак, у меня появились деньги на карманные расходы, целых пятьдесят пять копеек.
Вечером мать достала из сундука сушеные фрукты, поставила на стол вареную форель, хлеб, бутылку вина, которую в этот день прислала сестра отца. Вся наша семья уселась за стол.
Тик-так, тик-так! – вели счет минутам стенные часы.
Через несколько минут Новый год.
Отец дрожащей рукой наполнил стаканы. Когда стрелки часов встретились на цифре «двенадцать», мы подняли стаканы с вином.
– Дай нам бог счастливого года! – сказал отец.
– Аминь! – прошептала мать.
– Зарик, Рач, за ваше здоровье, детки! – взволнованный, продолжал отец. – Держитесь. Трудные времена нынче, и люди… я их никак не пойму…
Выпили. Потом родители поцеловались и поцеловали меня и Зарик. Мне вдруг страшно захотелось петь, и я хрипло затянул:
Смело, товарищи, в ногу…
– Вардуш, стели-ка постель – ребенку вино в голову ударило.
Я и впрямь захмелел от первого в жизни стакана вина.
Уснул, и мне казалось, что во сне слышу ласковый шепот матери:
– Сыночек мой, умереть мне за тебя!..
Когда открыл глаза, мать стояла рядом и поторапливала:
– Вставай, вставай, вот-вот соседи придут поздравлять отца с Новым годом. Да и сам сходи поздравь их.
Я вскочил, быстренько умылся, надел лучшее, что у меня было, – башмаки, которые вчера начистил до блеска, и вышел.
Сперва заглянул к Газару. Там словно дожидались меня.
– Привет, здорово, рабочий класс джан! – сказал Газар и, хоть я считал себя уже взрослым, схватил меня под мышки, поднял и поцеловал в лоб.
– Береги родителей, расти большой, – благословила меня сестрица Вергуш.
На столе были сухие фрукты и всякая снедь. А Газар вынул из комода пузатый графин, наполненный какой-то желтоватой жидкостью.
– Сядь, выпьем по рюмочке водки.
Я ужаснулся, вспомнив вчерашнее вино.
– Нет, нет, – поспешно отказался я.
Газар засмеялся:
– И просить будешь – не дам, мал еще!
Сестрица Вергуш набила мои карманы конфетами и сухими фруктами. Я поблагодарил и вышел. Пошел к товарищу Сурену. Он тоже был уже на ногах. В его комнате было не так чисто, как у нас или у Газара. На столе – ни еды, ни вина, только в стакане стояли две большие белые розы, настоящие розы, свежие и ароматные, и это среди зимы!
Сидя за столом, Сурен переписывал что-то из книги. Когда я вошел и поздоровался, он поднял голову:
– А-а, пришел, Рач-джан? Здравствуй, с Новым годом тебя.
Он встал, обнял меня, расцеловал.
– Садись, – и придвинул мне табурет.
Я сел. Взгляд мой упал на книгу, там было много разных значков, цифр и какой-то странный чертеж.
– Ну, что ты там увидел? – сказал товарищ Сурен.
– Что это? – спросил я заинтересованно.
– Ишь ты! Хочешь знать?
– Ну, если нельзя, извини, – ответил я обиженно.
Он засмеялся:
– Обиделся? Можно, Рач-джан, пожалуйста. – И передал мне книгу. – На́.
Я полистал книгу, ничего не понял, только на обложке крупными буквами было написано: «Практическое машиноведение».
Я долго разглядывал чертежи, а товарищ Сурен как-то приуныл.
– Помешал я, пойду.
– Погоди, – сказал он мягко и, будто разговаривая сам с собой, добавил: – Не получается проклятая!
– Что?
– Задача вот не получается, Рач-джан, образования не хватает. Тысячу вещей нужно знать. – Потом неожиданно серьезно: – А ты школу бросил, дуралей!
Я удивился: товарищ Сурен никогда так не разговаривал со мной.
– Есть много разных вещей, которые не сделаешь по одному глазомеру, надо все знать, уметь, рассчитать…
Я позабыл, что сегодня Новый год, что нужно пойти поздравить всех соседей, я сидел и слушал.
– Детство мое было не таким, как у тебя. Родители умерли, я попал в приют, там научился читать и писать. Потом началась Октябрьская революция. Мне было шестнадцать лет, когда я ушел в подполье. В двадцатом году, в мае, мы подняли восстание против дашнаков. Голод, фронт, тиф… Время учебы пролетело… Теперь у вас трудновато дома, но ты учись… – Он вдруг рассердился: – Я устроил тебя в мастерскую, я и выгоню – иди учись.
Я не знал, что отвечать.
– Конечно, обязательно, – обещал я.
А он, словно не удовлетворившись моими обещаниями, все повторял: «Выгоню… в школу…»
Я взволнованно стал прощаться, но он взял меня за руку и сказал изменившимся голосом:
– Рач…
– Ну?
– У меня к тебе просьба. Выполнишь?
– Вай, товарищ Сурен!
– Знаю, знаю, что выполнишь, – прошептал он, – да и нетрудно это, только самому мне неудобно.
Он протянул руку к стакану и взял розы.
– Знакомый парень дал, тепличные. Отнеси эти розы Мариам-баджи, скажи, что Сурен прислал.
Я никогда не видал Сурена таким… нежным. Глаза его блестели из-под опаленных бровей, он старался не задеть загрубевшими пальцами лепестков, чтоб они вдруг не осыпались…
– Кому отдать? – переспросил я.
– Кому хочешь: или Мариам-баджи, или…
Он не назвал имени Каринэ, и поэтому я догадался: он хочет, чтоб эти розы я отдал именно ей.
– Будет сделано, – сказал я, осторожно взял розы и, не знаю почему, почувствовал себя бесконечно счастливым: мне казалось, что я принимаю участие в каком-то таинственном, непонятном, но хорошем и добром деле.
Мариам-баджи чуть не задушила меня в объятиях. Она целовала меня, всматривалась мне в лицо и снова целовала. Я подошел к Каринэ и протянул ей цветы.
– Что это? – удивилась она.
– Розы, – ответил я, улыбаясь, и почему-то добавил громким голосом: – Товарищ Сурен прислал, сказал – обязательно отдай Каринэ.
Я никак не ожидал, что мои слова произведут такое впечатление. Каринэ смутилась, зарделась и выбежала из комнаты, и Мариам-баджи, как-то странно улыбаясь, взяла у меня цветы, поставила их в воду и, угостив пахлавой, снова поцеловала меня и шепнула:
– Скажи ему, Каринэ говорит: «Большое спасибо».
К вечеру я уже обошел всех знакомых. Мне подарили столько фруктов, конфет и печенья, что, казалось, их хватит на целый год.
Самые вкусные сладости, самые вкусные печенья потеряли для меня всю прелесть, дневные впечатления потускнели, и в памяти сохранились, как сладкий сон, только те две белые розы и шепот Мариам-баджи: «Скажи ему, Каринэ говорит: «Большое спасибо»…»
Взаимные поздравления уже закончились, все разошлись по своим домам, и мы, собравшись вокруг железной печки, коротали свой первый вечер в счастливом новом году. Вдруг к нам постучались.
– Кто это? – удивился отец.
– Разрешите? – послышалось за дверью.
– Войдите, – недоуменно произнес отец.
А мать подошла к двери.
Дверь отворилась, и на пороге показался… товарищ Папаян.
Что и говорить, мы его не ждали. Он и сам это прекрасно знал и потому поздоровался так, словно просил извинения.
Мать захлопотала. У нас никогда не бывало таких гостей, если не считать товарища Шахнабатян и того доктора, который приходил смотреть меня после «прыжка с парашютом».
Гостю предложили сесть. Прежде чем сесть, он поискал глазами, куда бы положить шляпу. Наконец повесил ее на гвоздь. Затем по очереди поздравил всех с Новым годом, пожав каждому руку. Сел, отодвинул от себя стакан с вином, который отец неуверенно поставил перед ним.
– Простите, я не пью спиртного, лучше чаю.
Было заметно, что ему как-то неловко, он то и дело снимал очки, протирал их и снова надевал. От этого его глаза то необыкновенно увеличивались, то вдруг уменьшались.
– Товарищ Данелян, – наконец обратился Папаян к отцу, – перед каникулами Рач несколько дней не ходил в школу.
– Да, – вздохнул отец.
– Почему же?
– Увидели, что ничего путного из него не получится, и взяли из школы. – Отец понизил голос. – Да и как вам сказать… Я вот уже месяц хвораю, жить не на что…
Товарищ Папаян просидел у нас больше часу. Чтобы не обидеть мать, он выпил три стакана чаю с тыквенным вареньем и постепенно, почувствовав себя свободнее, разговорился о «ребенке», то есть обо мне.
И странно, он не разделял мнения, что я лишен способностей, напротив.
– Знаете, – говорил он, – мне кажется, что ваш сын очень живой, умный, понятливый и тонко чувствующий ребенок… Вот что я вам скажу: если необходимо, пусть работает. Но по вечерам ведь он свободен?.. Свободен, Рач, правда?
– Свободен, – ответил я.
– Пусть завтра же вечером зайдет ко мне, – продолжал учитель, – побеседуем. Согласен, Рачик?
Я растерялся.
– Так я же не знаю, где вы живете!
Он опять улыбнулся:
– Я объясню тебе. Знаешь, где живет товарищ Шахнабатян?
– Знаю.
– Рядом с ее домом. Тоже двухэтажный. Понял?
– Понял.
– Войдешь во двор, поднимешься на второй этаж… Когда сможешь прийти? Хочешь, буду ждать тебя в семь часов?
Я пообещал. Он встал, взял шляпу и попрощался. Никто из нас так и не понял, зачем он приходил.
– Осрамились, – сказала мать после его ухода, – и угостить-то нечем было.
А отец улыбнулся:
– Такого хорошего человека как ни потчуй, все равно мало.








