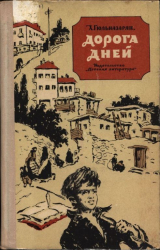
Текст книги "Дорога дней"
Автор книги: Хажак Гюльназарян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)

Х.Гюльназарян
ДОРОГА ДНЕЙ
РОМАН
Хажа́к Гюльназарян – армянский писатель. Родился он в 1918 году в селении близ Еревана в крестьянской семье. В 1941 году окончил филологический факультет Ереванского университета. В Великую Отечественную войну был на фронте. В 1938 году вышла первая его детская книга «Смерть злого Сокола». В дальнейшем Гюльназарян написал много рассказов для детей. На русском языке несколько раз издавалась книга рассказов «Хорошие путешественники». «Дорога дней» – это повесть из жизни поколения, рожденного в первые годы революции, детство которого совпало с периодом становления Советской власти в Армении. Нелегкой была борьба с пережитками прошлого. Сложным оказался и жизненный путь героя повести, музыкально одаренного, очень трудолюбивого и умного подростка Рача Данеляна.
ПИСЬМО АВТОРА К ПЕРВОМУ ЧИТАТЕЛЮ
Дорогой Ара, мой юный друг!
Помню, несколько лет назад, тогда ты был совсем маленьким, Мы встретились в Разданском ущелье, на станции детской железной дороги. И что греха таить, ты плакал. Оказалось, тебе очень хотелось покататься по детской железной дороге, но, перепутав расписание, ты опоздал, и поезд ушел без тебя, а следующего надо было ждать целый час. Я подошел к тебе. Мы скоро подружились. Я сказал, что твой самокат лучший из всех виденных мною, и ты повеселел.
Потом мы катались на самокате, вернее, катался ты, а я смотрел. Потом уселись на берегу реки, свесив ноги в воду, и стали дожидаться поезда. Ты больше не плакал, весело болтал, рассказывал, что скоро пойдешь в школу.
Потом… Потом ты спросил, ездил ли я много-много лет назад, когда был совсем маленький, в пионерский лагерь, катался ли по детской железной дороге, участвовал ли в состязаниях юных велосипедистов…
И еще о многом ты спрашивал. Я не смог ответить тебе на все вопросы, я был взволнован, потому что вспомнил свое детство. К тому же вскоре подошел поезд, и нам пришлось расстаться. Ты поднял самокат, вошел в вагон, я остался на перроне, а потом отправился домой.
Но с того дня мне не давали покоя твои вопросы. Потому я и решил написать эту книгу: рассказать тебе и твоим товарищам о том, как жили я и мои сверстники, когда нам было столько лет, сколько сейчас тебе и твоим друзьям.
Наше детство не было похоже на ваше.
Ты знаешь, что Октябрьская революция свершилась в 1917 году.
В Армении Советская власть утвердилась значительно позже, только в ноябре 1920 года.
Тогда мне было два года. Через пять лет я пошел в школу, в первый класс.
Школа моя не была похожа на вашу, она была маленькая, очень маленькая. Да и Ереван наш в то время был не таким, как сейчас, – небольшой, захолустный, с глинобитными домишками, кривыми, каменистыми улочками… И родители наши жили еще трудно. В городе не было электричества, не говорю уж о том, каким мрачным и неприютным было Разданское ущелье, где построили теперь детскую железную дорогу.
Но я забегаю вперед. Ведь все равно в одном письме не рассказать тебе всего.
А в книге?.. В книге, дорогой Ара, я рассказываю о своем городе, который так вырос, так похорошел, рассказываю о людях, которых уже в те годы заботил вопрос воспитания нового поколения, о людях, которые трудились, которые строили… Многих из них уже нет, не дожили они до этих светлых дней, а мои товарищи… О них ты тоже прочтешь в книге.
Итак, начнем.

РАССВЕТ
НАШ КВАРТАЛ
Квартал наш известен был под названием «Караван-сара́й гюрджи»[1]1
Гюрджи́ – грузин (просторечное).
[Закрыть]. Задолго до моего рождения держал здесь постоялый двор грузин из Кахетии – Шалико́. Его уже давно не было в живых, даже сын керосинщика Пого́с и кривоносый Амо не помнили его, а ведь они были намного старше меня. И постоялого двора давно не было: на его месте стоял дом гончара Ова́ка. «Караван-сарай гюрджи» – только и осталось от Шалико.
Квартал наш был большой. В каждом дворе – десятка по два семей. Детвора, куры, тутовые деревья. Под деревьями – грядки с луком и эстрагоном. Куры склевывали зеленые побеги лука, дети сгоняли кур, вытаптывая молодую поросль, и грядок, собственно, не оставалось.
Весной на земляных крышах домов буйно разрасталась трава, в мае она становилась белесоватой от ромашки, да кое-где под ветром покачивали головками маки.
Летом весь квартал перебирался спать на крыши. Ставили там тахту или просто расстилали карпеты и паласы[2]2
Карпе́ты, пала́сы – домотканые ковры и дорожки.
[Закрыть] и забирались под марлевые пологи, спасаясь от комаров. Среди ночи нет-нет да слышалось с какой-нибудь крыши:
– Вай, скорпион, скорпион!
Ребенок кричал от боли, и женский голос сердито успокаивал:
– Чтоб тебе пусто было!..
Славился наш квартал и знаменитыми рядами жестянщиков. Весь день висел в воздухе оглушающий грохот. А люди, чтобы понять друг друга, вынуждены были кричать. За что и прозвал их парон[3]3
Паро́н(армянск.) – господин.
[Закрыть] Рапаэ́л, бывший учитель из Вана, «горланами». Мы же, дети, любили ходить к жестянщикам – там в обмен на пару яиц можно было получить гвоздь для юлы и другие нужные нам вещи.
Но жестянщики занимали только часть квартала. В противоположном конце находились: «контора» зурначей[4]4
Зурначи́ – человек, играющий на зурне (восточный духовой инструмент).
[Закрыть], цирюльня Симона, под названием «Жорж», и выстроившиеся в ряд лавки гробовщиков. А в одном из подвалов размещалась «Наргиле́» – прославленная кофейня черного Ару́та. Ходили туда из нашего и из соседнего кварталов. И какие люди! Бывший генерал Алагязов, виноторговец Пион, парон Рапаэл, отец Амбаку́м, которого за глаза величали «отец Остолоп». Словом, квартал был разделен на два лагеря. Жестянщики высмеивали всех остальных, называли их «мелкотой», те, в свою очередь, ругали жестянщиков «мужланами».
Страсти утихали лишь в праздники, когда соседи семьями ходили друг к другу в гости.
Но справедливости ради должен заметить, что кофейня черного Арута, цирюльня Симона и «контора» зурначей были как бы «средоточием мысли» для всех обитателей нашего квартала. Жестянщики и те после дневного грохота спешили туда. Играли в нарды[5]5
На́рды – восточная настольная игра.
[Закрыть] и в шашки; особенно много посетителей бывало в кофейне «Наргиле». Наш сосед Хаджи́ и несколько персов, потягивая кальян, толковали о том о сем – о нечестивом «инглизе»[6]6
Ингли́зы(искаженное) – англичане.
[Закрыть], о вестях из московских газет.
Еще славился наш квартал тонирами[7]7
Тони́р – особая печь в земле, в которой пекут лаваш и другой хлеб.
[Закрыть]. Едва ли не в каждом дворе был тонир. По утрам тянулся над дворами сизый дым, потом он рассеивался, и по всему кварталу разносился вкусный дух свежевыпеченного лаваша[8]8
Лава́ш – тонко раскатанный хлеб из кислого теста; очень распространен в Армении.
[Закрыть]. Лаваш успешно конкурировал с городскими булками. В доме у нас лаваш был редкостью, и я охотно менял свою булку на лаваш. Менял и, давясь, проглатывал, почти не прожевывая, куски вкусного хлеба. Мать при этом посмеивалась:
– Думаешь, в лаваш халва завернута?..
ДЕТСТВО НАЧАЛОСЬ
По пыльной улице быстро прокатил экипаж. Сын керосинщика Погос побежал за ним и, глотая густую пыль, повис сзади, а я, едва научившись говорить, закричал на всю улицу:
– Файтон-кнут! Файтон-кнут!..
Детство началось…
ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
Бульвар. Два старика уселись на скамью побеседовать.
Тощий молодой человек прошествовал по аллее с огромным, вспухшим портфелем. Узкоглазый китаец, торгующий искусственным жемчугом, на ломаном армянском языке уговаривал пышущую здоровьем крестьянку в широкой юбке:
– Это почти настоящий жемчуг, жизнью клянусь.
Какой-то человек вышел из ресторана. Он расстегнул на потной шее серую косоворотку и повелительно крикнул:
– Воды!..
– Холодная вода! Ключевая вода! – тут же запели десятки детских голосов.
– Врешь, у тебя вода теплая!
– У меня холодная! Не отбивай покупателя! – негодующе запыхтел самый маленький водонос, сгибаясь под тяжестью пузатого кувшина.
Его черные блестящие глаза были полны такой радости, решительности и одновременно такой мольбы, что, отстранив остальных, юноша обратился к нему:
– Наливай, малыш.
Водонос сполоснул стакан, вылил воду. На его босые, запыленные ноги брызнули капельки воды, и ноги вмиг словно покрылись веснушками.
Человек вытащил из кармана медную двухкопеечную монетку. Водонос, улыбаясь, протянул ему полный стакан:
– Пейте на здоровье, вы мой первый покупатель!
– Вот тебе покупатель! – послышалось сзади, и не успел малыш оглянуться, как на его штанишки и босые ноги полилась вода. На красный песок упали осколки красного кувшина.
– Ух, чтоб вы… – простонал сквозь слезы малыш.
А в другом конце аллеи уже снова звенело:
– Холодная вода! Ключевая вода…
…Как я ни крепился, все же домой пришел заплаканный. Мать, узнав о случившемся, стала проклинать злых детей, а отец оборвал ее и, обратившись ко мне, мягко сказал:
– Не беда, Рач, вырастешь – будешь работать, а пока, слава богу, проживем как-нибудь и без твоего заработка.
Он замолчал и медленно прошел в угол комнаты, где среди разбросанных инструментов и старой обуви стоял покрытый паласом табурет.
Несколько минут все мы молчали. Разгневанная мать с неимоверной быстротой вязала чулок; отец, опустив голову, латал туфлю. Мои слезы высохли. Вдруг отец приподнял голову. Он улыбался, его небритое лицо посветлело, в уголках рта подрагивали кончики седеющих усов, а глаза что-то обещали. Он поманил меня пальцем и тихо сказал:
– Этой осенью ты пойдешь в школу. Скоро я куплю тебе книги.
Я быстро поставил на полку стенного шкафа стакан, который все еще держал в руке, отдал матери свой первый заработок – медную двухкопеечную монету – и выскочил во двор рассказать товарищам, что осенью я пойду в школу.
БУКВАРЬ
Мои родители не были богаты. Отец часто болел, и мать все жаловалась соседке Мариа́м-баджи:
– Месро́п опять простыл!
Баджи, грустно покачав головой, приносила из дому какие-то сушеные травы:
– Вот, завари-ка это, напои его, пусть пропотеет.
И отец с утра до вечера пил липовый чай.
Заработка его едва хватало на жизнь. Мать говорила, что на Зари́к, мою сестру, которая была несколькими годами старше меня и уже ходила в школу, приходится тратить особенно много.
Но родители старались и меня не обидеть. Правда, мне редко покупали что-нибудь новое, штанишки и рубашки для меня переделывались из отцовского старья, но во всем квартале нашлось бы немного детей, одетых так же чисто. К тому же зимой я был всегда обут в «сапоги», как называл отец мои башмаки, им же перешитые из старых туфель.
Мое поступление в школу горячо обсуждалось в доме. Ведь с этим были связаны новые расходы.
– Книги нужны, одежонка нужна, – говорила мать.
Отец подходил к этому вопросу с особым пристрастием:
– Не бойся, жена. На худой конец подтянем пояс потуже.
Я смотрел на его узкую спину, вокруг которой дважды был обернут дедовский ремень, и думал, что туже его стянуть невозможно.
Отец купил мне сатиновую блузу, брюки и из совершенно новой кожи сшил чусты[9]9
Чу́сты – мягкие кожаные тапочки.
[Закрыть]. Все эти вещи лежали пока в сундуке, но я знал, что они мои, и с гордостью рассказывал о них товарищам.
Но самым лучшим подарком был букварь.
Однажды отец сказал мне:
– Пойдем.
И мы отправились с ним в книжный магазин. Отец шел так быстро, что я еле поспевал за ним. Я еще никогда не видел его таким бодрым.
В магазине он долго перебирал буквари. По-моему, все они были одинаковые, все хорошие, но отец почему-то терпеливо и тщательно изучал каждую книгу и, заметив на обложке или на странице букваря небольшой изъян, недовольно кривил лицо.
Наконец выбрал. Из внутреннего кармана пиджака вытащил старый кожаный бумажник и серебряными двугривенными отсчитал рубль.
– Дороговато, да уж ничего, – сказал он продавцу и, протянув мне книгу, добавил: – Бери, сынок…
Вечером я обернул букварь синей бумагой, чтобы не испачкать.
ПОСТУПИЛ В ШКОЛУ
Портфеля у меня не было, поэтому я крепко обвязал свой букварь, две тетради и бумагу для рисования красной резинкой от рогатки.
На мне было все новое, даже шапка – новенькая матросская бескозырка с двумя черными, с золотой каемкой ленточками, развевающимися над новой сатиновой рубахой. Но самыми непривычными и неудобными для меня были длинные чулки, которые начинались в новых чустах и кончались под короткими брюками, обхваченные круглыми резинками. У меня еще никогда не было таких чулок, да и Амо, Погос и другие мальчики их не носили. Летом мы ходили босые, а зимой надевали шерстяные вязаные чулки. А такие чулки из духана[10]10
Духа́н – лавка.
[Закрыть] носили только девочки. Говоря по правде, эти чулки мать купила для Зарик, но они были ей малы и потому перешли мне.
Каждую минуту мне казалось, что чулки вот-вот сползут вниз. Рука моя то и дело тянулась к круглым резинкам, и всю дорогу меня терзали мысль о предстоящем «экзамене» и чулки.
Отец шел с сияющим лицом. В этот день он особенно тщательно побрился, надел праздничную одежду, шляпу, которую сестра вычистила щеткой необыкновенно старательно, и подпоясался узким ремнем. Отец выпил для бодрости стаканчик водки и сейчас то и дело теребил ус правой рукой. Он молчал, часто оборачивался ко мне, будто затем, чтобы поправить ленточки бескозырки, но на самом деле своей жесткой, шершавой ладонью он поглаживал мне шею, и я понимал, что отец очень волнуется.
В школьном дворе было пусто. Отец искал глазами кого-то, растерянно и беспомощно оглядываясь. В это время из подвального этажа вышел старик.
– Багдаса́р? – крикнул отец и, потянув меня за руку, поспешил к нему.
Отец обрадовался ему, будто родному брату после долгой разлуки. Меня это очень удивило. Ведь Багдасар был наш сосед. Я часто видел, как они встречались на улице. Отец всегда здоровался с ним, слегка улыбаясь, а вечно сердитый Багдасар, по обыкновению, бурчал себе что-то под нос.
– Багдасар! Здравствуй, Багдасар! – радостно повторял отец, приближаясь к нему.
Багдасар, державший в объятиях какой-то большой пестрый мяч, вывалянный в чем-то белом, довольно холодно ответил на восторженное приветствие отца:
– Здравствуй. Щенки! И кто это закинул в мел этот «клопус»?
Отец вначале изумился, потом, сообразив, что «щенки» к нам не относится, деланно сочувствуя, покачал головой:
– Вай… Вай… Вай!
Затем, порешив, что достаточно посочувствовал, спросил:
– Братец Багдасар, куда мне вести ребенка?
– В школу поступать будет?
– Да.
– Веди наверх, заведующий там сидит.
По узкой деревянной лестнице мы поднялись на второй этаж. Из одной комнаты доносились голоса – вошли туда.
– Здравствуйте, – смущенно сказал отец.
А я тем временем постарался спрятаться за его длинными ногами.
В комнате за столом сидел пожилой мужчина с небольшой седеющей бородкой, а на длинной скамье у стены – две женщины.
– Здравствуйте, – улыбнулся мужчина, поднимаясь с места. – Подойдите ближе, пожалуйста.
Этот, как бы сказал отец, «приличный» мужчина так хорошо улыбался, что мы, набравшись смелости, подошли к столу. Мужчина не стал ждать, пока заговорит отец, и, подавая ему руку, сказал:
– Я заведующий школой, Смбатя́н. Сына в школу привели?
– Да, – ответил отец и слегка подтолкнул меня вперед.
– Хороший мальчик, – сказал заведующий и, обращаясь ко мне, спросил:
– Читать умеешь?
Я кивнул.
– Вот метрика, заявление и свидетельство о прививке. – Отец протянул документы заведующему.
– Это отдайте товарищу Сати́к, – ответил заведующий, указывая в угол комнаты.
И только тут мы заметили, что в комнате стоит еще один стол, а за столом сидит красивая девушка в зеленоватой блузе мужского покроя, со стрижеными волосами. Девушка быстро подошла к нам, взяла бумаги из рук отца. А заведующий открыл мой букварь и сказал:
– Ну, читай.
Я стал смотреть в книгу и затараторил почти наизусть:
– Идет урок… Вот гора…
– Молодец, – слегка похлопывая меня по плечу, сказал заведующий и обратился к секретарю: – Сатик, все в порядке?
– В порядке.
– Ну, поздравляю, – снова обернулся к нам заведующий. – Первого сентября придешь в школу.
Отец взволнованно поблагодарил, я быстро сложил книгу и тетради. Мы вышли из кабинета заведующего.
Отец впервые в жизни обнял меня:
– Молодец, сынок, лицом в грязь не ударил!..
В его седеющих усах поблескивала слеза. Потом несколько дней подряд он все рассказывал соседям, приносившим обувь на починку, как я при заведующем «без сучка без задоринки по книжке читал».
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ
Я решительно отказался носить чулки с резинками – ребята надо мной смеялись. К моему первому серьезному бунту члены нашего семейства отнеслись по-разному. У сестры моей, Зарик, которая училась в другой школе, и своих забот хватало – она гладила и приводила в порядок юнкомовскую форму и сатиновый красный галстук.
Отец в тот день опять хворал и, лежа на белоснежных подушках, пил, отдуваясь, липовый чай. С первого взгляда казалось, что он безучастен к домашней суете. И только мать сердилась:
– Не босиком же пойдешь, стыдно ведь!..
– Не хочу! Ну не хочу девчачьи чулки! – чуть не плача, отвечал я.
Пока мы разбирали этот злополучный чулочный вопрос, вошла Мариам-баджи.
– С добрым утром, – мягко сказала она.
– С добрым утром, баджи, – ответили старшие.
– Вардуш-джан, – обратилась к матери Мариам-баджи, – я скажу тебе что-то, только ты не обижайся: я вот для этого ребенка связала пару носков. – И она достала из-под фартука пестрые бумажные носки.
Родители мои не знали, что сказать. Произошла легкая заминка. Я это чувствовал, но носки в руках баджи, как магнит, притягивали меня.
Баджи осталась у нас пить чай. Я видел, как мать вынула из стенного шкафа заветное варенье из тыквы, но в ту минуту даже варенье не могло меня соблазнить. Я поспешно надел носки и чусты, взял связку книг и выскочил из дому. Во дворе сын керосинщика Погос уже поджидал меня. Он учился в четвертом классе нашей школы.
Мы пустились в путь. Я волновался, а Погос шагал, насвистывая.
– Боишься? – спросил он.
– Немного.
– Не бойся. Если кто тебя хоть пальцем тронет, скажи мне.
Я так и не сумел объяснить Погосу, что не драки боюсь. Я и сам не понимал, отчего это сердце у меня так колотится.
Дошли до школы.
Во дворе собралось несметное количество мальчиков и девочек. Некоторых из них я знал, они жили по соседству. Но знакомых было мало.
– Погос! Здравствуй, Погос! – закричали несколько ребят и окружили нас.
Наскоро поздоровавшись, Погос принялся расспрашивать:
– Кто классрук? У нас какой четвертый – «А» или «Б»?
Я крепко ухватился за ремень Погоса. Высокий парень, заметив это, спросил у него:
– А это что за хвост?
– Брат, – отрезал Погос.
И я преисполнился глубочайшей благодарности к нему.
– А-а, – тут же переменил тон парень, – первый раз, значит, в школу. Ну-ну…
Что означало это «ну-ну», я хорошенько не понял. В это время всех новичков позвали в угол двора.
– Я ваша классная руководительница, вы меня будете называть «товарищ Амалия», – собрав нас вокруг себя, сказала молодая женщина.
Она улыбалась, и, глядя на нее, я осмелел и тоже улыбнулся.
– Сейчас прозвенит звонок, и мы пойдем с вами в класс. А пока постройтесь парами по росту.
Некоторые малыши пришли с мамами. Теперь мамы отошли в сторонку, а мы стали строиться. Выяснилось, что я один из самых маленьких. Потому-то я и оказался в хвосте колонны, в паре с таким же коротышкой.
– Меня зовут Лево́н, – зашептал мальчик.
– А меня Рач, – сказал я.
Потом я узнал прозвище этого мальчика – Чко.
Прозвенел звонок. Колонной мы поднялись по деревянной лестнице и вошли в одну из светлых комнат второго этажа. Товарищ Амалия рассадила нас по местам. Меня и Чко, как самых маленьких, она усадила в первом ряду, перед своим столом.
В этот день товарищ Амалия знакомилась с нами. По большой книге, которая называлась «журналом», она прочла наши имена и фамилии, спросила, кто где живет, какие у нас есть книги, письменные принадлежности и разное другое.
Потом спрашивала, кто кем собирается стать.
Один хотел быть инженером, другой кузнецом. Чко решил стать машинистом. А я часто слышал от отца: «Сын у меня пойдет в учителя».
– Ты кем будешь, малыш? – спросила товарищ Амалия.
– В учителя пойду, – краснея, ответил я.
– Учителем будешь, – поправила меня товарищ Амалия.
Несколько человек засмеялись. Я думал, на этом и кончится. Но на перемене выяснилось, что никто из товарищей не хочет звать меня по имени.
– Учитель, учитель! – кричали все в один голос.
ПАРОН РАПАЭЛ И ТОВАРИЩ СУРЕН
Никто не любил его, все его сторонились. Странным человеком казался мне отец маленькой Анни́к, бывший учитель из Вана, парон Рапаэл, и я боялся его. Весь наш двор вместе с палисадником и домами принадлежал ему. Кроме того, у Рапаэла на берегу Занги́, в Далме[11]11
Далма́ – район садов в старом Ереване.
[Закрыть] был свой большой сад, а на Кантаре[12]12
Канта́р – так назывался рынок в старом Ереване.
[Закрыть] – мануфактурный магазин, где, как говаривала моя мать, «разве что только птичьего молока не хватало».
Рапаэла мы видели не часто. В будни он возвращался из магазина поздно вечером. А в воскресные дни с утра одевался во все новое, подвязывал серебряный кушак, брал в руки янтарные четки и, поскрипывая длинноносыми туфлями, расхаживал по балкону. Иногда в эти дни к нему приезжали в фаэтонах какие-то люди. Жена Рапаэла, Грану́ш, накрывала на балконе стол, появлялись вареная и жареная зангинская рыба, шашлык из баранины, зелень в огромном количестве и домашнее вино в графинах из-под воды, а если гости были очень почетные, варилась и кюфта[13]13
Кюфта́ – армянское национальное блюдо.
[Закрыть]. Гости пили, ели, пели песни. Затем женщины уходили в комнаты, а мужчины играли на балконе в нарды и в карты. Дети, приехавшие с гостями, гуляли в палисаднике вместе с Анник, играли в мяч.
В это время парон Рапаэл обычно не спускал глаз со двора, чтобы «голь перекатная», то есть мы, не лезли к детям, приехавшим в гости. Но мы и не думали к ним лезть: ни во дворе, ни дома получать нахлобучку нам не хотелось. Мы шли на улицу или на церковный двор и тайком от звонаря Барсе́га и отца Остолопа играли в «классы» на церковных плитах. Но не знаю почему, в такие дни все мы бывали злы, чем-то недовольны. Играли мы, играли, и вдруг кто-нибудь говорил, ни к кому не обращаясь:
– Буржуйские щенки!..
И мы хорошо понимали, к кому относятся эти слова.
В воскресные дни, если гостей не бывало, Рапаэл обычно вызывал к себе кого-нибудь из жильцов и заводил разговор «о правилах и порядках», а чаще о квартирной плате.
– Я порядок люблю, – раздраженно бубнил он. – Еще покойный отец мой говаривал: «Подарки делай туманами, а долг отдавай копейка в копейку». Ты что же не платишь? Ведь на моих плечах и дом, и ребенок, да еще сироту содержу.
Любимую поговорку он приводил просто так, ради красного словца. Никто еще не помнил, чтобы Рапаэл кому-либо сделал подарок, если не считать того, что каждый год, когда обтрясали тутовое дерево, его жена Грануш посылала жильцам по блюдечку первых ягод. А сиротой была дочь сестры Рапаэла, красивая, болезненная на вид Каринэ́, которая, как говорила моя мать, «с утра и до вечера, словно юла, крутится по хозяйству».
– У нас дома разделение труда, – объясняла Грануш, – Каринэ управляется по хозяйству, Анник еще маленькая, а я занята садом.
И действительно, Грануш была по горло «занята» садом. Ежедневно она усаживалась в фаэтон и отправлялась с Анник в далминский сад. Дома оставалась Каринэ, которая приводила в порядок постели, убирала комнаты, ходила на рынок, готовила обед, подметала двор. Кроме того, Каринэ вменялось в обязанности следить за огородом. Часто я видел, как, закончив домашние дела, босая, в старенькой ситцевой юбке, она выпалывала траву, окучивала помидоры или поливала грядки.
Каждый день, отправляясь в магазин, Рапаэл наказывал Каринэ:
– Гляди, чтоб эти щенки не залезли в огород.
«Этими щенками» были мы, но Каринэ никогда не делала нам замечаний, и мы свободно разгуливали по огороду. Потом узнали, что из-за нас парон Рапаэл бьет Каринэ. С тех пор грядки для нас стали священными, и мы даже близко к ним не подходили. А сын керосинщика Погос просто сказал:
– Кого в грядках увижу – изобью.
Мой отец питал к парону Рапаэлу особое почтение.
– Порядочный человек, – убежденно твердил он и бесплатно чинил обувь всему рапаэловскому семейству.
– Ну, ты не очень-то… – возражал сосед наш, дголчи[14]14
Дголчи́ – играющий на дго́ле (национальный ударный инструмент).
[Закрыть] Газар.
– Как же так? Ведь вот когда я из деревни приехал, этот человек дал мне и дом и кров.
– Вижу я твой дом и кров, за этот курятник в месяц пять рублей платишь.
– Э-э, не говори, не говори! – вздыхал отец, покачивая головой.
Единственный, кто не боялся парона Рапаэла, был Суре́н, молодой рабочий из механической мастерской, которого все мы очень любили. Я догадывался даже, что сам Рапаэл побаивается его, хотя при встрече с Суреном он улыбался, протягивал ему руку. Никто не помнил, чтобы хоть раз парон Рапаэл завел с Суреном разговор «о правилах и порядках» или о квартирной плате.
– Мое почтение, товарищ Сурен! – кланялся Рапаэл.
– Здорово, торговец. Скольких сегодня надул?..
– Веселый ты человек, товарищ Сурен, веселый…
– Веселый-то веселый, Рапаэл, а знаешь, ведь рабкоопов все больше становится. Что дальше делать будешь?
– Хи-хи-хи! – деланно смеялся Рапаэл. – Ничего, как-нибудь проживем, – и торопился уйти.
Дворовые ребята любили товарища Сурена. Мы встречали его на улице, когда он возвращался с работы, и он здоровался с нами, как со взрослыми, уважаемыми людьми. Снимал замасленную кепку и громко приветствовал нас:
– Здравствуйте, товарищи!
– Здравствуй, товарищ Сурен! – кричали мы.
Ущипнув за щеку какого-нибудь малыша, он говорил:
– Милые вы мои! Вот наберу из вас армию, настоящую армию, и пойдем крушить капитал.
Часто он рассказывал нам о гражданской войне. Рассказывал о смелых парнях, которые бились и погибали за свободу, боролись против богачей. А про капитал ничего не говорил. Слова «богач» и «буржуй» нам были уже знакомы. Например, все мы знали, что Рапаэл богач: у него есть дом, сад, магазин. Богатый – значит, буржуй. Но кто был этот капитал, никто из нас не знал.
– Товарищ Сурен, а кто такой капитал?
– Да как вам сказать…
– Плохой человек?
– Очень! – смеялся он, отдавая нам вырезанные из ивы свистульки, и говорил: – Ну, теперь идите. Вырастете – узнаете, а я ведь еще и не обедал.
Он входил в дом, брал мыло, полотенце и долго плескался и фыркал во дворе у подвешенного к дереву рукомойника. Мы и тогда не отходили от товарища Сурена. Свистели в его свистульки прямо у него под ухом, а он делал вид, будто сердится:
– Ну-ка, прочь, а то всем носы пообрезаю!
И шел обедать.
Загадка капитала придавала товарищу Сурену таинственность.








