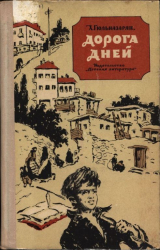
Текст книги "Дорога дней"
Автор книги: Хажак Гюльназарян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
„МОДЕЛЬНЫЕ“ ТУФЛИ
Два дня подряд лил дождь.
На огороде луковые грядки потонули в воде.
Тан, тин, тон! – монотонно падали в комнате капли. Все ведра, корыто и даже тарелки были расставлены на полу. В единственном сухом углу, куда я и отец перетащили тахту, лежала Зарик.
Термометр, который бог знает когда был куплен и всегда мирно почивал в мамином сундуке, теперь лежал возле тахты, на покрытом газетой стуле, и с холодным безразличием показывал 38 градусов.
Так было всегда: днем 37,5, после обеда – 38. Вначале мама даже подумала, что термометр испорчен.
– Этот проклятый еще со времен царя Нико́ла. Кто знает, может, испортился?

По ее просьбе я принес термометр Папаянов, но и он показывал столько же…
Зарик спала.
Отец, понурив голову, сидел у ее ног и даже не замечал, как с потолка на его спину каплет вода. Мать то и дело выносила вылить во двор дождевую воду. Каждый раз она поспешно закрывала за собой дверь и горестно шептала:
– Как бы ребенок не простудился.
А в комнате сырость каплями оседала на стенах.
Несколько дней назад был врач и сказал, что больной необходим чистый воздух и усиленное питание. Усиленное питание – это было понятно; что же касается чистого воздуха, – об этом у матери было особое мнение.
– Еще чего надумал, окаянный! – ворчала она в адрес врача. – Держать дверь открытой, чтобы ребенок простудился.
А Зарик вот уже несколько дней почти ничего не ела.
– Зарик-джан, – упрашивала мать, – подумай-ка: может, чего вкусненького хочешь?
– Я думаю, мама, – слабо улыбалась Зарик, – только ничего не хочется.
Однажды ей захотелось винограду. Я помчался на Кантар. Когда продавец-азербайджанец узнал, что виноград для больного, он из трех корзин выбрал самые лучшие гроздья и сказал:
– Бери, сынок, да поможет больному аллах…
Я нес виноград и мечтал. Эх, если бы все было так, как в сказках Мариам-баджи! И мир был бы как сказка… Принесу я домой виноград, положит Зарик в рот одну ягодку, и вдруг заблестят ее глаза, зарумянятся, нальются щеки. Съест она одну кисточку, наберется сил, сядет в постели, съест вторую – свесит ноги, съест третью – встанет здоровая и веселая, возьмет книжку в руки и пойдет в свое педагогическое училище.
Когда я пришел домой, Зарик уже забыла про виноград. По просьбе матери она оторвала одну ягодку и нехотя пожевала ее, а я с волнением уставился на ее бледные щеки. Но чуда не произошло.
Как снегурочка, растаяла моя сказка, и, чтобы не расплакаться при сестре и при родителях, я выскочил из комнаты.
…Зарик спала.
– Рач, – подняв голову, тихо позвал отец.
– Что?
– Знаешь лавку Цолака?
– Какого Цолака?
– Того, что возле Кантара.
– Да, знаю, – обманул я.
Никакого Цолака я не знал, но не хотелось огорчать отца, к тому же я был уверен, что на Кантаре легко отыщу этого Цолака.
– Ну хорошо. Значит, пойдешь, скажешь ему: «Отец согласен».
– Потом?
– Потом принесешь то, что он даст.
– Сейчас пойти?
– Да, сейчас, он там будет.
И я зашлепал по лужам к Кантару.
Цолака я нашел легко, вернее, он сам меня нашел. Когда я проходил мимо лавок, кто-то окликнул:
– Эй, парень!
Я остановился. Передо мной стоял толстяк, которого я видел несколько лет назад, когда «ограбили» магазин парона Рапаэла.
– Эй, парень, – снова позвал он, – ты не сын нашего Месропа?
– Сын, – ответил я.
– Смотри, как вырос! Ну, как твоя сестра?
– Не знаю, – вздохнул я.
– Плохо, да? Вай-вай-вай! – покачал он головой. – А куда это ты в такой дождь?
Я сказал.
– Вот как? – улыбнулся лавочник. – Ну тогда входи, значит, ты ко мне.
Скоро я уже возвращался домой. Под мышкой у меня был сверток, а в кармане промокшего пиджака лежали десять рублей. Вручая их мне, Цолак наказал:
– Скажешь отцу: «Дядя Цолак говорит – «я своему слову хозяин». А это вот задаток.
Дома отец развернул сверток. Это были тонкие, блестящие куски кожи.
– Рач, сынок, никому ничего не говори, – робко попросил он.
С этого дня у меня появились новые заботы.
Еще по дороге я понял, что «дядя» Цолак тайком скупает ворованную кожу, а отец согласился из нее шить туфли.
Раз в неделю со свертком под мышкой я отправлялся в лавку Цолака. Здесь он вытаскивал сшитые отцом «модельные» туфли, тщательно рассматривал их и, вздыхая, говорил:
– Плохо шьет, да что поделаешь, свой ведь человек, туго ему нынче приходится. Эй, парень, как сестра? – И, не дожидаясь ответа, проходил куда-то в глубь лавки, откуда вскоре возвращался с другим свертком в руках. – Скажешь отцу, две пары тридцать восьмого. А если спросят по дороге, скажешь, мол, продукты несу для сестры.
Никто меня не спрашивал, что в этом свертке, но я уже не мог, как прежде, спокойно смотреть в глаза знакомым.
В углу комнаты снова появились инструменты отца и его табурет. Теперь, придя с работы, он отдыхал немного и, едва соседи гасили свет, садился шить «модельные» туфли. Я лежал с раскрытыми глазами, глядя в закопченный потолок, слышал тяжелое дыхание Зарик и вздохи отца. Я плакал от обиды, от горя, и мне было стыдно, стыдно за отца и за себя.
В начале зимы Зарик стало лучше. Тайком от товарища Сурена Мариам-баджи сходила в церковь и «принесла в жертву» двух белых петухов.
– Благословенна будь, господи, сила твоя! – говорила Мариам-баджи. – Глядите, болезнь словно рукой сняло… Вот уже скоро, весной, моя Зарик опять будет здоровенькая, благословенна будь, господи, сила твоя!..
– Да поможет тебе господь, сестрица! – Моя мать обнимала Мариам-баджи.
Зарик стала лучше есть. Мать и Мариам-баджи считали, что это «по милости святого Григория Просветителя».
НЕМНОГО СМЕХА
Нам с Чко особенно нравились уроки математики. Наш математик Церун Драмбян был удивительный человек. Он то становился очень веселым, то неожиданно мрачнел, то широко улыбался доброй улыбкой, то вдруг сердился и, хлопнув перепачканными мелом руками, говорил:
– Ва, послушай-ка, товарищ, и это восьмой класс?
Мы, как обычно, занимались звеньями. Но эта система на его уроках совершенно теряла свой смысл, потому что старик Драмбян вообще не замечал не только звеньев, но и всего класса. На каждом уроке он кого-нибудь наказывал и ставил провинившегося в угол, как маленького. Провинившийся фактически становился его единственным учеником: Драмбян обращался только к нему, все объяснял только ему, а так как чаще всех в углу оказывались Чко, Шушик и еще несколько учеников, которые прекрасно учились по математике, то Драмбян приходил в хорошее настроение:
– То-то! Видишь, а ты говорил, не получится. Самое главное – здесь вместо минуса поставить плюс. Понял?
– Понял.
– Ну, повтори.
Объяснив наказанному новый урок, он вдруг замечал класс, изумлялся, потом, глядя на стоящего в углу ученика, говорил:
– А тебя кто тут поставил? Ну-ка, марш на место!
В те редкие дни, когда он никого не наказывал, Драмбян останавливал свой взгляд на ком-нибудь одном и объяснял урок только ему. Но он объяснял так интересно и мы так любили его слушать, что после урока у нас появлялось желание непременно поколотить коротышку Тача́та, который упорно называл Драмбяна не по фамилии, а просто – «Равенство».
Старика Драмбяна мы любили. И он нас любил.
Не жаловал только одного Асатура, и мне казалось, что мы полюбили Драмбяна именно за это. А не любил он его за то, что в те дни, когда случайно бывал наказан Асатур, урок никак не клеился.
Математика была слабым местом Асатура. По остальным предметам он учился хорошо и пользовался благосклонностью учителей, а на уроках математики терялся и бледнел, и Драмбян не мог втолковать ему даже самую простую задачу. В такие дни наш учитель особенно часто повторял:
– Ва, послушай-ка, товарищ, и это восьмой класс?..
Когда раздавался звонок, Драмбян чертил на доске крест и выходил из класса.
Перемена после урока математики, особенно в те дни, когда наказывали Асатура, была самой веселой.
Чко тут же после звонка мчался к доске, на ходу ладонью стирал с доски крест, оборачивался к нам и, удивительно похоже копируя Драмбяна, говорил:
– Ва, послушай-ка, товарищ, и это восьмой класс?.. Шахнабатян, в угол! – приказывал он.
Шушик в мгновение ока превращалась в Асатура и молча становилась в угол. Мы покатывались со смеху, а Чко объяснял Шушик – Асатуру, что один плюс один будет два. Шушик – Асатур, тупо уставившись на Чко, прибавляла один к одному и получала одиннадцать.
Настоящий Асатур бежал к доске на расправу, но Чко тем временем успевал с мрачным видом начертить на доске крест и выйти из класса.
АСАТУР – АРТИСТ, А Я УМЕЮ ТОЛЬКО ЛАЯТЬ
Трудно даже вообразить, сколько радости может доставить это темное полуподвальное помещение, которое так крепко связало нас, пионеров, невидимыми нитями. Это был наш клуб – место, где мы развлекались, мечтали.
В клубе была сцена, которая отделялась от зала простым синим занавесом.
На полках вдоль стен зала лежали музыкальные инструменты нашего духового оркестра, а на специально изготовленный деревянный помост водрузили огромный барабан. Музыкальные инструменты и особенно барабан – подарки завода-шефа – были предметом нашей гордости.
Почти все сборы мы проводили в клубе. Удивительные это были вечера! У дверей клуба стояли дежурные пионеры с остроконечными копьями. Попробуй-ка, пройди на сбор без галстука или с грязным воротником! Копья дежурных тут же скрещивались, и один из них говорил твердым голосом:
– Галстук!
После линейки начальник штаба рапортовал вожатому, потом все мы пели «Интернационал». Были у нас в клубе разные кружки, живая газета, духовой оркестр. Особенно увлекались все театральным кружком. Каждый из нас, от букашек-первоклашек до секретаря комсомольской ячейки нашей школы Парнака Банворяна, считал себя в душе истинным артистом. Иные пускались на всяческие хитрости, лишь бы заполучить роль. Но ролей в пьесе всегда было меньше, чем желающих сыграть их, а руководитель кружка Егинэ, которую я вовлек в эту работу (что и считал величайшей своей заслугой), была строга и беспристрастна в выборе.
Мы хотели поставить пьесу из жизни болгарских партизан. Каждый из нас мечтал о главной роли. Их было две: Петко, маленький мальчик, который помогает партизанам, и Борис, брат Петко, смелый и отважный партизан. Роль Петко досталась мальчишке-шестикласснику. Асатур Шахнабатян не сомневался в том, что он просто создан для роли Бориса.
Борис – руководитель, командир партизан. Он же, Асатур, – руководитель и командир школьников. И его пробуют.
Асатур декламирует свой отрывок громко, почти кричит, и к концу репетиции его голос срывается на хрип. Шушик – мать Звановых. Борис – Асатур должен обнять ее и поцеловать. Эту сцену он исполняет с подлинным мастерством… Но тем не менее Егинэ говорит:
– Нет.
Пробуют меня. Я почему-то вдруг начинаю странно растягивать слова.
– Нет, – снова говорит Егинэ.
Пробуют Чко. Удивительно, как здорово, как свободно он держится. Вот это Борис Званов! Только в сцене с матерью он снова становится Чко.
Деревянными шагами подходит к Шушик, в полуметре протягивает руки и, с опаской приблизив голову к ее лицу, хрипло мычит:
– М… мама.
Все смеются, и Егинэ улыбается.
– Не так, Лева, не так, – говорит она и показывает, как нужно.
Она обнимает, целует Шушик. Но если Егинэ это просто сделать, то для Чко так же немыслимо трудно, как составить план к стихотворению «Верблюд». Тем не менее Егинэ отдает эту роль именно ему.
С трудом скрывая досаду, Асатур соглашается на роль друга Бориса. А мне никакой роли не дали. Поставили за сценой имитировать лай собаки, лаять на хозяина, пришедшего арестовать Бориса. Что поделаешь, ни на что другое я не гожусь…
Шушик смеется, а Асатур, оживившись, бросает едко:
– Каждый делает то, на что способен. Ты, выходит, умеешь только лаять.
У меня потемнело в глазах. Нетвердыми шагами я подошел к нему и, едва сдерживая слезы, выдавил:
– Гадина…
С ФАКЕЛАМИ
Девять часов вечера. На улицах зажглись электрические фонари. Они качаются, мигают нам. В этот вечер наша пионерская дружина выходит в поход. Как будто и не очень-то заманчиво – пойдем в Канакер, всего каких-нибудь семь километров. Проснутся собаки, поднимут лай. В домах станут зажигаться огни, заспанные, удивленные люди высунутся из окон, выйдут на улицу посмотреть, в чем дело. Потом, недовольно бурча, снова запрутся в домах или заулыбаются и скажут снисходительно:
– Пионерия идет…
А на Канакерской возвышенности вдруг раздастся в темноте команда:
– Вольно! Зажечь факелы.
И вот уже красноватое пламя освещает шоссе, отпугивая волов, лениво тянущих арбу, а заспанный возница орет:
– Эй! Ишь, испугались, проклятые! Эка невидаль…
Вот и все.
А мы ликуем, радостно улыбаемся друг другу, и нас даже не раздражает спесивая фигура Асатура. Он не несет факела, потому что Асатур член штаба участников похода. Парнак и Телик тоже в штабе. Парнак идет, беззаботно улыбаясь, а Телик даже недовольна тем, что у нее нет факела…
Это все еще будет, а пока что мы стоим на школьном дворе. Наконец раздается команда:
– Стройся!..
Небольшой переполох – и вот уже вся дружина стройными рядами марширует по улице.
В этот вечер нет человека счастливее меня, потому что в строю рядом со мной идет Шушик. Она улыбается просто так, но я присваиваю ее улыбку: мне кажется, что она улыбается именно мне. От радости хочется кричать.
– Оркестр, вперед! – командует товарищ Ерванд.
– Оркестр, вперед! Оркестр, вперед! – передается команда.
– Шаго-о-ом!
Бьет барабан, гремят литавры, трубят трубы, возвещая всему городу о начале факельного шествия…
Я знаю, что плохо пою. Да и вообще в последнее время что-то странное происходит с моим голосом, который то и дело срывается с баритона на неожиданный смешной дискант. Шушик смеется надо мной, но я упорно пою, – и пусть смеется, мне это даже приятно…
Незаметно доходим до Канакера. Останавливаемся на какой-то лужайке за деревней. Товарищ Ерванд командует:
– Вольно! Члены штаба – ко мне!
Мы сидим на траве. Ребята разбрелись кто куда. Я рад, потому что мы с Шушик остались одни. Рядом с нами копна сена, от которой пахнет увядшими цветами…
Шушик откинулась на копну.
– Хорошо, правда? – спрашивает она.
– Очень! – отвечаю я.
Мне хочется многое сказать ей, что-то очень важное, но что именно, я не знаю и… молчу.
В темноте не видно ее лица, только тускло белеет кофточка. Я опускаю голову и долго жую какой-то горький стебель. Наконец Шушик прерывает молчание:
– Ты не заснул?
– Нет.
– А почему молчишь?
Темнота вдруг придает мне храбрости.
– Шушик…
– Что?
– Хочешь… будем друзьями?
– А разве мы не друзья? – удивляется она.
– Да, но… Давай на всю жизнь…
Шушик тихо смеется. В это время раздается голос товарища Ерванда:
– Стройся!..
На Канакере загораются факелы…
Девочки устали. Шушик опирается на мою руку. На свете нет никого счастливее меня.
Мимо проходит Асатур:
– Чего виснешь! Не умеешь в строю ходить? – кричит он на Шушик.
Я злюсь, а Шушик пренебрежительно бросает:
– Нога болит, товарищ командир.
Но руку все-таки убирает.
По городу мы идем стройными рядами.
Потом узнаю, что Шушик сильно натерла ногу.
Конечно, Асатур тут ни при чем, но дома я снова вспоминаю об этом, и во мне поднимается злость против Асатура. Долго без сна ворочаюсь в постели.
– Подлец, – говорю я громко, и мать, проснувшись, окликает меня:
– Рач!
– Что?
– Не спишь?
– Нет.
– Ты что же, сам с собой разговариваешь?..
КОМИТАС[30]30
Комита́с (1869–1939) – великий армянский композитор.
[Закрыть] И „ПОСТАВИТЬ НА ВИД“
Особенно невыносимым становился Асатур в те дни, когда мы проходили так называемую трудовую практику на деревообрабатывающем заводе.
Обычно начинались эти дни весело. Утром мы собирались во дворе школы. После звонка раздавалась команда заведующего школой:
– Стройся!
Строились по росту, и, пока наш мастер Минас равнодушно свертывал свою козью ножку, заведующий подзывал к себе старосту.
Старостой, конечно, был Асатур, который в эти дни особенно гордо выпячивал свою грудь. Он подходил к своему дядюшке и, отсалютовав, вытягивался в струнку. Заведующий давал ему какие-то указания и затем обращался к нам:
– Привет юным строителям!
– Привет! – гремел ответ.
Потом он поворачивался и уходил, оставляя нас под присмотром Асатура.
Асатур проходил перед строем, как генерал на параде, и зычно приказывал «своим полкам»:
– Напра-во! Шагом марш!..
Мы шли строем по улицам города. Шагали с удовольствием, но Асатур поминутно одергивал нас и так допекал своими придирками, что на завод мы приходили уже злые и усталые.
Не приставал Асатур только к Чко и к Шушик. Выправке Чко мог бы позавидовать любой из нас, что касается Шушик, то Асатур просто побаивался ее острого язычка. Особенно доставалось от Асатура коротышке Альберту.
Наше «политехническое» обучение заключалось в том, что мы с утра и до вечера таскали доски из одного конца обширного заводского двора в другой.
Мастер Минас, мирно попыхивая козьей ножкой, появлялся на заводском дворе только в конце смены. Единственное, чему мы научились тогда, – перекатывать бревна, да и то потому, что один из рабочих объяснил нам, как легче управиться с этой работой. Оказалось, что, когда мы все вместе толкаем бревно, нужно, чтобы один из нас командовал: «Раз, два, взяли!..»
Так что и Асатуру нашлась подходящая работа.
– Раз, два, взя-ли!.. – командовал Асатур.
Мы разом брались за бревно. Бревно действительно катилось.
Это «раз-два» до того понравилось Асатуру, что, когда не было надобности перекатывать бревна и наша группа вынуждена была таскать доски или, поднимая тучи пыли, подметать заводской двор, настроение у Асатура резко портилось, и тогда его придиркам не было конца.
Хозяйским оком окидывал он двор и, стоило ему заметить хоть одну щепочку, тут же повелевал:
– Комсомольцы, ко мне!..
Кроме Асатура, комсомольцев у нас в классе было еще трое: Чко, вступивший в комсомол еще в тбилисской школе, Манук[31]31
Ману́к(армянск.) – младенец, малыш.
[Закрыть], не в пример своему имени здоровый, высокий парень, на два года старше нас, и Шушик.
Как-то раз Чко попытался втолковать Асатуру, что он тоже обязан работать, что, возможно, наша работа и приносит какую-то пользу, но ведь нельзя же всерьез считать это политехническим обучением, и т. д., и т. п.
Асатур разозлился и, забыв, что перед ним не Альберт, обозвал Чко «жалким ничтожеством». А Чко залепил ему звонкую пощечину.
Шушик едва удалось разнять их.
Вечером, выходя от Папаяна, я повстречал Асатура.
– Если нафискалишь дяде, так и знай: разукрашу, физиономию, – твердо объявил я ему.
О случае на заводе узнали все ученики. Малыши, которые побаивались Асатура, преисполнились к Чко глубочайшим уважением. Что же касается меня, то я подчеркнуто покорно выполнял приказания председателя учкома.
Асатур не пожаловался ни на ячейке, ни заведующему. Но я хорошо знал, что пощечину, полученную в присутствии девочек, и особенно в присутствии Шушик, он никогда не забудет.
В нашей школе были организации со странными названиями: «ИУБ» и «ИПРУБ». «ИУБ» означало: «изучай ученический быт», «ИПРУБ» – «изучай пионерскую работу и ученический быт». Но так писали только в стенной газете, на самом же деле ИУБ – это была девятиклассница Лилик Тер-Маркосян, а ИПРУБ – председатель учкома собственной персоной и вечно перед ним юливший Альберт.
Однажды вечером, когда отец принялся уже за шитье «модельных» туфель, вдруг открылась дверь, и на пороге появились Асатур с Альбертом.
– Можно? – спросил Асатур.
Отец поднял голову.
– Входите, – растерянно пригласил он.
– Мы пришли от ИПРУБа школы.
– Добро пожаловать, – сказал отец. – Только не обижайся, сынок, не уразумею я, что такое ИПРУБ.
Асатур стал объяснять с присущим ему красноречием.
Отец, по-моему, ничего не понял, но, чтобы отделаться, сказал:
– Ах, вон оно что! Ну садитесь, чаю попьем.
Мать принялась хлопотать. Мне показалось, что Альберт не прочь выпить чаю, но Асатур поблагодарил:
– Извините, только нам некогда. Мы пришли выяснить некоторые вопросы.
Он стоял посреди комнаты, в театральной позе, а Альберт смущенно переминался с ноги на ногу.
– Какие книги читает ваш сын Рач? – обратился Асатур к отцу.
– Об этом ты мог бы спросить у меня, – возмутился я.
Асатур не обратил на меня ни малейшего внимания. Всем своим видом он показывал, что пришел исключительно поговорить с моим отцом. А мой бедный отец не знал, что ответить этому невесть откуда взявшемуся следователю.
Я принес и разложил на столе все мои книги. Среди них были и учебники, и книги, которые читала Зарик, и два номера журнала «Пионер», и «Овод», его недавно дала мне почитать наш библиотекарь Асмик.
Асатур внимательно просмотрел все это, что-то записал в блокноте. Потом поднял голову и, заметив висевший в круглой раме портрет, спросил у отца:
– Это ваш отец?
– Это Комитас, – бросил я с пренебрежением.
– Духовное лицо? Так-так, – протянул Асатур и опять сделал какую-то заметку в блокноте.
Я был уверен, что он написал: «Духовное лицо».
Затем некоторое время молча взирал на стены. Поинтересовался между прочим, чем болеет Зарик, потом, мельком взглянув на инструменты отца, сказал:
– Что, дома работаете?
Отец растерялся. Он не успел припрятать «модельные» туфли, которые были надеты на железные «лапки», и из туфель, как иглы ежа, торчали гвозди.
– Нет, какая это работа? Это так, для одного знакомого…
Асатур и Альберт ушли. Перед уходом Асатур с подчеркнутой вежливостью сказал:
– Извините, пожалуйста, за беспокойство. До свиданья…
Когда они ушли, отец помолчал немного, потом поднял голову, вздохнув:
– Черт побери, осрамились!
С этого дня я стал бояться, что Асатур расскажет про туфли и отец действительно опозорится перед соседями, перед товарищами по работе, которые называли его уже не иначе, как «уста Месроп».
Но Асатур пока молчал. Зато через несколько дней в школьной стенгазете появилась заметка, под названием «Не странно ли это?». В заметке, посвященной работе ИПРУБа, рассказывалось о том, как Асатур и Альберт посетили наш дом. Очень подробно была расписана наша «квартира», то есть наша комната. «Корреспондент» не забыл упомянуть и шумевший в углу примус, и стенной шкаф, на полках которого рядом с банкой тыквенного варенья стояли книги. «И вот ИПРУБ знакомится с литературой, которую читает пионер Рач Данелян, – пишется в заметке. – И что же? Ни одной революционной книги, если не считать, конечно, нескольких старых номеров журнала «Пионер», которые, без сомнения, принадлежат его старшей сестре… И если добавим, что пионер Рач Данелян повесил над своей кроватью в роскошной раме портрет – как вы думаете, чей? – какого-то монаха, картина станет ясной…»
Статья была подписана «Жало», и всем было ясно, чье это жало.
В тот же день по требованию Асатура пионерский штаб обсуждал «мой вопрос». Я объяснил, что «Овод» тоже революционная книга, что книги я беру в городской библиотеке и это может подтвердить библиотекарь Асмик. Многие стали на мою сторону, но в руках Асатура был основной козырь.
– А духовное лицо?
– Да какое же это духовное лицо? Это портрет великого армянского композитора Комитаса, который мне подарили в честь окончания музыкальной школы, – сказал я.
Асатур произнес пламенную речь, которая как две капли воды была похожа на речи его матери и дядюшки. Он без конца склонял слова «мировая революция», «класс», «религия – опиум».
После него выступили еще двое. По всему было видно, что они не принимают всерьез обвинение Асатура, но Асатур без конца перебивал их и, ядовито улыбаясь, говорил:
– Вы лишены пролетарского духа…
Резолюция родилась стихийно, и Асатур сформулировал ее так: «Заседание пионерского штаба с участием председателя учкома и ИПРУБа, члена бюро комсомольской ячейки Асатура Шахнабатяна, обсудило вопрос о быте пионера Рача Данеляна. Пионерский штаб нашел, что в быте пионера Рача Данеляна есть некоторые отклонения от норм пролетарской идеологии. Пионерский штаб решил пионеру Рачу Данеляну поставить на вид».
Асатур настаивал, чтобы после слов «некоторые отклонения» в скобках было указано «религиозные и т. д.», но члены штаба не согласились.
А «поставить на вид» осталось в решении и было опубликовано в экстренном выпуске стенной газеты, целиком посвященном мне.








