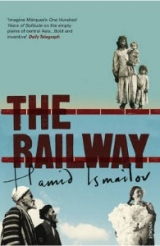
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Глава 18
Когда умерла Ходжия, внук её плакал не по ней, а по пьянице – Рафим-Джону, который теперь оставался и вовсе никому не нужным, пока через десять лет не захлебнулся в своей собственной блевотине, в день, когда пошёл первый снег…
Ходжия родила от трёх мужей двенадцать детей, из которых её пережили только трое, а история смертей остальных такова.
Шарофат – самая старшая дочь от Гази-ходжи – её первого мужа, умерла в тридцатипятилетнем возрасте, надорвав своё сердце в поисках семейного приюта, оставив на попечение матери двух сирот.
Вторая дочь – Башорат умирала мучительно – упав в трёхлетнем возрасте в сандал – печку, выкопанную в земле под зимним столом.
Третий сын от Гази-ходжи – Шахид-ходжа дорос до семи лет, но после смерти своего отца зачах на глазах и умер от внезапного туберкулёза, заразившись им от мрущих на улицах казахов.
Последняя дочь от первого мужа оказалась, прости Бог, мертворождённой, её похоронили, так и не дав имени.
Потом умер, а, вернее, погиб и сам её муж – Гази-ходжа Камол-ходжа-оглу. Но об этом следует рассказать чуть подробнее.
Вы помните, что Ходжия родилась в то время, когда её отец – Махмуд-ходжа младший, замаливая грехи одной революции, свершал паломничество в священную Мекку. Но после того как они вернулись с персиянином Джебралем, который тоже искал отдохновения от своей иранской революции, обоих их вскорости встретила ещё более неимоверная революция Октябрьская. Неимоверная потому, что начиналась она как лёгкая простуда, которую казалось можно перенести на ногах, а оказалось…
Джебраль вскоре женился на первой встреченной беженке из разгромленного большевиками и разграбленного дашнаками Хоканда, как бы окончательно рассчитываясь с очередной революцией и её последствиями, чтобы тут же построить свой знаменитый курган, за которым не бывал ни один из смертных Гиласа за вычетом его домочадцев, как бы навсегда отгороженных от этого неверного мира за трёхростовым дувалом, как за Джебральской клятвой, что уж здесь никогда и никаких революций не будет…
Махмуд-ходжа, после смерти плодоносящего Майке, перешёл от скотоводства к земледелию и, продав свою нескончаемую отару киргизам, у которых её тут же конфисковали революционные матросы Заилийского Алатау, перебрался с семьёй в Гилас, где скупил по соседству все виноградники Хасанбая – мол, уж если и конфискуют в Россию виноград, то хоть лозу оставят на месте!
Большевики и впрямь конфисковали все, что можно было съесть, выпить, надеть или же на худой случай продать, чтобы опять съесть, выпить или надеть, но поскольку эти безродные, проштрафившиеся, проворовавшиеся, а потому сосланные сюда в Туркестанскую глушь солдаты не умели ничего делать руками, кроме как размахивать револьверами и знамёнами в этих руках, а ещё мочиться, где придётся, то первые годы виноградника Махмуд-ходжи не выкорчёвывали, и Махмуд-ходже удавалось подворовывать, то есть припрятывать то немногое из урожая, что оставалось после ночных обысков и облав винолюбивых революционеров.
Тогда же, в глубине своих бесконечных, как лабиринт, виноградников, он устроил «ичкари» для женской половины своей семьи – жены и двух дочерей: Асолат и Ходжии, которые, не зная теперь никакого выхода в свет – зимой перебирали сушеный кишмиш, а летом купались в запруде арыка, затыкая десятью пальцами обеих рук все отверстия своих длиннокосых голов.
Однажды за таким купанием, когда глаза не видели, уши не слышали, нос не чуял, а рот не мог сказать, их застал дальний родственник – уже не юноша, но муж – Гази-ходжа, прирабатывавший в винограднике, как ходжа у ходжи, дабы не идти на службу к безродным большевикам. Бёдра младшей толстушки, то и дело, выкидывавшиеся белыми куполами над мутной водой, свели с ума молодого человека, забывшего начисто шариат и сословный кодекс приличия. С тех пор он зачастил к родственнику, окоротив, обезлистив и окопав тому все его лозы, а особенно же в тех непролазных чащах, куда вела лишь мутная вода Хасанбай-арыка с его запрудами и затонами.
Той же осенью, в пору свадеб, независимых от войн и революций, к Махмуд-ходже пришли сваты по его младшую дочь. Махмуд-ходжа, как истинный ходжа – после полудня стоящий насмерть на своём – ни в какую не соглашался выдавать младшую прежде старшей.
– Вот можете взять старшую, – простодушно предложил он своим дальним родственникам, на что и они, как истые ходжи, встали и пошли, отказываясь быть родственниками, и глухо бормоча в лабиринтах виноградника:
– Кизинг бошингда косин! [44]44
– Провались со своей дочерью!
[Закрыть]
Простое послеполуденное недовольство ходжей оказалось хуже проклятия, и впрямь по сухой как жердь Асолат, спрятанной в чащах зимнего виноградника, никто не приходил несколько лет. Ходжия тем временем превратилась из подростка в пышную девушку, которой стеснялся уже сам отец, а Гази-ходжа, Гази-ходжа каждое лето плакал у истоков мутного Хасанбай-арыка, видя в отражении солнца крутые бёдра своей избранницы и ожидая, когда же выдадут замуж эту ненавистную подпорку для виноградной лозы. Но теперь, когда его работа у ходжи в винограднике кончилась за взаимной обидой, однажды после полудня он вознёс молитву Аллаху, и дабы иметь возможность славить Его и далее, в ожидании того, что предписано Им Самим, пошёл работать в милицию к большевикам.
Впрочем, в этом был не только Промысел, но и земной умысел: необольшевевших ходжей начинали уже запугивать высылками, так вот, Гази-ходжа хотел спасти семью Махмуд-ходжи, и тем самым добиться для себя исключения, не дожидаясь появления свояка.
Но всё случилось значительно раньше эпохи высылок.
В священный день смерти вождя мирового пролетариата и босячества, когда всю милицию послали по базарам и чайханам – гнать всех на стихийные траурные митинги, а Гази-ходже и вовсе дали специальное задание – найти нескольких маддохов [45]45
маддох – восхвалитель
[Закрыть], которые бы пошли по городу, утешая народ в безутешном горе, в том, что Аллах забрал душу Владимира Илья-оглу не подумав, на кого же Он оставляет мировую революцию и трудящуюся бедноту в то время, как свадьбы запрещены а другие трауры за незначительностью – приостановлены. Именно тогда, в минуту положения тела того, чьим именем казахи округи были вынуждены называть некстати рождающихся детей Елешами – не умея исковеркать свой степной язык на «Ильича», ни затолкать детей обратно – до лучших времён, всё население Ташкента и его округи, включая Гилас, было поставлено на колени – дескать, по отцовскому обычаю траура. Так вот именно тогда в милицейскую каталажку попал некий Почамир-ходжа из Бухары, который из своей приезжести решил, что Аллах, не дожидаясь конца света, начал свой Страшный Суд, а потому прямо на базаре, посреди банок бакалейщиков, где он выбирал немного опия и синего камня против зубной боли, Почамир поспешил высказать всё, что он думает о большевиках, дабы быть чистым перед Аллахом, а поскольку поносил Почамир большевиков во главе с покойным на своём бухарском выговоре, мало понятном в Ташкенте, то поначалу решили, что это бухарский еврей вопит о погроме, и дабы англичане не развезли это по свету против большевизма, постановили, что лучшее дело – изолировать паникёра в кутузку. Там-то и застал его Гази-ходжа в поисках утешителей всемирного горя.
– В свидетели беру дух товарища Ленина – я в первый раз в вашем столь величественном городе и не понимаю, что здесь случается, – божился он на своём бухарском диалекте. – Умоляю вас коммунистическим интернационалом и международной солидарностью, оставьте меня бедного и дурного в покое…
– Вот станешь товарищем Зиновьевым и Троцким, тогда и оставим в покое, – отвечал ему сторож из обольшевевших новобранцев.
Почамир-ходжа, как истый бухарец, некогда причастный к младобухарству, почитывал местные газеты, и знал, что если попал в каталажку, то уж сидеть тебе, пока не приедет всесоюзный староста Калинин, или же на худой конец – его местный заменитель – свой Ахун-бабай, который опишет впоследствии эти безобразия в своей большевистской столичной газете, и тогда уже начальник милиции тебя освободит. Правда, если читает директивные газеты.
Вот и в прошлый раз, когда Почамир сидел по поводу Бухарской революции, когда точно так же решил о первом окончании света, – а сидел он полгода с лишним, и на первый месяц от безделья стал чинить сапоги всем сокамерникам, расплетая для дратвы свой пояс. Заметив сие, охранник, бухарский еврей Илиас однажды воспользовался заключённым и починил свои прохудившиеся кавуши. Дальше – больше, мало-помалу, он переченил у Почамира обувь всей родни и лишь после этого поделился новостью со своими коллегами вплоть до начальника тюрьмы. Поделиться-то поделился, да вот замучила его поздняя мысль – ведь чинил Почамир обувь, как шил новую – поставляй ему материал, и хоть артель открывай! А тут ещё сын Илиаса – Юсуф, употреблявший до сих пор старую кожу с кавушей на рогатки, вдруг зашил кожей с одной рогатки недонесённый до Почамира худой кавуш…
Словом, пустил старый Илиас накопленную веками и поколениями хитрость в ход и сговорился с Почамиром о надомной, вернее натюремной артели: он поставляет ему чёрную кожу с простреленых большевиков и чекистов – Почамир шьёт кавуши – Юсуфка торгует ими на бухарском базаре Токи Саррофон. Молил Илиас своего иудейского бога лишь об одном – как бы дольше сидел Почамир в тюрьме и никакой начальник не вспомнил бы о нём, да вот приехал-таки необрезанный Калинин в Бухару, пошёл по чайханам да тюрьмам, как будто других мест за свою революционную жизнь не познал, и написал о Почамире, шьющем кавуши, в большевистской «Местной Правде». Шесть месяцев шла партийная разборка, в ходе которой Илиас продолжал скупать кожу чёрных курток со слетающих начальников, а Юсуфка – торговать обувью нашитой Почамиром, ожидающим решения своей судьбы. Но не только этим занимался шесть месяцев старый тюремный сторож Илиас. При свете керосиновой лампы он заставлял заучивать своего Юсуфку ход шва и постановку стельки на обуви, сшитой подведомственным Почамиром, дабы и после освобождения того, большевистстко-чекистские куртки не гнили, простреленные в могилах…
Так вот, не Калинин пришёл на этот раз, и даже не его местный заменитель – Ахун-бабай, пришёл в тюрьму этот самый милиционер-служивый, который и сам оказался из ходжей, и долго вертя разговор вокруг того, что птица души Джахангира Илья-задэ направила свой полёт в необходимые сети Аллаха, вдруг ни с того, ни с сего предложил Почамиру, плачущему за Ленина, который принёс своей смертью столько несчастий на его голову, жениться на дочери одного из тутошних ходжей.
Было послеполуденное время и Почамир – будь проклят тот час – согласился приобрести жену и в Ташкенте в обмен на свободу. Уж лучше бы ждал товарища Калинина, или на худой конец тутошнего Ахун-бабая – отчаивался он не раз впоследствии, будучи уже женатым на тощей Асолат, заставившей его забыть не только священную Бухару с её выговором, газетами и семьёй, но и переименовавшую его на Пошшо-амира. Ладно бы и с новым именем – всё равно началась новая жизнь, и вчерашнюю чайхану уже называли избой-читальней, да было несколько неловко с этим самым именем «Амира у Падишаха» рабочими днями торговать у самого начала их тупиковой улочки семечками, а по воскресеньям в казахском Абай-базаре – сахарными петушками.
Вот так и женился Гази-ходжа-милиционер на Ходжие. Женился и перешёл работать в партию, чтобы жить чуть победнее, но чуть побезопаснее, поскольку к тому времени началась «коренизация» органов, слово, которого Гази-ходжа не понимал, но видел, как через одного уже высылают и расстреливают. Честно говоря, Гази-ходжа ушёл бы, как и прежде, работать в виноградниках тестя, но там под такое же непонятное слово «коллективизация» начались всё те же ссылки и расстрелы каждого, кто «бирини икки кила оларди» [46]46
кто свою единицу мог превратить в два
[Закрыть], вот и пришлось идти в партию, чтобы ценой порубленных партией виноградников спасать жизнь своему тестю и его семье.
В партию он устроился переводчиком к первому секретарю – переводить с узбекского на узбекский, потому как первый секретарь хоть и был узбеком, но за свою большевистскую карьеру забыл начисто, как материл его до детдома отец. Часами бедный секретарь размышлял над каким-нибудь словом «лойиха» [47]47
проект
[Закрыть], спущенным из ЦК-ЦКК, примеряя под него всё, что приходило в голову, но ничего осмысленного не получалось, покуда не пришёл к нему на работу Гази-ходжа, который по своему медресинскому образованию не только играючи истолковывал тому казуистику переводчиков товарища Акмаля Икрама из ЦК-ЦКК, но и сам задавал теперь головоломки переводчикам при райкомах, стацкомах и первичках.
Словом, всё шло хорошо, дома у Гази-ходжи и Ходжии рождались дети, Махмуд-ходжа не выходил вот уже седьмой год никуда из своего глухого подворья в чаще недорубленных колхозных, а потому бесхозных виноградников, боясь новых смут, которые по новому времени назывались революциями, партия давала лозунги, вернее давал их честнейший большевик – еврей Уманский, единственный русский, кто работал в партии после «коренизации», и с кем на почве этих самых лозунгов сошёлся вскоре Гази-ходжа, переводивший эти лозунги с узбекского на узбекский, так, как понимал их с уст Уманского первый секретарь. Тихо-потиху Гази-ходжа стал понимать русский, мало-помалу Уманский начал осваивать узбекский, и когда каждый из них прошёл свою половину пути, необходимость первого секретаря в бумажных делах, которые назывались непонятным словом «идеология», и вовсе отпала.
Освобождённый первый секретарь стал заниматься экономическими вопросами, поскольку после лозунга: «Лицом к деревне!» пришёл лозунг: «Взгляд на экономику!» Так, вместе с местным прокурором и муллой старогородской мечети [48]48
Кстати, именно этот мулла и подсказал первому секретарю идею союза КМ: дескать, у Вас «Капитал» Маркса, у нас – Коран Мухаммада и союз у нас «Коммунистическо-Мусульманский»! которую я видел впоследствие в одной из эмигрантских парижских газет. /Автор/
[Закрыть]первый секретарь объявил населению государственный закаат – коммунистическо-мусульманский налог, собрав 1931 голову крупного рогатого скота, в пять раз больше овец и коз, ну а куриц и вовсе на целую первую птицеферму имени Розы Люксембург. Треть из туш пошла на помощь всё ещё голодающему поволжскому народу, треть разошлась по вышестоящим органам, а на почве раздела третьей трети началась борьба фракций и уклонов: прокурор открыл уголовное дело против муллы, обвиняя того по 37 статьям еще нераспечатанного Уголовного Кодекса – от басмачества до бесакалбазлычества [49]49
досл. игра безбородых – гомосексуализм
[Закрыть], мулла зачитал на первой же пятничной молитве фетву, в которой насылал проклятия на голову безбожного первого секретаря, как хулителя и гонителя веры, первый же секретарь ударил залпом по обоим фронтам, обвинив одного в право-монархистском, другого – в левотроцкистском уклоне. Непонятное оказалось наиболее действенным, когда же Уманский с Гази-ходжей попытались образумить разбушевавшегося секретаря, тот, подкупив вышестоящего переводчика, и вовсе завёл партийное дело на «национал-космополитическую организацию, проникшую в ряды партии с цель подрыва и контрреволюции», дабы сослать честнейшего коммуниста Уманского в Биробиджан, а доверчивого Гази-ходжу пригласить к себе на плов, как бы затем, чтобы простить и наставить на путь, а на самом деле подсыпать в плов сначала семян анаши, а потом влить ему уснувшему в ухо дореволюционного яду, которым с секретарём поделился ещё мулла в их бытность друзьями по союзу КМ.
Так потеряла Ходжия своего первого мужа – Гази-ходжу. Выразить соболезнование вдове и семье покойного пришла вся группа товарищей, помирившаяся к тому времени, поскольку оставшуюся и неподелённую треть поголовья скота вместе с курами, угнали, бог весть, откуда взявшиеся басмачи. Но все они: и первый секретарь, прочёвший над саваном доклад о современном положении, и прокурор, зачитавший заключение о смерти покойного, и мулла, пропевший отходную – ушли с одной и той же мыслью – прибрать к своим рукам Ходжию. К счастью, вскоре начался З7 год и всех их троих, заготовивших для Ходжии кто анкету, кто повестку, а кто амулет, по неким вновь открывшимся обстоятельствам арестовали и выслали в Сибирь, в какой-то «джан» валить лес и строить железную дорогу. Там они и сгинули.
А потом началась война, два брата Ходжии и муж Асолат – Почамир-ходжа ушли на фронт, где один пропал без вести, другой вернулся с победой, а третий сдался в плен. Тогда-то и арестовали Махмуд-ходжу, начавшего работать в бесхозном винограднике – «за посягательство на общенародное достояние», тогда-то Ходжия была вынуждена перебраться в Гилас и устроиться швеёй в артель Папанина, куда её взял дальний родственник Уманского – дядя Изя Рабинович. Тогда же она вышла замуж за охранника тюрьмы Исраил-караула, чтобы иметь возможность передавать через него что-то своему арестованному отцу. А познакомил её с Исраил-караулом другой охранник тюрьмы – бухарский еврей Илиас, перешедший сюда на повышение из бухарской провинциальной тюрьмы, знакомый Асолат по её сдавшемуся в плен мужу Почамиру-ходже, отец начинающего гиласского сапожника – Юсуфа.
От Исраила-тюремщика она родила еще троих детей, из которых выжила лишь одна Нафиса. А к Победе оплакала Ходжия и ненужного Исраила, поскольку отец уже вышел по амнистии из тюрьмы. Исраил был застрелен по неосторожности Илиасом, когда в честь победы над антиеврейским фашизмом тот решил дать салют в небо из своей бухарского порохового мушкета. Вот тогда-то и сказал Юсуф-сапожник про своего несчастного отца: «Жил в войну мой отец напротив тюрьмы, а в мирное время живёт напротив своего дома!»
После войны приехал в Гилас Хашим-чайхана, и поскольку Ходжия по закрытии военной артели Папанина пекла теперь кукурузные лепёшки, дабы продавать их по утрам в чайхане, то бездомный Хашим и безмужняя Ходжия решили вскоре объединить хозяйства и жизни и стали рожать новых детей, из которых выжило лишь трое пацанов.
Глава 19
Ойимча несла виноград, виноград. Грозди, грозди, грозди…
Почему жизнь сложилась так, а не иначе? Капало с гроздей, и солнце отражалось и в гроздьях, и в каплях, и сами грозди казались зрелыми каплями света, света, света, света, света.
Обид-кори остался единственным муллой на округу. Одни ушли горами в Кашгар, другие перешли в сельские учителя и в райкомовские переводчики, третьи пошли воевать за веру…
Жизнь сложилась так, а не иначе, и на то была, видать, мудрость Аллаха, и тем, видать, Аллах наказывал и испытывал своих слуг, и Обид-кори принял своим сердцем жизнь такой, какая она есть. Он не ушёл в горы с турами – братьями и дядьями Ойимчи, хотя по долгу мусульманина проводил их зимними стойбищами алайских киргизов, ждавших откупа или добычи, до самого последнего перевала Канчын, за которым тропа в одну лошадь уходила в Бадахшан.
Лошади шли понурые, понурые, и глаза их мутные от холода проглядывались со спины, мимо их тощих боков, как будто бы глаза, глаза они хотели оставить на своей собственной земле…
Ойимча плакала беспрестанно, и в плаче родила последнего ребёнка, которого назвали Машрабом, Машрабом…
Жизнь сложилась так, а не иначе, и в силу провидения Аллаха Обид-кори не стал сельским активистом – ни советником райкома, ни редактором киргизско-узбекской газеты «Кошчи ва шарвашы», хотя тянули его, как скотину под нож, на советскую платформу. Не ушёл он и в «басмачи», между тем, как однажды ночью его забрали почти что из постели; слава Аллаху, спал он в ту ночь на супе прямо у наружных ворот, а потому, когда на рассвете он вернулся пешком из Чачма-сая – Ойимча спала окружённая детьми, как гроздь винограда, гроздь винограда…
А случилось тогда вот что. Ёрмухаммад – один из самых молодых и отважных муджахиддинов, занявший наскоком Чачма-сай и закрепившийся с киргизами Алая на этой высоте, откуда открывался вид на всю Моокатскую ложбину, застал в кишлаке старуху, вопившую на всё селение: «Дод, Ёрматни дастидан дод! Худоё худовандо, жувонмарг булиб огзидан лахта-лахта кони кесин!» [50]50
Спаси боже от Ёрмата! Пусть кровь пойдёт его горлом и пусть он умрёт молодым!
[Закрыть]
Не пристало воину надоумливать старуху, но нашлись люди, которые выяснили, на что жалуется и о чём причитает старуха, будто бы джигиты Ёрмухаммада зарезали двух её сыновей, а мужа угнали со скотом. Времени от закатной молитвы и до вечерней хватило воину затем, чтобы установить того, кто торговал его именем. То оказался Янги-Моокатский сарт-юзбоши Махсум-Куллук-почча, который не далее как месяц назад отослал к Ёрмухаммаду в очередные жёны свою младшую дочь – Майсару. Ёрмухаммад принимал эти подношения как знак поддержки его борьбы, а потому ни одной своей новой жены не видел, и жили они целым горным селением близ Шохимардона, вызывая зависть местных советских поэтов. Их никто не охранял, разве что молва, что Ёрмухаммад безжалостен на поле битвы. Да, он был безжалостен во всём.
К полуночи к нему доставили его разоблачённого тестя и местного муллу – Обид-кори. Ёрмухаммад не сказал ни слова о родственных связях с Махсумом-Куллук-поччёй, и даже больше того – не стал его показывать Обиду-кори. Он лишь спросил муллу: как полагается поступить по Шариату, в случае если зарезаны двое невинных, а их отец, угнанный с отнятой скотиной, нашёл свою смерть в ущелье? Обид-кори задумался и на память процитировал Маргинони, правда, добавив, что кровь никогда не смывается кровью, скорее уж слезами…
– Напишите то, что сказано в «Хидае», – сказал сухо Ёрмухаммад, и когда Обид-кори кончил писать цитату, спросил: – Чем я могу вам помочь?
Обид-кори пожал плечами и, подняв руки для молитвы, произнёс:
– Пусть Аллах ведёт вас лишь по верному пути!
Ёрмухаммад не стал задерживать муллу, а приказал снарядить ему лошадь и охранника впридачу, но Обид-кори отказался от лишних хлопот. Родная земля, все его тут знают, – и пошёл пешком в свой кишлак, темневший в долине. Кишлак его темнел, темнел, темнел в долине…
А наутро на базаре, на самом людном месте, где восемь безусых мальчишек торговали лепёшками, да четверо стариков каймаком, обнаружили на подносе голову Махсума-Куллук-поччи с цитатой из «Праведного Пути» Бурханутдина Маргинони, намокшей и разбрякшей от всё еще сочащейся крови…
– О Аллах, почему Ты сделал Свою справедливость столь жестокой, а меня, а меня – невеждой, – шептал Обид-кори во время полдневной молитвы, когда он молился за всех – и правых и неправых, но более всего за запутавшихся, кто путаницей своих душ и стремлений пытается выправить узор, предначертанный Аллахом, предначертанный…
Да, жизнь сложилась так, и не иначе. Через неделю большевики выставили в назидание две отрезанные головы джигитов Ёрмухаммада – с постановлением революционного трибунала, приколотым к горлу жертв. Другие ответили тем, что в одну ночь вырезали по домам всё большевистское руководство Эски-Мооката: од однорукого чекиста Агабекова и до райкомовского мясника Кулдаша, продавшего за крупноголовую скотскую плоть свою веру. В ответ начался «красный террор», когда всё мужское население округи от двадцати и до сорока лет угнали на Крайний Север, как пособников, кто сумел – тот сбежал в горы к Ёрмухаммаду, кто не успел – того расстреляли, а заместо и во исполнение обязанностей мужского населения Мооката расквартировали здесь полк красноармейцев под предводительством татарина Чанышева.
… Урюк поспел во дворе – светлые, прозрачные шарики в листве, листве, листве. Вишня всё больше и больше темнела, невыносимо уже темнела, и дети не успевали её обрывать засветло. Ойимча варила варенья, и вместо сахара заливала фрукты вываркой виноградного сока, а ещё загустевшим сиропом тутовника. Сироп лился вязко и Ойимча, сидя у очага, водила шумовкой по казану вязко, вязко, медленно, вязко…
Обид-кори остался единственным грамотным узбеком в кишлаке. Одни ушли в Кашгар, других угнали на Север, третьи нашли кончину в горах и никто, никто не вернулся. Обид-кори остался единственным узбеком, когда Моокат объявили принадлежащим киргизам.
Его племянник Шир-Гази, женатый на киргизке Нороон, дочери шерстебрея Тоголока, как единственный грамотный киргиз долины, стал первым коренным сельсоветом. Семья Тоголока, сдающая шерсть алайских овец Советам, конечно же, испортила Шир-Гази, но ещё более его испортила сельсоветская власть. Теперь он стал красным и толстым, как брюхо, а голова его сзади напоминала стриженый курдюк овец его тестя. Лишь заделавшись сельсоветом, он переписал всё население Мооката киргизами и обложил его помимо советских налогов вдобавок родовой данью, и даже пытался заручиться при этом фетвой своего дяди, но Обид-кори прогнал его со двора как шайтана, а потому так и не стал последним признанным Советской властью киргизом Мооката. Так и остался Обид-кори последним узбеком кишлака, когда Эски-Моокат стал полностью киргизским.
Между тем этот шайтан Шир-Гази делал с народом что хотел, да так, что его тесть – овцебрей Тоголок стал страшно завидовать своему зятьку, и однажды откровенно попросил того:
– Кляну тебя Лелин-Исталином, дай мне на 15 дней своё место, дай и я понаслаждаюсь властью!
Поначалу Шир-Гази не соглашался, но Тоголок подговорил свою дочь – красавицу Нороон, и через неделю этот красный шайтан собрал своих баранов на свой сельсовет и вынес революционное решение, что едет с проверкой по социалистическим джяйляу, а на время убытия оставляет вместо себя сельсоветом Тоголока Молдо-улы. Взамен 15 дней неистовства Тоголока, когда тот выбрил всё население Эски-Мооката, как собственных баранов, шайтан Шир-Гази получил отару небритых и откормленных овец в урочище Кок-бель, где и провёл эти мучительные полмесяца разлуки с Советской властью.
Но дети росли, несмотря ни на что, дети росли, как наливаются гроздья винограда, грозди винограда… Ойимча вышивала им томными летними днями поясные платки, медленно взмахивая своими лебедиными рукавами-рукавами, медленно взмахивая… Шёлковыми нитками она им вписывала в пояс собственные стихи, и дети заучивали их наизусть, как защиту от навета и дурного глаза.
Почему, почему жизнь сложилась так, а не иначе? И что такое это иначе? Есть ли оно на свете, или только придумано людьми? А может быть дано Аллахом это иначе для людского утешения? Покажется Ойимча, несущая полный сават винограда, винограда, покажется и исчезнет. И только пятнышки солнечного света между, на, под, вокруг листьев, листьев, листьев, остаются вместо её гроздей, её светлых воздушных гроздей.
Не на детей нашёл навет и дурной глаз, и слава Аллаху! А на Обида-кори. Дети всё бегали на базар, нося по праздникам куриные яйца для боя, и возвращался младший, названный Машрабом, всё время плача, – сын Соата-ростовщика разбивал все яйца, о которые ломались зубы своим яйцевидным камнем, найденным на Какыр-сае. И никто не мог доказать, что это камень, а не яйцо.
Да, припомнили Обиду-кори всё – и то, что он учился в рассаднике опиума для народа, и что участвовал в буржуазно-националистическом кокандском съезде, и то, что он не прекратил верить в своего Аллаха в эпоху воинствующего материализма. А ещё вменили ему предательство Родины и измену киргизскому народу. И кто бы, спрашивается, вменил ему всё это по 58 статье? Сын Кузи-кумалака Кукаш-пучук, которого Обид-кори выучил грамоте. Теперь этот зеленоглазый сартовский отпрыск, ставший киргизом-НКВДшником, допрашивал через день Обида-кори в областной тюрьме.
Ойимча несла полный сават винограда, светлые кисти, светлые грозди винограда, винограда, винограда, когда четверо милиционеров во главе с сельсоветом – его собственным племянником – Шир-Гази – забрали его из дому, как врага народа.
И дети были на базаре, и двор был пуст, и только пятна света, пятна света повсюду, и там, и тут, лежали на земле его двора, покрытого тенью листвы, листвы, листвы. Так плакала, так рыдала Ойимча из глубины дома, вынужденная скрыться от этих номахрамов [51]51
нечестивцы
[Закрыть], её безъязыкий плач доносился ещё долго после ворот, как гроздь за гроздью, гроздь за гроздью…
Виноград рассыпался по двору, Шир-Гази и четверо милиционеров шли по нему сапогами, втирая, вминая, втаптывая его пятнами света, пятнами света по пустынному двору, двору, двору…
Да, жизнь сложилась так, и не могла сложиться иначе. Слова могут сложиться иначе, слова можно переписать, пересказать или переврать, как делает этот зеленоглазый даджал [52]52
чёрт Судного Дня
[Закрыть]Кукаш-пучук, но жизнь – она одна и она от Аллаха. И что мы знаем о ней? Между слов она неощутима, невесома, как лучи солнца между листвы, между листвы. И только тень листвы ловит эти пятнышки света, окружает, окаймляет, определяет, заключает, арестовывает.
В словах совершается жизнь: кто-то говорит или думает: он поступил хорошо или: он поступил плохо. Но что такое хорошо или плохо вне слов? Или же когда слова перевёрнуты с ног на голову – не листья отбрасывают тень, диктуемую всё тем же светом, а тень рождает листья и листья производят свет.
Тюремная решётка в маленьком окошке, куда смотрел после молитв Обид-кори, точно так же относилась к небу с его солнцем, с его синью, с его редкими белыми облаками. Две полосы снизу вверх и шесть ржавых перехватов поперёк.
И всякий раз после допроса этого зеленоглазого даджала, когда любой из ответов Обида-кори оборачивался против него же самого, старик, совершенно отказываясь что-либо понимать, сидел на каменном топчане перед этим зарешёченным окошком и вперемежку с бесконечными молитвами, возвращавшими словам их смысл, вспоминая семейную легенду Ойимчи, Ойимчи…
Дед Ойимчи по матери Мулла Тусмухаммад-охун учился в молодости в том же самом бухарском медресе Мири-Араб, где полвека спустя учился и сам Обид-кори. Однажды зимой за чтением Корана в худжре он и не заметил, что выпал снег. Да такой, что дверь худжры совсем не отворялась наружу. Тусмухаммад опять засел за Коран. А снег тем временем шёл и шёл. Три дня и три ночи шёл этот снег. Но может быть и дольше, ведь все запасы пищи – всю свою жидкую аталу [53]53
мучная похлёбка
[Закрыть]съел Тусмухаммад, отрываясь изредка от чтения. А снег не прекращался. И пища в келье кончилась, и время не останавливалось. И Тусмухаммад молился и читал Коран, молился и читал. И уже счёт дням и ночам потерял Мулла Тусмухаммад-охун. А снег не прекращался. И вот сидел он в один из бесконечных дней или в одну из бесконечных ночей, вслушивался в шорох снега и думал о могуществе Аллаха, насылающего на эту землю людей как снег – снежинка за снежинкой, снежинка за снежинкой, когда в углу его худжры раздался странный шум. И вдруг он увидел, что светящаяся курица с семью золотыми цыплятами вышла из этого угла и пересеча худжру, вышла в дверь, растворившуюся перед ней вместе с вековым снегом. Солнце светило на улице, и муэдзин призывал правоверных на молитву. А глазам Тусмухаммада-охуна стало так нестерпимо от сини, сини, сини, что ещё Обид-кори видел следы этого небесного цвета сини в глазах ослепшего Муллы Тусмухаммад-охуна.








