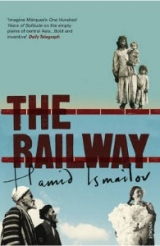
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Глава 35
И опять я не знаю, правду ли я рассказал о той ночи? Нет, нет, не в том смысле, что касается всего происшедшего – всё было так, как записано на тех самых листах, нет, я о том – кто это всё подстроил. Легче всего валить на Учмах, кто-то говорил, что Оппок-ойим в старческой тоске по своему мужу-скитальцу прибегла к крайнему средству, кто-то пенял на поросшую бородавками Нахшон, кто-то припомнил Мусаева и ещё бог весть кого. Мефодий, начитавшийся манновских книг и лишившись теперь пансиона, так что Кун-охун по-обычному, я бы сказал заурядно мочился на него на станции, как мог бы мочиться, к примеру, на столб, и вовсе сочинял бредни о триединстве Гумера, Шапика и ещё кого-то третьего, но умные люди быстро раскусили в этом его исконную привычку скидываться «на троих», которая со смертью Тимурхана трансформировалась в испитых мозгах юриста в некие высокие идеологии. Но никто, никто в Гиласе не вспомнил о старшем сыне фронтовика Фатхуллы – ума, совести и чести махалли – об отставном инженере и нынешнем учителе черчения – Ризо-штангенциркуле.
Ризо родился ещё в войну, когда контуженный и ослепший на один глаз Фатхулла был досрочно до Победы демобилизован, дабы мобилизовывать на фронтовой ударный труд женщин Гиласа. За этой мобилизацией и родился от мелкоглазой красавицы Зеби, ударницы артели Папанина – трёхглазый Ризо, ставший впоследствии Штангенциркулем. А трёхглазый потому, что над переносицей у него была ямочка с миндаль, которая и казалась чудным третьим глазом.
Семнадцатилетним юношей отдал его Фатхулла, пользуясь своим фронтовым правом, в институт железной дороги, дабы вернулся Ризо в родной Гилас инженером кагановичских дорог, да вот в институте тот увлёкся совершенно иными проблемами. Нет, нет, далеко не теми, о которых вы подумали, нет, он не пил, не курил, не гулял, но вместо теории прокладки железных дорог по лёссовым почвам и песчанику, он увлёкся, бог знает почему, теорией тени.
Он не только перечитал и законспектировал всё, что имелось во всех библиотеках по этому вопросу, но и просиживал воскресными днями на солнце, изучая малейшее изменение своей собственной тени то на крыше, то у озера, то в общежитии, то на стадионе. Студенческая братия всего города, так или иначе соприкасавшаяся курсовыми или дипломами с этой проблемой, шла через немыслимые посредничества к нему, и он в охотку писал то вечернику-полиграфисту сочинение на тему: «Тень в петербургских романах Достоевского» или же филологу-заочнице курсовую: «Тень Гоголя на Булгакове». Правда, большей частью из его доброхотства проистекали одни неприятности: работу полиграфиста награждали дипломом, который тот не хотел получать, а курсовая филологички-заочницы – технической секретарши какого-то Парткома тянула и вовсе на на кандидатскую диссертацию, и преподаватели трёх кафедр начинали охотиться за бедной техсекретаршей, пытаясь сосватать её к себе и тем самым оторвать её от регулярных парткомовских праздничных пайков.
Но Ризо не тщеславился. Он шёл дальше. Когда окончив довольно посредственно свой институт, он вернулся в Г илас, Фатхулла-фронтовик сумел устроить его по своей фронтовой квоте всего-навсего помощником дорожных дел мастера Белкова. Но к тому времени Ризо уже научился уничтожать собственную тень. Летними днями уже на закате, в то время как старик Аляапсинду волочил за собой наросшую, как его возраст, тень, Ризо то ли системой отражающих зеркал, то ли свойствами предметов, то ли способностью своего тела, испускающего невидимый свет третьего глаза, проходил следом за Аляапсинду по тем же проулкам, как будто бы шёл в полдень 22 июня – с пятачками тени лишь под подошвами.
А однажды на спор с корейцем Илюшей, которому осёл Ризо в детстве откусил пол-уха, за что того прозвали «Полтора», Ризо лишил тени и самого старика Аляапсинду, после чего обезумевший старик и вовсе перестал выходить на улицу, затосковал и умер.
Тогда-то и уволил его дорожных дел мастер Белков из-под своего начала. Тогда-то и устроился Ризо учителем черчения в школу, перестав напрочь интересоваться земными тенями.
Некоторое время спустя его стали замечать по ночам с подзорной трубой на крыше и всё тот же школьный его товарищ – Илюша по кличке «Полтора» оповестил Гилас по пьянке, что Ризо взялся за звёзды, а особенно за лунные и солнечные затмения. Он же запугивал по пьянке сельпошника Зухуруддина, который отказывался продавать водку в розлив, что скоро Ризо нашлёт на Гилас ужасное затмение…
Всполошённый Зухуруддин пошёл тогда в махаллинский комитет к Фатхулле и поделился страшной сплетней. Фатхулла – родной отец Ризо, успокоил встревоженного Зухура, как будто его воля распространялась не только на своего сына, но и на затмения, подчиняемые или учиняемые Ризо-Штангенциркулем. И всё же на всякий случай поздним вечером того же дня, вернувшись из чайханы, Фатхулла отозвал в сторону старшего сына и затеял разговор издалека:
– Вот и мы уже с матерью старимся, сын мой, старики Гиласа стали потихоньку вымирать. Вон Гумер, вон Умарали-судхур, вон Аляапсинду…
– Но я им ничего не сделал… – вдруг разволновался Ризо.
– Да нет, я не о том… вот ты будто бы затеял устроить затмение… Не надо беспокоить людей. Тем более что Зухуруддину выгрузили российскую картошку, вот посмотри, он обещал оставить мешок.
– Папа, да что вы говорите, побойтесь Аллаха, разве в людских силах такое?! Волосок не упадёт без повеления…
– Вот и я говорю, не делай плохих дел. Если делаешь что-то, то делай хорошо!
И отец стал рассказывать, как на войне они с хохлом Петро таскали немецких «языков». Ризо выслушал этот рассказ, держа в руках картошку, которую через отца передал Зухуруддин и лишь после этого, дабы придержаться хоть в чём-то научности, он вдруг стал показывать отцу каким образом случаются затмения, когда лампочку принять за солнце, лицо отца за землю, а эту картошку за луну. Он повёл этой луной, и в то мгновение, когда тень картошки упала и покрыла единственный глаз Фатхуллы, вдруг начались какие-то крики в махалле, откуда-то со стороны двора Оппок-ойим, чьи ворота выходили на другую улицу. Тени запрыгали и, закрутившись, полезли в дом, чтобы поползти по стене. Фатхулла по привычке схватился за солдатский ремень, на котором болтался кривой чустский нож и бросился на улицу, Ризо метнулся за ним, и сквозь пыльный виноградник они оба увидели, как сгорает на глазах луна, подобно вот-вот запылающему обрывку бумаги…
– Говорил я тебе, не делай этого! – крикнул Фатхулла и залепил оплеуху сыну. Сын молчал с картошкой в руках…
Гилас высыпал на улицу. Бедный Фатхулла не знал, куда девать от стыда свой единственный глаз.
На следующий день после обнаружения спозаранку всего происшедшего за ночь в тугаях, ум, совесть и честь махалли одноглазый фронтовик Фатхулла прогнал из дому, предварительно прокляв добела, своего сына Ризо.
И вот шёл Ризо по железной дороге в сторону мойки, сам не зная куда, и разбирался со своими мыслями. Мысль всегда строится согласно дороге – самые неразрешимые свои противоречия научился разрешать Ризо между двумя линиями рельс в свою бытность помощником дорожных дел мастера Белкова. Вот и сейчас он думал так:
«Я ступаю шаг за шагом, со шпалы на шпалу. Вот моя нога поднимается и опускается на позаследующую шпалу. Она теперь упрочилась здесь. Вот пошла другая – тем же самым движением. А что же остаётся на позапрошлой шпале? Стоп! Повторим ещё раз. Вот – моя нога ещё на позапрошлой шпале. На позаследующей – ещё пустота. И вот моя нога пошла и заполнила эту пустоту, обулась в это пустое пространство. Но поскольку мгновением раньше она занимала ту же форму пространства на позапрошлой шпале, то не переместилась ли эта пустая форма с позаследующей шпалы на позапрошлую? То есть я двигаюсь вперёд, а моя пустая тень – ровно противоположно. И если соединить моё движение от шлагбаума и до мойки, то не двигалась ли эта занимаемая мною теперь пустота от мойки и до шлагбаума? Начертим условный чертёж… – и Ризо по прозвищу Штангенциркуль наклонился над шпалой, чтобы острым камушком железнодорожной насыпи начертить по шпальному креозоту:

Вот присутствие, существование этого зачерченного круга А, который будет перемещён по стрелке вправо до своего нынешнего отсутствия, очерченного контурным кругом В. Когда он достигнет этого круга В, его отсутствие, вытесненное его присутствием, переместится на место А, т. е. А и В поменяются местами, но при всём при этом их формы, поскольку ничто в природе не уничтожается и не создаётся, будут одинаковыми, то есть… – но не успел Ризо додумать своей ясной мысли, как из её небытия, свища своим свистком, маша своими разноцветными флажками, и еще при этом умудряясь материть его на чём свет стоит, навстречу к нему бежал впереди катящегося акмолинского маневрового состава Таджи-Мурад-тажанг. Мысль Ризо метнулась к нему навстречу и вместо своей пустой и чистой оболочки наткнулась на отборный мат Таджи:
– Кутокка тункайиб утирибсанми! Кузингни корачигига ский, пойиз амийни чикарворадию! Ха Иштонгинсирка буган отийни памилиясига обиманим! [106]106
Какого х. я сидишь раком? Е. ть тебя в зрачок, ведь поезд вы. ит тебя! Ё… я твою имя-фамилию Штангенциркуль!
[Закрыть]
Ошарашенный от несоответствия чистой мыслительной трансценденции своему внезапному наполнению, Ризо лишь успел разогнуть затёкшую спину, как налетевший вслед мату, свисту и машьбе Таджи врезался в него как вагон в вагон и выбил его прямо из-под колёс накатывавшегося вслед за ним спущенного с горки вагона…
Так и лежали они, вальтом, отдышиваясь – один от испуга, другой от запутавшихся внезапно мыслей, как, воспользовавшись прикрытием вагона, железную дорогу стал перебегать поперёк Наби-однорук с мешком ворованных хлопковых семян и, перепрыгнув через рельсу, споткнулся о многомысленный 44 размера башмак Ризо, чтобы грохнуться с разлёту, да так, что пол-полотна засеяло похищенными семенами.
– Аха, е. ётесь! – вскочил первым Наби-однорук, выхватывая по привычке инициативу. Его указательный палец привычно вбуравился в небо, но распространиться ему на этот раз не удалось, – сторож шерстемойки Казакбай-окюмет, которому, впрочем, и таскал теперь скотопитательные семена Наби, перепугавшись огласки, бабахнул из табельной двустволки и снёс по основание богопризывный палец однорука. Тот в воплем замертво кинулся прочь с полотна, а вскакивавший для свищения, сверещания Таджи-Мурад врезал своим тяжёлым железнодорожным башмаком по лбу бедного Ризо, и тот в ослепительном свете этого удара увидел две рельсы, метнувшиеся навстречу друг другу от горизонта и до горизонта, и вдруг, внезапно заметил намертво прихватившие их шпалы, и всё разом поняв в этой жизни, потерял сознание в глубоком нокауте.
Глава 36
Тем летом Китов полетел в Космос и когда об этом сообщили по базарному громкоговорителю, его тетушки во дворе под густым виноградником наглаживали рубашки и штанишки ко дню обрезания. Мальчик стоял рядом с ними и единственный изо всех услышал голос всех радиостанций Советского Союза. Это он первым назвал фамилию космонавта: Китов, хотя тут же базарный громкоговоритель был перебит хрипом станционного репродуктора, по которому Темир-йул прохрипел своё извечное: «Вунимание, вунимание, гираждыни псажири, абъявлен выхид пиригиридним поездым Сыр-Дарьински – Дарбаза – Чингильды. Поиз пиринимайс на тиретий пут, истаянк адна мнут!»
Мальчик запрыгал от неведомой радости, может быть потому, что уже понимал, что значит полететь в космос, не то, что в первый раз, когда его тётушка Нафиса принесла – швыряя портфель в небо – весть: «Ляганов полетел в космос, Ляганов в космосе!» Тогда мальчик перепугался, что кто-то взял и полетел в небо, без крыльев, без приспособлений, просто обидевшись или повздорив с людьми, или напротив, назло им всем, полетел как портфель Нафиски, а из него посыпались тетрадки, учебники, ручки…
Нет, теперь мальчик сам услышал первым эту новость: «Китов полетел в космос, Китов в космосе!» – да вот швырнуть в небо было нечем – шли каникулы и назавтра готовилось его обрезание, а потому двор был прибран и полит водой.
Он радовался так, как будто уже ввели во двор жеребца, которого ему обещали ещё месяц назад, ведь уже завтра ему предстояло сесть на него и кружить вокруг огня до опьянения, чтобы потом не было больно. Он скакал по пятнышкам солнца, падающим на политую тенистую землю сквозь густой и пыльный виноградный навес, как скакал бы на его месте жеребёнок, понимай он, что значит улететь в космос. Китов улетел в космос! Китов – в космосе!
Никто его не осаживал, ни тётушки, ни вышедшая из тёмного дома бабушка, он чувствовал свою именинность, а потому скакал, пока не устал, пока не вошёл в калитку дед, а вернее «дедчим», поскольку родного деда, как, впрочем, и родного отца у мальчика не было. Дедчим прошёл в тёмный дом, за ним потянулись и бабушка, и обе тётушки, и даже помогавшая им Робия – младшая дочь Курбон-биби, тётушка Кабыла-кавунбаша, который играл сейчас в орехи с Кутром, Хосейном и двумя люльчатами Сабиром и Сабитом под вишнями у окон Хуврона-брадобрея и, конечно же, ничего не знал ни о Китове, ни о космосе…
Мальчика так и подмывало выйти к ним и объявить о новости, что он услышал первым, но терять своего именниного достоинства так, по пустякам, ему не хотелось, а потому, ещё не решив, как быть, он тоже потянулся вслед за тётушками в тёмный дом, чтобы по меньшей мере похвалиться Китовым перед дедом.
Но лишь только он переступил через порог, как тут же всё понял: дед обречённо говорил:
– Жуда киммат экан, пулим етмади, [107]107
– Очень дорого, денег не хватило…
[Закрыть]– бабушка завздыхала, а одна из тётушек с места и заплакала…
Мальчик понял: это о жеребце. Глаза его сами по себе наполнились слезами и он стал, как вкопанный… Потянувшиеся было из внутренней комнаты обратно во двор тётушки наткнулись в полутьме на него и уже откровенно заплакали, хотя неизвестно почему, пока не вышла следом бабушка и не погнала их во двор, приговаривая, что грех плакать перед празднеством. Мальчика она не заметила.
Вот это и придало ему злость, он вытер слёзы и пошёл на улицу, совсем уже забыв и о Китове, и о своей именинности.
Нет, Кабыла под окнами Хуврона-брадобрея не было. В орехи играли Кутр и двое чёрных люльчат – Сабир и Сабит, Хосейн же сидел, прислонившись к своему дому, видимо уже проиграв и глядя не на орехи, а на долговязого Шапика, ковырявшего в носу, приткнувшись под вишнями.
По полдневному проулку, волоча свою куцую тень, прошёл старик Аляапсинду, и мальчик едва лишь подошёл к игрокам, как вслед за стариком прибежал Кабыл-дынеголов, крича: «Битов в космосе, Битов полетел в космос!» Как старику Аляапсинду, безоглядно волочащему свою прибывающую тень, мальчику не захотелось почему-то ни перебывать Кавунбаша, ни доказывать тому, что не Битов, а Китов полетел в космос, и что на самом деле он первым узнал об этом, что именно он сообщил об этом его тётушке Робие… Ничего мальчику под солнцем не хотелось…
– А ему лошадь не купили, – закончил сводку Кабыл, и тогда мальчик сонно подошёл к тому и наискось залепил оплеуху по его дынной голове. Тот замолчал, и только Шапик, как раскручивающийся мотор в несколько оборотов, заладил своё:
– Во… во… во… во… бля… во бля… во бля… даёт…
Игроки на секунду оторвались от игры и опять уткнулись в неё, потому что на последнем гане Кутр поставил «ганаш». Игра приближалась к развязке. И вдруг вместо того, чтобы играть на «ганаш» и выиграть последний орех или же проиграть все выигранные раньше, люльчонок Сабир вдруг схватил последний ган и припустился, крича на ходу:
– Собит, коч! [108]108
– Сабит, тикай!
[Закрыть]
Сабит, более долговязый чем Сабир – впол-Шапика ростом, метнулся было вслед за братишкой, но ловкий и юркий Кутр успел подставить подножку, и тот грохнулся всеми костями на Шапика. Завязалась маленькая драчка, в которой короткий Кутр все пытался угодить по яйцам верзилы Сабита, а тот почему-то колошматил никчёмного Шапика. И только окрик Фатхуллы-фронтовика заставил и Кутра, который изо дня в день вставлял колышки в первый дверной звонок одноглазого Фатхуллы, и Сабита, окликаемого издали своим чернеющим братом, метнуться по двум сторонам, заканчивая сегодняшнюю игру.
Так и остались они вчетвером в тени, пока не прошёл под солнцем бывший участковый Мусаев, бормоча какие-то лозунги, и тогда Кабыл-кавунбаш предложил сыграть в фильмы…
Вот так и кончился этот день, пусто и ненужно, пока к вечеру вслед за Сатыбалды-домкомом не стали собираться к ним люди из махалли на резку моркови для плова и приготовления завтрашнего пира. Первым пришёл Наби-однорук и поскольку одной рукой он не мог ничего делать, то стал попросту руководить теми, кто приходил позже него. Таджи-Мурада, Ризо-Штангенциркуля и Файзуллу-ФЗУ он посадил за резку моркови, Кун-охуна и Тимурхана послал рубить дрова и колоть уголь. Толиб-мясник занимался разделкой туши, Темир-йул руководил расставлением длинных столов и скамей, Фатхулла посылал гонцов по махаллям и сводил воедино примерное число гостей, к ночи приехал Гаранг-домла и проверил всё ли готово к обряду, поссовет Турдали привёл своего сына Шерзода, который завтра должен был послужить мальчику вместо жеребца, и даже киношник Ортик, кончив прокрутку своего очередного индийского фильма, зашёл к полуночи, чтобы выпить пиалку чая.
Женщины всей махалли готовились сами по себе, в глубине комнат, одна Оппок-ойим всё ещё не приехала из города, куда уехала сватать на завтрашний пир боготворимого и неуловимого Бахриддина. У соседки Айши, две её вдовые домочадки – Сания и Учмах нарезали платки и полотенца из бязи, купленной подешёвке из дома Соли-складовщика. «Ворованное – самое лучшее!» – определила Айша, поскольку домашняя бязь складовщика была столь прочна, что ножницы тупились быстрее, чем старушка Айша успевала бегать к Хуврону-брадобрею в будку, где тот натачивал на своих ремнях не только эти ножницы, но и ножи, которыми резали морковь и лук, мясо и сало, картошку и тыкву, дыни и арбузы.
Словом, вся махалля была при деле, даже горбатый еврей Дядя Моня, о котором никто ничего не знал, и тот вышел красить к пиршеству свою калитку.
Ровно к полуночи землекоп русского кладбища татарин Риф выкопал отменный очаг, на который навесили огромный – на 25 килограммов риса казан, привезённый на грузовике из Кок-терека от старика Занги-бобо мордвином Мурзиным и Мефодием-юрфаком. Заработанную бутыль Мурзин отдал Мефодию, поскольку сам ещё был, как он говаривал, «за рублём». Мефодий же быстро соединил свою извечную троицу вместе с Кун-охуном и Тимурханом и некоторое время спустя они все втроём ушли на станцию, исполнять свой вечный обряд, но ушли на этот раз без шума.
Мальчик не спал эту ночь и впервые не по недосмотру взрослых, а по их настоянию. Надо было устать к завтрашнему событию, чтобы легче его перенести, а может быть ещё зачем, – многое творилось в эту ночь впервые – впервые в тандыре у бабушки пекла лепёшки наёмная Рохбар, впервые дед не насмешничал над двумя одноглазыми с разных сторон друзьями – ширазским персиянином Джебралем и чустовским таджиком Фатхуллой, сталкивая их лбами – он осанисто, как надлежит хозяину происходящего, наблюдал за всем из тени, шепча что-то своим детям-гонцам, и те уже передавали его распоряжения Наби-одноруку, который уже трещал, как мог…
Но как ни старался мальчик уследить за всем, поскольку ему то и наказывала бабушка, а всё же ближе к утру, поев у тётушки Рохбар в её сарайчике горячей – прямо из тандыра – лепёшки, он сел на хлопковую шелуху, в которую на зиму дед закладывал огромные чёрные арбузы, и как-то прикорнул. Едва ли он спал долго – всего какой-то обрывок сна, из которого его извлёк голос бабушки: «Ну-ка, примерь это!» А успел он увидеть вот что: будто бы в каком-то лапчатом лесу, так что из-под него совсем не видно неба, мальчик натыкается на дупло, кишащее осами, и сзади этого дерева вдруг появляется тётушка Рохбар, которая оказывается одноруким дядей Наби, сосущим свою единственную руку, обмакнутую то ли в мёд, то ли в боль. «Я здесь пасечник», – говорит бабушка тётушке Оппок-ойим, у которой почему-то уже вместо руки отнимается нога, «Давай-ка теперь обмакнём сюда твою пипиську»… Мальчик пугается, замечая смеющихся в стороне люльчат и плачущего Шапика, слышит: «Ну-ка, примерь это…». Когда отнятая пиписька превращается в руках в школьную ручку, он печально успевает подумать о спасительном жеребёнке, но видит у коновязи лишь приставленную лесенку… и обнаруживает всё ту же самую живую лесенку в закутке у тёти Рохбар и слышит живой голос бабушки: «Ну-ка примерь эти сапожки…»
Мальчик сел на нижний перехват лесенки и только теперь припоминая свой сон, стал примеривать новые сапоги.
– Тормасми?
– Этигим тор булса – дунёни кенглигидан не фойда [109]109
– Не малы?
– Что мне польза оттого, что мир велик, если мне жмут сапоги?
[Закрыть], – произнёс мальчик охрипшим от краткого сна голосом, женщины всплеснули руками и расхохотались, а тётя Рохбар, та и вовсе пошлёпала рапидой [110]110
нарукавник для печенья лепёшек
[Закрыть]по попке.
– Совсем уже джигит!
Он вышел в этих сапогах, несколько жавших его расползшиеся за босое лето ноги, но жали легко и удобно, как будто бы ступни его покрылись от долгого босоножничания новой облаткой, и он прошёлся, стуча как будто костяными ногами по цементному пятачку сразу после калитки.
Занимался летний, скорый на подъём рассвет. Петухи Мартинсонов будили ишака люли Ибодулло-махсума, а тот – колхозных коров на ферме «Самараси» Фронтовик Фатхулла отпросился на полчаса и погнал своих ветеранских баранов в тугаи Солёного арыка. Последними захрюкали свиньи корейцев и их запах, отлежавшийся за ночь, пошёл на некоторых струях рассветного ветра в сторону станции, где вовсю уже дудел Акмолин и сверещал свистком, пугая невыспавшихся ворон – невыспавшийся Таджи-Мурад. С рассветом, но еще невставшим солнцем люди потянулись к ним на плов.
Первым пришёл ещё сморщенный и не распустившийся после ночной зябкости Рахмон-Кул одиночка – сын Чинали. В последнее время он торговал пивом на остановке, а потому торопился разбавить его водой до начала движения транспорта. Чуть погодя, когда Рахман-Кул, выслушав молитву от Гаранг-домуллы, только коснулся с ним плова на двоих, вошли вдвоём два шофёра Мурзин и Саймулин – один мордвин, другой чуваш, решившие подкрепиться перед выездом в рейс. Следом, четверых весовщиков коктерекского базара привёл с собой наследник Оппок-ойим – Долим-даллол. Потом Таджи-Мурад, держа свисток во рту, привёл Акмолина, оставившего свой маневровый тепловоз на запасном пути напротив будки Юсуфа-сапожника, который по случаю пловоедства надел зелёную маргеланскую тюбетейку и плёлся, кланяясь на всякий случай и направо, и налево. Вышел Хуврон-брадобрей, пришла махалля с хлопзавода, потом татары с шерстьфабрики, одиннадцать корейцев футболистов перед отъездом в колхоз «Политотдел» на товарищескую встречу с соплеменниками, вслед за ними пришёл люли Ибодулло-махсум, Логинов, Башачук, два Мартинсона. Следом за ними, держа по-узбекски руку пониже сердца, пришёл дорожных дел мастер Белков. Гаранг-домулла уже не справлялся со чтением молитв на приход всякого гостя, а потому по разным углам за встречные молитвы засели и вернувшийся с выпаса фронтовик Фатхулла, и Наби-однорук, что по-шиитски махал единственной рукой перед сыном второго персиянина Гиласа Али Джеффара – Джефарром Али. Тут же после молитв им подавали плов, те чинно отъедали и, запив ленивой пиалкой зелёного чая, ещё раз выслушивали молитву то Толиба-мясника, то подошедшего Кули-бобо, а то и примазавшего к книгочеям Кун-охуна, протрезвевшего после ночной гражданской казни, и вставали, дабы вымыв руки, идти на работу в новый день.
Осман Бесфамильный привёл своего бывшего коллегу, злосчастного Мусаева, со вставшим солнцем, волоча свою тень, вошёл в одиночестве старик Аляапсинду, еврей дядя Мойша трижды выходил по воду к крану, пока его не пригласил с собой отведать бесплатного плова полуузбек Наум по кличке «Дай мало ум!» Пришёл заспанный Мукум-букур, делая вид, что идёт с другого плова, хотя все знали, что в это утро никто в округе плова не давал. Райком партии привёз первого фронтовика Гиласа, недавно освобождённого из лагерей Муллу Ульмаса-куккуза – мужа Оппок-ойим и зятя почившего первого большевика Октама-уруса. Поссовет ему в отместку привёз первого жителя Гиласа – слепого старика Гумера. Тот долго шарил рукой и несвязно просил показать ему виновника, и когда мальчик подошёл к дряхлому и прозрачному слепцу, тот отложил в сторону свой бязевый мешочек, что-то шепнул мальчику на ухо и погладив по головке, дал ему какой-то амулет – то ли землю из-под первой шпалы Гиласа, то ли осколок первого кирпича с хлопзавода, то ли какую-то бумажку, вшитую в чёрный бархатный треугольничек, чтобы следом благословить мальчика. Правда, пах Гумер почему-то хлороформом и валерьянкой, а потому мальчик поспешил тут же отойти от него, и, слава Богу, старика повели есть плов с Муллой Ульмасом-куккузом – всегда блаженно улыбающимся, не зная на каком языке с ним заговорят…
К одиннадцати часам пошли женщины – доедать оставшийся плов и наново сваренный Мохорой-холой гороховый суп. Впрочем, мальчик уже не следил, кто за кем и с кем приходит. Ему нужно было идти в соседский двор к тёте Айше, купаться в тазике перед обрядом. Там он купался в корыте под присмотром своей тётушки и медички тёти Жанны, которая обливала его водой и тёрла мочалкой, но не это было противно, а то, что все три вдовы то и дело сновали вокруг, кто поднося ковшик, кто тёплую воду, кто полотенчико, но каждая считала своим долгом пощипать его пипиську, что сморщилась от неловкости, и отпустить какую-нибудь шутку по её поводу. И даже когда он был искупан и вытерт насухо, тётушка Учмах высморкалась в сторону и теми же сопливыми пальцами опять коснулась пиписьки, как будто бы это был платок! Ф-фу! Так и застыли её сопли по ободку и уже одетый в праздничный разноцветный наряд мальчик всё пытался оттереть эту корочку своими батистовыми штанами, но те только скользили по нему, раздувая пипиську и нестерпимо увеличивая противный след…
Когда он шёл обратно домой, под вишнями Хуврона-брадобрея уже собрались играть в орехи и Кутр, и Шапик и Хосейн, и Сабир с Сабитом, и Кабыл, и Кара и Борат… Наконец, к часу его голодного и невыспавшегося напоили пиалкой горького и противного коньяка, сказав, что это лекарство, дали заесть полной горстью сушённого изюма и посадили на спину дяди Шерзода, который вместо жеребца должен был кружить мальчика вокруг уже разгорающегося костра.
Как-то мгновенно и остро кольнуло в сердце воспоминание ночного минутного сна, и мальчик обхватил борцовскую шею Шерзода. Они вышли во двор. Увы, огонь ещё не разгорелся. Быстро сбегали за какой-то стопкой бумаг – бумаги в стопках не горели, Мидхат-чулак посоветовал плеснуть керосином, но керосина не нашли, послали детей за кружкой бензина к Мурзину или Саймулину. Те были в рейсе. Кто-то сбегал наконец, к переезду на автозаправку и принёс не кружку, а целую канистру. Плеснули бензином и костёр вспыхнул, обдав его таким же жаром, что шёл тошнотворно и изнутри и тут они пошли вокруг костра.
Горел костёр. Пламя подхватывало листы из стопок и возносило их опалёнными в высь. Дети – кроме Хосейна и двух люльчат сбежались смотреть как закупленный Оппок-ойим в городе Кахрамон Дадаев барабанит в пять бубнов.
Горел костёр. Старик Аляапсинду, проходивший мимо увидел, как пляшет его тень при неподвижно оцепеневшем теле и уже падающий, был подхвачен сыном Фатхуллы-фронтовика Ризо-Штангенциркулем…
Горел костёр. Сабир и Сабит повели Хосейна на Зах-арык, пока отец его Хуврон-брадобрей точил лезвие Гаранг-домуллы для обрезания…
Горел костёр. Слепой Гумер, вернувшись с плова в свой затхлый дом, вдруг с острой болью в груди обнаружил, что где-то оставил свой бязевый мешочек полный бумаг, с которыми никогда не расставался. Но Нахшон уехала в город на процесс крымских татар, а пионеры были на каникулах…
Горел костёр. Мальчика всё больше и больше тошнило от этих мимо уставившихся, кружащихся лиц: Учмах, обдавшей ему пипиську соплями, Жанны-медички, не смывшей эти сопли, Толиба-мясника, прижимавшегося в густой толпе к толстому заду подслеповатой Бойкуш, Таджи-Мурада со свистком на шее, не замечавшего этого из-за еженедельной порции двухкилограммового бескостного мяса, кости которого попадали бабушке.
Горел костёр. Сабир и Сабит привели Хосейна на пустынный берег Зах-арыка и, поныряв в воду, стали звать с мелкого берега Хосейна. Тот, не умеющий плавать из-за строгих нравов своей шиитской семьи, разделся до белого гола и осторожно сполз в воду. Сабит и Сабир сначала из озорства, а потом всё более и более упиваясь своим могуществом, стали топить Хосейна. Тот начал кричать. «Бакирма, сикаман хозир!» [111]111
Не кричи, вы. бу сейчас!
[Закрыть]– крикнул из испуга маленький Сабир, а большой, уже мучившийся по ночам поллюциями, днями же онанизмом, вздрогнул от тока крови и прямо там, в воде предложил: «Давай кутига сикамиз! [112]112
Давай вы. бем его в жопу!
[Закрыть]»… Хосейн уже плакал, и тогда они снова стали его топить…
Тогда обессиленный, он согласился на это, лишь бы вывели его из этой ледяной и страшной воды, переполнившей ему все тошнотворные внутренности. На голом берегу, уткнув его лицом в толстую и горячую пыль и поставив «раком», сначала костистый Сабит прожёг ноющий и пульсирующий зад своим быстрым семенем, а потом Сабир ёрзал на нём, пока Сабит держал его, вырывающегося и ревущего, за руки, зажав голову между ног, отчего всё лицо Хосейна перемазалось слюнями, слезами и сопливым люливским семенем.
Потом, когда ещё бессемённый Сабир слез с него, удовлетворив свою щекотку, из расслабившегося от отчаяния зада Хосейна сам собой пошёл понос, перемежаемый вогнанным газом, отчего братья пришли в ярость и перевязали ему его собственной майкой руки за спиной, а штанами – ноги у щиколоток.
«Улдираман! Барибир улдираман! [113]113
Убью, всё равно убью!
[Закрыть]» – ревел мальчишка, тогда люльчата, увидев вдалеке старика Занги-бобо, собиравшего по полевым арыкам мяту для облагораживания своего насвоя на курином помёте, перепуганные, засунули Хосейну в рот его рубашку. Хосейн укусил до крови руку Сабира, но Сабит пнул его со всего размаху в глаз, и пока Хосейн приходил от удара в себя, успел заткнуть ему рот. Кровь и сопли не давали дышать Хосейну и он стал дёргаться в судорогах…
– Кара, улвотти… [114]114
Смотри, умирает…
[Закрыть] – перепугался младший Сабир, но Сабит уже знал, что надо делать:
– Давай, сувга ташиймиз [115]115
Давай, бросим его в воду!
[Закрыть]!
Они попытались поднять дёргающегося Хосейна, но только стянули узел с его ног, а потому просто стали перекатывать его по берегу и, всего его измазанного пылью и кровью, плюхнули в воду.
В воде Хосейн отчаянно задёргался, и даже кляп вытек из его рта – он жадно схватил ртом воздух и в следующее мгновение нечеловечески закричал.








