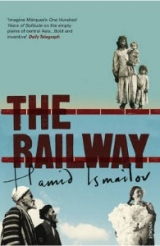
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Солнце стекало красным пятном с высоких и далеких тополей, стоявших, наверное, в ряд перед первым же двором за пределами кладбища, и когда мальчик посмотрел в ту сторону – то черные бугры и длинные тени решеток, казалось, зашевелились, как бы располагаясь поудобнее на ночь, и с той стороны, чуть повыше этих холмиков и решеток, и даже чуть выше тополей, на мгновение повеяло той свежестью, с которой просыпаешься после долгого плача во сне, просыпаешься начисто, как будто бы рождаешься взрослым, готовым все понять, и тогда мальчик без страха пошел туда, куда ушел старый и одноглазый Фатхулла.
Именно он был первым, кого увидел мальчик, войдя в эту дверь, что так и осталась открытой после стольких сегодняшних людей. Двор был полит водой и подметён, и во дворе было тихо и пустынно, если бы не глухой голос Фатхуллы, неумело читающего молитву, сидя на супе, напротив тучной бабушки. Голос его доносился из темных сумерек, и к нему направился мальчик.
Он стоял за его темной спиной, непросматриваемый бабушкой, и теперь еще в большей степени не знал, что ему делать дальше; неумелая молитва Фатхуллы была для него теперь единственным теплым и надежным прибежищем, и он, может быть впервые в своей жизни, ощутил каждое непонятное слово ее своим зябким нутром, повторяя и истово задерживая в себе каждое её слово… И когда Фатхулла произнес: «Омин!» – мальчик судорожно вскинул руки и ощутил их сухой, пылающий жар всей кожей лица. И именно в это мгновение бабушка бросила через спину Фатхуллы:
– Ха, келдингми [20]20
«Ну что, пришёл?»
[Закрыть]?
И тогда Фатхулла, не оборачиваясь к нему, ответил ей: «Он был с нами», и мальчик снова ощутил тот стыд, который ощутил сегодня на кладбище, когда ранец перевалился через его голову, и стоя за спиной старика, мальчик почувствовал себя чем-то вроде ранца Фатхуллы, который накрепко прикреплен к этой огромной спине и если только старик нагнется или обернется…
Но бабушка сказала в это время:
– Чего-то я проголодалась за целый день. Идемте, поедим…, – и тогда огромный, непроглатываемый ком подкатил к горлу мальчика, и этот же ком покатился вдруг из глаз, оставляя на лице жгучие муравьиные дорожки. Он испытывал нестерпимую жалость к старику, который остался на кладбище один, совсем один, как будто бы его устранили из этой жизни, где продолжают кушать, как ни в чем, ни бывало, будут готовиться ко сну, и опять пить чай, и опять обговаривать все дела завтрашнего дня; такое же чувство он испытал впервые года два назад, когда дед, работавший проводником пассажирских поездов, привез откуда-то из-под Кунграда слепого щенка и пообещал, что тот вырастет бульдогом. Щенка так и прозвали – Бульдог, но когда через месяц он проявился обыкновенной степной казахской собакой и уже бросался на брошенные кости, его впервые оставили одного на ночь во дворе. Бедный пёс так выл всю ночь от обиды, что бабушка предполагая скорое землетрясение, просидела всю ночь на супе, всякий раз вздрагивая в чуткой дремоте, когда по станции, гудя по собачьи тоскливо, проходил очередной товарный поезд. Всю эту ночь не спал и мальчик, давясь от слез, и еще больше от одиночества в этом спящем спокойно доме, и ему было так же одиноко, как было сейчас, среди собравшихся ужинать людей.
И тогда он сбросил свой ранец и высохшей от слез кожей лица почувствовал облегчение, которое заполнило его, как заполняет воздух воздушный шар, и он молча вышел в ту калитку, что все так же оставалась распахнутой настежь.
Он вышел к железной дороге, вышел туда, где Хуврон-брадобрей закрывал свою будку, перекрикиваясь с Юсуфом-сапожником, где, свисая с вагона, ездил на маневровом составе Таджи-Мурад, ставший таким же дородным, как и покойная тетушка Бойкуш, и мальчик невольно обернулся – он ездил так всегда, а особенно в те ночи, когда мальчик выходил с братьями встречать старика, возвращающегося из Москвы – поезд проезжал, не останавливаясь, но всякий раз – и туда, и оттуда, дед на полном ходу выбрасывал аккуратно перевязанный пакет, половина щедрой бумаги которого рвалась при ударе о галешник, а другая – разрывалась чуть погодя, дома, в торжественной ночной обстановке, и из пакета извлекались дивные дивности, что не получишь ни на одной ёлке – коржики, апельсины, а один раз и то, что разрезал старик сам, приехав на следующий день из города – и назвал это колючее нежным словом «аланас»…
Таджи-Мурад всегда все видел и все знал, и именно к нему бегал мальчик, когда однажды поезд – как и назначено – проехал без семи четыре ночи, а дед так и не показался. Такое случилось впервые, и мальчик, бежавший к Таджи-Мураду, который возился с вагонами на запасных путях, чувствовал такую обиду, что даже обида на Таджи-Мурада – всего-навсего пожавшего плечами в ответ, и та была не больше первоначальной, и эта обида не стихала всю оставшуюся ночь и до следующего воскресного бездельного полудня, когда Кобил-дынеголов сказал, что к ним приехал сам Баллонов, чью фамилию часто и уважительно повторял сам дед, и когда мальчик прибежал во двор, он услышал женский вой, от которого ему почудилось, что дед его утонул в Волге, но потом, когда объявили, что дед попал по несчастью в больницу, обида эта возобновилась, и она все больше укреплялась по мере того, как через день Фатхулла уехал «баллоновским» поездом в Москву и не бросил по дороге им ничего, а затем, через несколько дней совсем неожиданно приехал как ни в чем ни бывало, весь перевязанный бинтами дед и рассказал жуткую историю, над которой ревели все женщины дома, и которую, широко раскрыв свой единственный глаз, слушал вернувшийся к тому времени из порожней Москвы Фатхулла.
И теперь, стоя на полотне, мальчик чувствовал какой-то отголосок той самой обиды, и даже предчувствовал ее в приближающемся дородном и веселом Таджи-Мураде, и когда тот спрыгивая с подножки, бросил ему: «Что, опять деда нет?», – мальчик обрушил всю копившуюся в нем обиду на этого смеющегося Таджи, вопя что есть сил:
– Умер он, умер, а в прошлый раз его пырнули ножом, да! Такой же проводник, потому что дед увидел, нет, услышал, что та кричит, то есть женщина, а этот пристает к ней с ножом, под вагонами, на рельсах. И он пырнул деда – два сантиметра до сердца, вот, а дед его ломом из-под вагона… – и мальчик захлебнулся словами, и в этом захлебе рванулся под вагон, и только в самый последний момент он почувствовал это толстое, жирное, противное тело на себе, эту провонявшую потом и маслом его лживую матроску из-под милицейской голубо-грязной рубашки, и собственное, душащее бессилие перед навалившимся…
И наплакавшись, он не почувствовал того облегчения, оттого ли, что саднила кожа на разбитых коленях и локтях, на исцарапанных галькой щёках, или оттого, что этот жирный боров опять, как ни в чем ни бывало уехал на ступеньке, разве только отряхнул на ходу свои штаны, маша желтым противным флажком, хотя никто не обращал на этот раз внимания на его бессмысленные отмашки.
Тогда мальчик спустился с полотна вниз, к водопроводной колонке перед базаром – безлюдной, как и сама станция, как и базар, умылся и почувствовал еще большее жжение саднящей кожи, и тогда, еще раз посмотрев в сторону уехавшего Таджи, подобрал с земли уголек и выцарапал на синей фанерной будке мороженщика Хуррама огромными буквами «Таджи – чучка!» [21]21
Таджи-свинья
[Закрыть]
Эта будка начинала собой ряд строений, идущих вдоль полотна от базара и до ателье индпошива, которое, по словам бабушки, и было в войну артелью Папанина, и этот ряд кончался с другой стороны точно такой же будкой сапожника Юсуфа, который только что закрывал ее, и как всегда, закрыв, проходил за будку Хуврона-брадобрея, стоявшую особняком, и там от души мочился…
Мальчику почему-то стало грустно за некрасивым делом, он даже хотел стереть то, что написал, но, всадив себе занозу на первой же букве, решил: пусть остается. Тем более что в наступившей темноте буквы стали совсем уж незаметны. Мальчик ждал этой темноты, чтобы с прилавка этой будки залезть на ее крышу, оттуда, через две жестяные крыши магазина от Оппок-ойим и «Фотографии» от Пинхаса, перебрался на крышу чайханы, да так, что никакой Таджи-Мурад не заметил бы как он оказался среди старых и растрепанных «курпача», заброшенных сюда еще дедом. Там, на чердаке чайханы у мальчика было свое потаённое, секретное место. Здесь под односкатной черепичной крышей он ночевал все ночи, когда уходил из дома, здесь, через вытяжную трубу, он слушал допоздна то завораживающие, то нудные истории Гиласа, которые, как и сейчас, бесконечно рассказывали старики…
Глава 6
Жил-был некогда Мирзараим-бий – правитель всех гор и джайляу [22]22
горное урочище
[Закрыть]вокруг Эски-Мооката – предводитель киргизского племени «бору» – волков – материнского племени всех тюрков, и было у него четыре жены. А любил он больше всех – самую старшую и самую младшую. Старшую – Улкан-биби за то, что была она ему вместо матери. Ведь когда умерла мать Мирзараим-бия – горная красавица Айчирёк – ему было всего 7 лет и спустя год после смерти матери, отец женил Мирзараима на 16-летней полуузбечке Улкан-биби, закатив грандиозный пир в горном урочище Ак-Тенгри. Тогда-то Улкан-биби и унесла со свадьбы на руках своего уснувшего восьмилетнего мужа. Вот и стала она ему женой вместо матери, нося его до возмужания на своей тополиной спине.
Самую младшую жену – маргиланскую принцессу Нозик-пошшо, Мирзараим-бий любил за то, что та родила ему первого сына – настоящего тюрка – Обид-бия.
Первенец рос не по дням, а по часам, и в лихокровные шестнадцать лет уже рубил головы на полном скаку зазевавшимся пришлецам в Кара-кое. Все это забавляло и воодушевляло Мирзараим-бия, пока однажды Обид-тюркот, как прозвали его сверстники, не снес с гиком голову посланнику Кокандского хана Худояра, а это грозило уже многолетней войной. Насилу откупившись за безволосую, безусую и даже безбровую голову посланника шестидесятью головами крупно и круторогатого скота, двумястами головами баранов и коз, Мирзараим-бий решил, что настала пора решать с мальчишескими забавами сына. По этому случаю он, как горный сель, обрушился на равнинный Уш и в одночасье захватил в свою горную ставку всех этих сартовских мулл и мудрецов, дабы у себя в царской юрте устроить большой совет – кенгес: что же делать теперь с юнцом?
Муллы, как водится, говорили столь запутанно и велеречиво, что прямой и простодушный Мирзараим-бий пожалел о своих воинских хлопотах. Более того, ему казалось самым подобающим – запустить сюда на полном скаку своего Обида, который перерубил бы все эти головы как равнинную капусту, да так, что даже баранами не придется платить…
Но в это время один из Ушских богословов, видимо учуяв шелест крыльев Азраила над этой юртой и над своей шестиоборотной чалмой, воскликнул:
– О достопочтенный правитель гор, столь же высоких и вечных, как твое могущество…
– Говори прямо! – перебил его Мирзараим-бий.
– О выпрямитель речей, чья речь пряма и остра как меч…
– Ещё прямей! – закричал в нетерпении Мирзараим-бий.
– Здесь, в подвластных тебе горах, в ущелье Али-Шахид есть святой старец, который провидит поток жизни, и коловращение человеческой участи в нём…
Словом, выдал Мирзараим-бий им всем по барану в дорогу, а сам тут же отправился с сыном и с войском, как горный обвал, в сторону ущелья Али-Шахид.
Старик сидел под водопадом у следа, оставленного конём Пророка в ночь Миража вот уже шестьдесят и шесть лет. Бесконечные молитвы сделали его душу прозрачной, как воды горного водопада, а лицо – гладким, как отшлифованные водой камни. Лишь взглянув на Обида, он сказал:
– Болам, Сизни илм кутарипти! [23]23
– Сын мой, Вас понесло знание!
[Закрыть]
Обид, этот буйный и неукротимый тюрок, вдруг присмирел от тихих слов старика, перебивших силу грохочущего водопада.
– Что я должен сделать, отец? – спросил, сойдя с коня юноша.
– Спросите у отца своего… У Вас большое и страшное будущее… Пусть он скажет, кем Вам быть…
Мирзараим-бий задумался. Он знал в жизни всего два занятия: быть киргизом или быть сартом. Если сын пойдет в него, то горы голов с эти горы Кючюк Аалая порубит он. И ведь ни скота, ни баранов не хватит у Мирзараим-бия, чтобы оплатить все эти головы.
Пойдет в свою мать – будет как эти сартовские муллы – одна путанная чалма вместо головы. И тогда Мирзараим-бий повелел:
– Пусть мой сын будет как ты!
Тотчас старик воскликнул:
– Аллах акбар – Аллах велик! – и внезапно исчез в грохочущем водопаде…
С той самой поры Обид-тюркот присмирел, как горный ветер на равнине. Тогда-то мать подарила ему книгу старинного поэта Нишоти «Хусну Дил», которую молчаливый и задумчивый Обид-бий читал теперь денно и нощно.
Вскоре Мирзараим-бий купил ему сорок худжр в Кокандском медресе, где Обид-тюркот выучился арабскому, персидскому, началам богословия и заучил наизусть Коран, вместе с хадисами от Имама Бухари. Тогда-то и получил он прозвище Обид-кори. Через семь лет отец отправил учиться Обида-кори в священную Бухару, где тот проучился еще 23 года.
Ему было далеко за сорок, когда он вернулся полным мудрости и печали в свой отцовский Эски-Моокат…
К этому времени все те же необузданные 16 лет исполнились Айимче – дочери сартовского казия всей волости – Саид-Касума-кази. Потомица Пророка, из рода тех, чьи мужчины садились на лошадь и выворачивали ей спину, если не переламывали хребет от тяжести, Айимча-пошшо была стройной, как долинные тополя, легка, как дыхание гор.
И вот однажды, когда она с сестрёнкой стирала белье у источника за их белокаменным домом, построенным кази после его посещения Скобелева, сестрёнка вдруг вспорхнула и запричитала, как птичка, встревоженная приближением зверя:
– Опа, опажон, ёпининг, онови киши улгур келяпти… Номахрам-та… [24]24
– Сестра, сестричка, прикройтесь, вон, проклятый мужчина приближается… Нельзя ему показываться!
[Закрыть]
Девчонке было всего десять, а потому она блюла обязанности взрослой с куда большим усердием, нежели лепила подобающие ее возрасту глиняные лепёшки.
Сестра взглянула, увидела приближающегося конного, и, не прекращая стирки, намеренно громко сказала:
– Ха, улдими ёпиниб, киргиз экан-ку [25]25
– Чего же прятаться? Ведь это киргиз!
[Закрыть]!
Так, полусарт-полукиргиз Обид-кори, проучившийся тридцать лет в лучших сартовских медресе у лучших сартовских мулл и богословов своего времени, был обезглавлен, подобно срезанному кочану капусты этой 16-летней девчушкой, существованию которой не требовалось никаких доказательств, обоснований или оправданий…
Дорого заплатил постаревший Мирзараим-бий за потерянную голову сына. Два года он отсылал баранов и коз в Скобелев, дабы Саид-Касум-кази окончательно повис на своих векселях, а потом уже, его задолжавшего и растерянного по новому времени, времени векселей и акций, фаэтонов и железных дорог, с помощью финансистов-евреев – Герцфельда и еще какого-то Манна, чьего имени не мог произнести даже изощренный Обид-кори, бий уговорил таки Саид-Касума-кази отдать свою восемнадцатилетнюю Айимчу за пятидесятилетнего своего сына, презрев все сословные и возрастные запреты…
Под напором нахлынувших в его бескрайний двор и сад 80 горных бычков, 200 крутобурдючных баранов, сотни винторогих коз – всего оставшегося богатства могущественного Мирзараим-бия, Саид-Касум-кази сломился и выдал свою несчастную дочь в горы.
Эту задачу решил Мирзараим-бий, но не решил он другой загадки, а, не решив, ее он так и умер, не разгадав своим прямым умом: это ли то великое и страшное будущее, предречённое его сыну тем самым святым стариком под водопадом.
Но Обид-кори, похоронивший своего отца, лишившегося прежде смерти всего своего скота, с болью в сердце, но без боязни вступил в это будущее, в котором одну за другой предал земле всех своих матерей: от старшей – Улкан-Биби и до родной – Нозик-пошшо, и зажил свою голую жизнь со своей единственной и юной женой Айимчой.
Глава 7
В своё время, когда Умарали-ростовщик вернулся из тюрьмы, поправившись на пуд, он устроил огромный «худойи» [26]26
религиозное празднество жертвоприношения
[Закрыть], и Толиб-мясник был специально отослан загодя в город, дабы оповестить там об угощении всех мардикёров, бродяг, карманников, попрошаек. Четыре дня, пару единственных каушей и весь оставшийся в хилом теле голос потратил Толиб на это мероприятие. Потом, когда обессиленный, но возбужденный, он спрашивал жарким шепотом у Умарали:
– Но почему только их?! Может быть, через Октама-уруса позвать лучше Усмана Юсупа и его ЦК? – Умарали, как водится, обматерил его с ног до головы, а потом сказал:
– Пустой ты человек, Толиб. Вся эта шушера разнесет по всему свету весть о «худойи» у Умарали. Народ будет знать! А ты говоришь Усман-Юсуп… Е…л я твоего Усман-Юсупа. Ничего хорошего я от него кроме тюрьмы не видел…
Потом, когда Толиб-мясник стоял в одной шеренге с Умарали, Октамом-урусом, Гумером-слепцом и Агзамом-магзавой, встречая весь этот сброд, нахлынувший ордой на Гилас, он все страшился, как бы Умарали не припомнил их разговор о треклятом Усмане при Кучкаре-чека, а когда, заключая всю процессию, откуда-то из подворотни то ли Кумри, то ли Бойкуш, вынырнул этот одноухий, но вездесущий Кучкар, Толиб весь подтянулся, как солдат перед принимающим парад генералом. Но Умарали, подав лишь кончики пальцев для приветствия Кучкару, вдруг обложил его с головы до ног матом, а потом холодно добавил:
– Прежде чем здороваться с тобой я должен съесть или два кило меду или полпуда казы [27]27
конская колбаса
[Закрыть]…
– Ха нега? – расправил свои уши Кучкар.
– Сани курсам, онайниский, шу дегин совугим ошиб кетади… [28]28
– Да почему же?
– Когда вижу тебя, ё. твою мать, душу леденит…
[Закрыть]
Трудно умирал Умарали-судхор. Кажется, вот-вот уже и выпустит из рук вожжи этой жизни, ан нет, в последний момент встрепенется, очнется, ухватит уходящую из-под его огромной туши жизнь за загривок… еще один шаг… еще один вздох… еще один миг… и опять, кажется уже все – женщины готовят голоса и слёзы, но вдруг привидится ему железная дорога конца войны… и вагоны идущие на Иваново… и он, отправляющий туда ворованный хлопок…
– Иванопка миллён той… Арехи-Зуюхуюпка миллён той… вой-вой-вой [29]29
– В Иваново миллион бунтов, в Орехово-Зуехуево миллион бунтов… вай-вай-вай…
[Закрыть]… Какая жизнь начинается, а…
Глава 8
Пост начальника милиции Гиласа, который занимал старший участковый, старший сержант – он же старший сын старшего Кара-Мусаева, ослепшего к старости из-за того, что в годы войны распинывал лепёшки Рохбар, запрещая ей торговать на станции – Кара-Мусаев младший – передавался по наследству. Повторю еще раз, но более чётко: пост начальника милиции Гиласа, которым считался старший участковый, старший сержант милиции, он же старший сын старшего Кара-Мусаева – Кара-Мусаев младший, передавался по наследству. Словом, пост старшего участкового Гиласа был наследственным. Понятно? А то развели тут козу отпущенную, как говаривал сам Кара-Мусаев младший.
Все бы хорошо, и жизнь начальника милиции текла бы себе и текла до конечного пункта старшины перед пенсией, но вот беда, жена Кара-Мусаева младшего – родная дочь Кучкара-чека оказалась стельной. Куда он только не возил, кому только не показывал. Столько знахарей, табибов, да и просто любопытствующих перевидало родильный аппарат бедной женщины, что если бы мужские взгляды обладали хотя бы муравьиной долей оплодотворяющей способности, несчастная Кумри давно наплодила бы милицейский батальон наследников гиласского поста старшего участкового, впрочем, что она и сделала впоследствии, но с другим мужем. Тогда бы и Кара-Мусаев младший имел бы больше оснований носить в дни государственных праздников голубую медаль «Мать-героиня», которую он изъял на базаре у проштрафившейся казашки, носившей эту медаль с другими монетами стран и народов на кончике своих спутанных сорока косичек. Но ни исправное ношение на парадной форме этой медали, ни бесчисленнонеплодотворные мужские осмотры незачинающего лона жены не помогали, и тогда Кара-Мусаев младший решил начать расследование с другого – со своего конца, он решил поставить следственный эксперимент на свою собственную деторождаемость.
Среди женского населения Гиласа ему подчинялись беспрекословно лишь две шалавы: одна, дававшая спьяну дома и другая – от свежего воздуха на кукурузном поле, где теперь вся пацанва стала выпасывать коров, но оперативное чутье подсказало старшему участковому, что вряд ли стоит ставить эксперимент на них – да и потом, что бы они родили ему?! А потому Кара-Мусаев младший дождался ближайшего воскресного коктерекского базара, где за спекуляцией индийским чаем, покупаемым у таджиков Самарканда и продаваемым казахам Сары-агача застукал молодайку-уйгурку, впервые вышедшую на промысел, и под угрозой высылки в Сибирь, приговорил назавтра в послеобеденное время, когда даже машинист Акмолин спал в своём маневровом тепловозе на каком придётся пути, явиться к нему в кабинет.
Назавтра, в назначенный час, когда лишь одно солнце, как административно задержанный, оставалось на улице в одиночестве, галлюцинируя неверными спиралями над испепелённым добела асфальтом, их пришло две. Поначалу Кара-Мусаев решил, что у него двоится в глазах от предвкушения или от проклятой жары, но когда одна из них бросилась к нему в ноги под служебный стол, умоляя простить сестру, Кара-Мусаев понял, что они – близняшки.
Через мгновение, когда Кара-Мусаев младший обнаружил у себя на коленях пачку второсортного индийского чаю, полную трёшек – обычную таксу за спекуляцию чаем – оперативная смекалка бессменного участкового подсказала ему совсем необычный ход – он схватил взяткодательницу за руку и, призывая в свидетели, ее сестрицу, зафиксировал ещё более страшный состав преступления – грозивший никак не меньше как урановыми рудниками – попытку подкупа должностного лица при исполнении последним своих служебных обязанностей.
Девицы-уйгурки плакали и каялись, но Кара-Мусаев действовал решительно и неукротимо. Вчинив сёстрам разные составы, он первоначально развёл их по двум разным комнатам, затем приступил к раздельному допросу каждой из сестёр по отдельности, кончившемуся одинаковым лишением их женской чести взамен лишения их гражданской свободы. Правда, каждой из близничих он дал свое честное милицейское слово, что сестра, отпускаемая под натуральное поручительство, никогда не узнает о цене самоотверженности другой.
Однако надо же случиться такому: забеременели обе молодайки, и Фатьма, и Зухра, но первой об этом узнала почему-то стельная Кумри, потребовавшая немедленного развода без объяснений, из-за которого старший сержант Кара-Мусаев младший был разжалован в младшие сержанты, а из молодых коммунистов – в партийные кандидаты. Но ведь там наверху ещё не знали причин развода, и в страхе перед предстоящим младший сержант, кандидат в члены КПСС Кара-Мусаев младший пообещал по-отдельности жениться на каждой из двойняшек. Правда, теперь двойняшки действовали решительно и неукротимо, и на очной ставке, устроенной ими в участковом кабинете в тот самый час, когда даже машинист Акмолин спал на третьем пути, они раскрыли потенциальное двоежёнство разведённого Кара-Мусаева, которое в отличие от развода каралось уголовным законом, на страже которого и стоял отупевший участковый, и тогда судорожное оперативное чутьё опять подсказало ему, что лучше быть разжалованным за предстоящий развод с одной из сестёр в беспартийные ефрейторы, чем быть высланным за двоеженство, отягчённое разводом, в Сибирь или же на урановые рудники Казахстана, и тогда он объявил:
– Я женюсь на той из вас, кто родит мне первой!
И с того часа началось негласное социалистическое соревнование двух беременных сестёр-уйгурок, помещённых Кара-Мусаевым младшим в две служебных комнаты на территории лечебно-трудового профилактория для алкоголиков на курортном берегу горной речки Аксай, дабы не было компрометирующих разговоров в Гиласе.
Первой родила Зухра, да вот Кара-Мусаев обвенчался с Фатьмой, дабы быстрей с ней развестись, чтобы согласно уговора, жениться на Зухре, но именно этого не выдержала победившая в честном споре глупышка Зухра, и надо же, на ближайшем воскресном коктерекском базаре с орущим по-мусаевски ребенком на руках, который уже по голосу обещал стать наследственным старшим участковым, раструбила о случившемся всему окружному народу.
Вскоре на станции в чайхане состоялся суд сержантской чести, на котором не найдя иной более низкой степени разжалования, коей был бы достоин этот беспартийный рядовой, было решено изъять из его фамилии приставку Кара – и Кара-Мусаев был отсюда же отправлен на пенсию с куцей фамилией Мусаев, где и сошёл с ума.
Остаток жизни он посвятил почему-то тому, что читал все плакаты и лозунги, где бы их ни встречал: на стенах и на крышах, в автобусах и на базаре, пытаясь раскусить сам и поведать другим их сокровенный смысл. «План – закон, выполнение – долг, перевыполнение честь» – читал он на скрипучей арбе люли Ибодулло-махсума и рассуждал вслух:
– Пилон бу демак закун. Закун дигани бу нима? Пилонми? Хуш, пилон дигани нима дигани? Мана биззи пилон бугичиди – закунни бажариш, йук, биззи закун бугичиди – пилонни бажариш. Отамми вахтида Сами-сассик нима киларди дигин – пилонни бажариш учун отамми хаммани устидан закунчи килиб куярди-де, ха бажармасинчи пилонни – закунний йук кибташарди. Ана немис Рейтирри тирригини чикарворган уша Сами-сассигда!
Хуш, випалнени дигани бу бажариш дигани. Буни итти думиям билади. Хуш, бажариш нимамиш? Бажариш – бу долькмиш. Дольк – буниси карз. Бировдан карз олдийми – кайтар – дипти закун. Бумаса нима? Бумаса незакуннийте! Унда милисани нима кераги бор?! Ана – Улмас-куккуз отамдан йиирма сулкавой карз олип йиирма йилдан бери кочип юрипти… Розиска килишмийди-те! Пилтагини чикарворарди бумаса!
Э, бутта нима дипти узи? Перевипалнени – честмиш! Черещур силожний-те буни магзини чакиш! Эхе! Канча устап укип ташадим! Чест дигани мана бу-та! «Издров жилайм таварщ камандр!»
– Э, мамбитта нима дип ёзипти? «Х.Х.III исъезд карорлари амалга!» Х-Х-III дигани нимайкин? Хамма билурмийдите! Бундаям бир чукур маъни буса керак… Бут бозор… Ха, топтим! Топтим! «Харбир харидор… шутта!» Ха, «харбир харидор шутта исъезд карорлари амалга!»… Э, бу канакаси… Ха-а… Жой етмапти ухшийди: «оширсин!» сузи копкетипти-та! Э, йук, бундаям бир маъни борга ухшийди. «Оширсин!» дип ёзса бу бутта нима дигани булади? Зухур-бокколга ухшап магазинни чойини Нури-букокка оширсинми? Ё Умри-катихчидай хар йил сигирини огзи кукка тейсаек сутини нархини оширсинми?! Ха, этмовмидим, бундаям бир маъни бор дип…
– «Уки, уки, яна уки! Лелин!» Ха, Лелинам бизга ухшап юрганаканда. Одамла нима дип ёзип куйишипти: уки, уки, яна уки, Лелин. Укисанг магзи чикурадите! Лелин бусангам бизчалик укимагандурсан…
(План – это значит закон. А что такое закон? План? Тогда, что такое план? Вот бывало у нас – план по выполнению закона, тьфу, то есть закон по выполнению плана… Во времена моего отца, Сами-вонючка что делал? Он ставил моего отца надо всеми законщиком – и попробуй не выполни план – законно уничтожал! Вон, немца Рейтера так зафиндилючил – да, да, этот самый Сами-вонюк…
Ладно, выполнение – это и собачьему хвосту понятно. Что же значит выполнение? Выполнение – значит долг. Долг – это когда кто-то у кого-то взял взаймы. Взял взаймы – верни подлец, так велит закон! А иначе как же? А иначе – противозаконно! Тогда на что вам милиция? Вон, Ульмас-куккуз взял двадцать целковых взаймы у отца и двадцать лет хвоста не кажет. И не разыскивают ведь! Дали бы в розыск, такого пистона вставили бы…
– Э, а что говорится здесь? Перевыполнение – честь. Чересчур все это сложно для разумения! Архисложно! Эге! Сколько уставов я перечитал! Честь это что? Честь – это «Здравия желаю, товарищ командир!» Вот это что такое!
– А что пишут здесь? «Решения XХIII съезда – в жизнь…» Погоди-ка, и в этом никак какой-то смысл. Х-Х-III… Х-Х-III… Что же это значит? Постой, постой, понял! «Хочущий хозяин… школы? шерстьфабрики? А-а – съезда! – в жизнь… что в жизнь? „Внедрить?“ Как Зухур-бакалейщик внедряет Нури-зобовке? Или… Говорил же я, что здесь что-то есть…»
– «Учись, учись, учись, Лелин». Правильно люди пишут. Пусть учится, как и мы. Вон, сколько я всего перечитал, и что? Так что, учись, учись, Лелин…)








