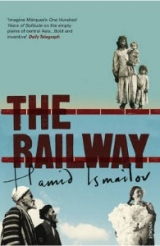
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Глава 13
Зажил Обид-кори свою жизнь с драгоценной и единственной Ойимчой, но покоя не знал изнутри. Грызла его мысль, что купил он-таки Ойимчу – эту родовитую потомицу Пророка, мучило его сознание того, что для всей её многочисленной родни он так и остался пусть образованным, пусть набожным, пусть… хоть каким, но киргизом! Вон и в последний раз, когда пошёл в горах первый снег, когда упали первые хлопья и на Моокат, один из двоюродных братьев Ойимчи вложил ему за пояс – по сартовскому обычаю «кор хат» – весть о снеге – согласно которому Обид-кори теперь должен был готовить громадное угощение и принимать всю родню. И Слава Аллаху! – принял бы гостей не хуже других. Но глянь, что написал этот ловкий турчонок:
Корхат тушса киссасига хар инсоннинг,
хар инсоннинг бизда бурчи – зиёфатдур.
Инонурмиз, сиз хам, Кори, рози булуб,
зиёфатни демагайсиз – бу офатдур.
Когда «снежная весть» попадает в карман человека,
то обязанность всякого – готовить угощение.
Мы верим, что и вы, Кори, согласитесь
и не станете называть угощение – бедой.
Ишь ты! Дескать, обычай их таков! И ты, дескать, пусть и киргиз, но должен согласиться с ним!
Всеведущ лишь Аллах! Знай Обид-кори, что точно такие же письма этот ловкий Балихон-тура позасовывал за пояса – во время полдневной молитвы – всей родне, тогда возможно не мучился бы так, но ведь говорят, что ножу – всякий камень точило. Вот и мучил себя Обид-кори, ища везде доказательства тому, что он не узбек.
Он и детей стал учить поначалу только из узбекских семей, из тех, что присылали своих дочерей на обучение Ойимче. Прямые и бесхитростные киргизы, спускаясь с гор на каждый воскресный базар и кланяясь Обиду из прежнего почитания к Мирзараимбаю, не замечали, что он их сторонится, самодовольные же сарты, полные самими собой и своими осёдлыми заботами, не удосуживались видеть, как он к ним стремится…
Так то большей частью сидел Обид-кори дома, погруженный в свои размышления или же в обучение узбекских детишек Корану, арабскому и персидскому языкам, стихам и уму-разуму. Помимо тех, кого сватала ему родовитая Ойимча, училась у него в основном беднота да сироты, что множились из года в год. Шла война и отцов забирали на тыловые работы.
А там, на исходе одной из зим началась смута по названию «революция» у Белого Царя. Правда, весть о ней пришла в Моокат к лету, когда из Скобелева приехал мулла в окружении трёх урусов-солдат, чтобы агитировать тёмное население к свету и созданию партий. Сарты Мооката отнеслись к этим призывам, по меньшей мере, безразлично, поскольку это не сулило им никакой прибыли в торговле лепёшками, картошкой да урюком, зато воинственные киргизы, которым урусы пообещали огнестрельное оружие, были вдохновлены так, что два воскресения не спускались с гор на базар, передавая эту весть с джайляу на джайляу, и оставляя сохнуть узбекские лепёшки да гнить сартовский урюк.
Сам Обид-кори сунул в какой-то рукав обе агитки – и от муллы и от урусов, и поначалу за занятиями с детишками забыл о них, но когда принялся совершать очередное омовение перед вечерней молитвой, обе бумажки выпали из засученного рукава халата, он отложил их в сторону, дабы не замочить, свершил всё предписанное Аллахом, и только готовясь ко сну, когда Ойимча запелёнывала в бешик их первенца Абдулхамидхана, впомнил о забытом. При свете хилой, приглушённой лампы, уже в белом исподнем, похожий на неловкого аиста, он развернул эти бумажки, прочёл одну за другой и ту, что была написана по-персидски Хокандским обществом «Уламои Шариф» завернул в платок, а другую, отпечатанную по-урусски бросил на полку в глиняной нише, откуда она на следующее же утро пропала, изгнанная богобоязненной Ойимчой.
А прочёл Обид-кори в одной из бумажек, что улемы Туркестана решили создавать исламское государство без родоплеменных различий, в другой же – о неком «бесклассовом обществе», где все будут равны и надолго задумался. Говорят как будто бы об одном и том же, так в чём же их различие? Ведь сколько не прочёл мудрых книг Обид-кори, речь шла в них всегда о том, как сделать людей всех разом и равно счастливыми. Но если сам Всевышний решил их создать разными, то в людских ли силах что-либо изменить? И разве не об этом ли мучительно думал всю свою сознательную жизнь сам Обид-кори, вышедший из киргизов и не пришедший к узбекам? Не об этом ли он страдал между конём и книгой на полпути от гор к долине?
Словом, как бы то ни было, поехал Обид-кори на исходе лета в Скобелев и Хоканд, увидел воочию и мулл-реформаторов, и солдат-ликвидаторов, и депутатов от списка прогрессистов и прогрессистов из списка депутатов, и даже на каком-то краевом съезде поучаствовал. Сидел на этом съезде с ним рядом некий председатель крестьянско-дехканской прогрессивно-национальной партии труда и мира, божий раб, по всему виду коровы от быка не могущий отличить (он так и объяснял урусам-солдатам: «бик с пи. дом»), но всё интересовавшийся, как он говорил, «положением в низах и глубинке». Астагфурулла, астагфурулла, что же можно называть низом и глубинкой? Женское несказуемое разве?! Бога бы побоялся, говорить такое на людях!
А потом этот божий раб и вовсе достал из штанов какую-то богопротивную бумажонку – такими кафиры подтираются после нужды, – и протянул её Обиду-кори: «Вот, мол, ночь не спал, документ подготовил, хочу, дескать, с вами посоветоваться. Вы – человек, видится, образованный и знающий жизнь, должны, мол, по достоинству оценить и по необходимости одобрить. Это, говорит, список правительства, который я подготовил этой ночью».
Ё Олло! Ярим-пошшо ещё, говорят, вещи в Ташкенте не успел упаковать, а этот уже… Вот, говорит, муфтий Аль-Мисакиддин Сарымсак-оглу – он будет главой правительства.
– Простите, а сколько ему лет?
– 87. А что?
– Да-а, зрелый человек…
– Что вы, что вы, и не думайте! С ног до головы – полон ума! А потом, говорит, на что же мы? Поможем, говорит. Вот, министр по делам коренного населения, он как раз выступает на трибуне…
– Этот урус что ли, прости меня бог?!
– Какой же это урус, бог с вами, – говорит, – он просто учился в Петербурге…
– К нему надо прикрепить хорошего переводчика, дабы его понимали местные!
– Да? Вы думаете? Вы находите? – опешил этот горемыка-партиец и, забирая свой список, поставил огромный вопросительный знак напротив имени министра коренных дел.
– Ну вот, министр по делам дехкан и вакфов – ваш покорный слуга.
– Простите, мне кажется в вашем списке нет министра по делам табибов и докторов, не так ли? – вмешался в разговор сосед из заднего ряда.
– Нет, был, я помню… – пытался найти в документе пропущенное председатель дехкан и крестьян. – А что? – отчаялся он отыскать.
– Да нет, просто у меня дядя – табиб. Лечит всех взглядом… Хотел предложить…
– Он член партии?
Пока задний сосед думал, как бы объяснить этот существенный недостаток, председатель партии наклонился к Обид-кори:
– Слушайте, а вы не хотели бы быть назначенным нашим уполномоченным по Ушскому уезду? Или нет, лучше министром просвещения и медресе? У меня как раз это место вакантно…
О Аллах! О Аллах! Каких шайтанов Ты ставишь на нашем пути! – думал Обид-кори, сбегая в перерыве с этого краевого съезда. Дай же Сам силу избежать этих шёпотов Шайтана и бесовских подвохов! Не оставь же нас перед ними одних!
По приезде в Моокат Обид-кори впервые в жизни заболел. Но Ойимча выходила его мёдом и травами, и вскоре он опять зажил размеренной привычной жизнью, готовясь ко входу в очередную зиму своего немалого возраста.
Но к осени повсюду по Моокату объявились листовки на всех языках края с призывом избрать на чрезвычайный краевой мусульманский съезд своих лучших людей, в том числе и персонально Обида-кори Мирзараим-бий оглы, как просвещённую интернациональную спайку двух братских народов, населяющих волость, дабы строить новое государство Ислама!
Обид-кори не знал – радоваться или же горевать, но как бы то ни было, листовкопослушные сарты избрали своих делегатов, киргизы – своих, и Кори остался помимо тех и тех, и когда через неделю обе делегации поехали мимо его ворот – половина на арбах, половина на конях, Обид-кори возблагодарил Аллаха за неискушённую гордыню и засел за богословские письма Имама Раббани.
Однако на позаследующий вечер, когда, отпустив детей по домам и свершив свою закатную молитву, Кори засел за очередной том писем богослова, по железному кольцу внешних ворот кто-то застучал кованой рукояткой камчи.
– Хой Обид-кори, Обид-кори! Есть кто дома живой?
Так могли ломиться лишь невоспитанные и безродные служивые Скобелева или Горчакова, а потому на сердце Кори тревожно защемило. Он вышел и приотворил ворота. Не спешиваясь, с коня на него глядел человек без племени и рода, в солдатской ушанке. Вот тебе и «без родовых и племенных различий» – подумал почему-то Обид-кори, но всё же первым делом поздоровался.
Не отвечая на его приветствие, конный спросил:
– Абид-карыман дынг? [37]37
– Так говорите, вы Обид-кори?!
[Закрыть]
– Да, милостью божей, – ответил он покорно. – Чем могу служить? Впрочем, пожалуйте к нам во двор…
– Вахтым жок! Ушка барай. Сиза повуска дынг. Манг! Унав минан ойнашманг! [38]38
– Нет времени. Надо в Уш. Вот вам повестка. Держите! С этим не шутите!
[Закрыть]
Лишь только взял в руки Обид-кори этот сложенный вчетверо листок, опечатанный сургучом, как гонец взнуздал своего коня и, не прощаясь, запылил вечерней дорогой по своим служилым делам.
Дрожащими руками, с непонятным чувством, испытываемым впервые, Обид-кори развернул при свете лампы этот листок, отослав к заплакавшему ребёнку встревоженную Ойимчу, и, просыпая сургуч на белоснежные колени, прочёл, что ему, как делегату от персонального списка, надлежит немедленно явиться в Хокандскую Соборную мечеть! Бумага была подписана непонятным словом: «Член Оргкома», и что представлял из себя этот член Оргкома, Обид-кори так и не понял, но от сердца всё же немного отлегло.
Правда, всю ночь после этого Обиду-кори не спалось – то ли оттого, что всю ночь малыш почти беспрестанно хныкал и ныл, то ли малыш эту ночь хныкал и ныл оттого, что Обид-кори проворочался всю ночь с боку на бок и тяжко в промежутках вздыхал. А под утро, в каком-то тяжелом полубреду он увидел сон, испугавшись которого проснулся окончательно. А сон был о том, что на землю вдруг стала падать полная и круглая луна и вот она уже стукнулась где-то о землю как шар, и земля задрожала, а перепуганный Обид-кори пал ничком, творя молитву, и следом вдруг увидел впереди эту ослепительную луну, лежащую где-то за горизонтом на земле, и вперемешку с испугом он стал соображать – куда же могла упасть луна – куда её решили опустить – в казахские ли степи или туркменские пески? Огромный накатывающийся шар света и разбудил его – и впрямь – надкусанная луна смотрела сквозь решётку окна, и Обид-кори, каясь в непознанных грехах, поторопился омыться и свершить свою предрассветную молитву, прося Аллаха истолковать этот сон во благо…
Вместе с солнцем он оседлал коня, и, оставив Ойимче денег на несколько дней, завёз к ним одного из своих учеников – подростка по имени Шобута, дабы тот помогал по хозяйству и присматривал за домом. И только затем, вслед вставшему солнцу он двинулся в дальний далёкий Хоканд.
С закатом солнца он въехал в Хоканд и тут же направил замыленного коня в ту самую мечеть, при которой в свое время отец купил ему сорок худжр. Суфий той мечети, узнав своего бывшего хозяина, припал к его стремени, но Обид-кори попросил его заняться конём, а сам, спешившись, направился широкими шагами к пристройке имама – теперешнего настоятеля, обученного некогда грамоте им самим.
За пиалкой чая взволнованный ученик рассказал ему о последних событиях в городе, о том, что все взбудоражены предстоящим – шутка сказать – кончается власть урусов – пора брать её в свои руки, восстановить государство Ислама… На этом Обид-кори благословил дастархан и, попрощавшись до вечера с имамом, направился пешком в городскую соборную мечеть.
Народу там было видимо-невидимо. Все сновали с непокрытыми головами, как муравьи в муравейнике, неся какие-то листочки, спотыкаясь друг о друга. Наконец, потолкавшись в этой куче, Обид-кори нашёл одного образованного, которому и показал свою повестку. Прочтя её, тот неожиданно затрясся мелким бесом, припал к рукам Обида-кори, и, как драгоценную ношу, повёл его среди толпы, расшугивая её по сторонам, галереями и к какой-то пристройке, всё приговаривая всуе: «Оллога шукур! Оллога шукур!» [39]39
«Слава Аллаху! Слава Аллаху!»
[Закрыть]
Пройдя несколько слоёв охраны, они после некоторого ожидания вошли в зал – проводник не отпускал его локтя, всё крепче и крепче прижимаясь к нему по мере приближения, и, наконец, они увидели наряду с несколькими выдающимися улемами, у которых Обид-кори учился в Хоканде и Бухаре, того самого председателя крестьянско-дехканской национально-прогрессивной партии труда и мира, облачённого в чапан и чалму как видно с чужого плеча.
Обид-кори несколько растерялся от этого чудовищного соседства, но его проводник отслужил на славу: он не только пересказал наизусть всё содержание повестки, но и доложил, что вот имел честь сопроводить Хазрата Мулло Обид-кори Мирзараим-бий оглу самолично, в чём нижайше уведомляет высокопочтенное собрание и прочее и прочее.
Его поблагодарили, и он, пятясь и откланиваясь, вышел в дверь, тем временем как этот самый… председатель дехкан оказался уже на его месте, схватив и тряся руку растерянному Обиду как своему ближайшему сотоварищу. Затем тут же обернувшись к нему спиной, он стал представлять Обида-кори улемам и гражданским, но в это время из своего кресла встал почтенный и достойнейший муфтий Махмуд-ходжа из Самарканда и, подойдя к Обиду-кори, трижды обнял его, и тихо произнёс:
– Мы все его знаем…
После приветствий и искренних объятий с учителями, после того, как он встретился глазами со всеми остальными поодиночке, расспрашивая односложно о житье-бытье, один из гражданских в кителе – но в маленькой чалме, в пенсне – но с чётками в руках, молодой – но дородный, похожий на казаха – но заговоривший без акцента по-узбекски, тот, к которому обращались как к «доктору Мустафе» – но к кому Обид-кори вдруг испытал приязнь как к младшему – но более умному брату, так вот этот молодой доктор Мустафа вкратце рассказал, видимо только для него, то в трудной истории Туркестана сейчас очень важное время, что урусы, которые правили краем до сих пор, настолько погрязли в своих склоках, что этой зимой может грянуть голод, что правители уже ничего не решают и народ должен брать власть в свои руки, дабы самому управлять своей собственной жизнью. Завтра на мусульманском съезде решено провозгласить Туркестанскую республику, что вот они документы съезда для ознакомления, и если уважаемый кори найдет что-либо неуместным, пусть скажет, как сделать лучше.
Обид-кори обвёл глазами сидящих, как бы немо прося прощения за уже допущенную нескромность, он не тот, за кого его по ошибке принимает этот молодой доктор, но к его удивлению, все напутственно кивали головами, а этот председатель дехкан-прогрессистов, этот ученик Иблиса и вовсе потряс кулаком у плеча. Что это означает – шайтан его знает?! И лишь после того, как Махмуд-ходжа сказал, улыбаясь:
– Мулла Обид, вы ведь помните, как в молодости в Бухаре мы собирались на халфану [40]40
ритуальное коллективное приготовление пищи
[Закрыть]– каждый приносит то, что может: кто – мякоть мяса, кто – кость, а кто – пучок лука. Вот и вы посмотрите, не пропустили ли что…
Обид-кори со странным чувством раскрыл бумаги, и жизнь вокруг него завертелась как и до него: кто-то входил, кто-то уносил кипы бумаги, кто-то распоряжался, кто-то брал штуку, похожую на маленькое коромысло с вёдрами, когда звенел под ним звонок, и прикладывал эту штуку к уху и ко рту, разговаривая сам с собой. Но никто ничему не удивлялся.
Читал Кори все эти правильные слова, от которых то перехватывало горло, то учащённо билось сердце и смутно понимал, что с ним происходит – где он, где Ойимча, где его книги и двор, дурной или же на славу этот сон – в кругу улемов, о коих он часто вспоминал – и рядом с этим шайтаном, которого он правоверно остерегался…
Сон, конечно же сон, ведь всем телом чувствовал Обид-кори время вечерней молитвы – это натяжение, выпрямляющее и без того прямую спину, но никто в этой мечети и не думал прерывать своих занятий. Сон, конечно же дурной сон! И тогда, пересиливая самого себя, он подошёл к Хазрату Офоку-ходже из Гиждувана и, наклонившись к полудремлемлющему белоснежному старцу, прошептал:
– Учитель, где здесь молятся?
Старец встрепенулся посреди своих мыслей, упрятанных в слепоту и воскликнул:
– А что, уже время хуфтона? [41]41
вечерняя молитва мусульман
[Закрыть]Но почему муэдзин не поёт азана? Я совсем запутался во времени…
Вскоре нашли и привели имама, который тоже бегал весь в бумагах и заботах, и отчитали его за беспечность, на что он попытался было оправдаться хадисом о праведности служебных забот во имя мусульман, на что ему в противовес привели столько стихов из Корана, что через мгновение он сам уже кричал на минарете призыв к молитве…
Ночь почти не спали, с утра и до полудня прибывали запоздавшие делегаты с дальних гор и джяйляу, и после полдневной общей молитвы съезд начался. Обид-кори, тщательно избегавший соседства с прогрессивным предводителем дехкан труда и мира, оказался на этот раз по соседству с австрийским евреем Герцфельдом – другом покойного Мирзараим-бия (Аллах да простит его душу!), тем самым Герцфельдом, что стоял у начала его женитьбы на Ойимче, а потому первым делом спросившего о ней – этой родовитой потомице Пророка! Собственно не Обид-кори подсел к нему, а сам Герцфельд заметил чем-то обеспокоенного Обида и усадил его рядом с собой, приговаривая при этом словами великого Саади:
– Сегодня, впрочем, все дороги ведут к Туркестану, – добавил он, широко улыбаясь, на что Обид-кори молча кивнул головой. Начался съезд. Образованный, но простодушный Обид-кори так бы и ничего не понял ни в «классовой борьбе», ни в «борьбе фракций и течений», понимая всё так, как говорили с трибуны сначала этот милый его сердцу полукипчак, а потом улемы и муллы, солдаты и армяне, банкиры и юристы, если бы не сидевший рядом Герцфельд. Велик Аллах – каждую речь этот австриец видел и «зохиран» и «гайбан [43]43
и явный, и скрытый смысл
[Закрыть]», разъясняя Обиду скрытые намерения и стремления выступающих и тех, кого они представляют, от чего бритая Обидова голова под чалмой начинала морщиться, а однажды, после того как выступил, маша культёй, солдат, Герцфельд не вытерпел и взял слово сам, и на сартовском наречии, лучше чем сами сарты, говорил так горячо, что после его слов растерянные мусульмане, должные в ином случае воскликнуть в одобрение «Оллоху акбар!» – «Велик Аллах!», захлопали как женщины в ладоши и прогнали со съезда этого культяпого человека с ружьём…
Глава 14
Всю прежнюю жизнь Обид-кори верил, что слова даны Всевышним, дабы славить Его и что-то открывать людям, но после разъяснений и истолкований Герцфельда получалось обратное: слова существуют дабы что-то скрывать…
Помните, я рассказывал вам о рояле «Рлниш-1911», превращенном бригадой осетин в «Рлниш-1911 – Хацунай-196…» Так вот, этот рояль принадлежал в своё время гиласскому немцу по фамилии Рэйтэр, завезенному сюда из Поволжья и выселенному отсюда по пьянке Самиъ-раисом, когда по разнарядке вышкома партии понадобились интернационалисты в Испанию. А выслал его Самиъ, поскольку не знал национальности Рэйтэра, не Митька же винодела или Изю-портного выдавать за интернационалистов, когда известно, что один из них – русский, а другой – еврей!
После войны образованные гиласцы, читая газеты, в которых иногда говорилось о буржуазном агентстве Рейтер, понимали, что немец их крупно предал, но мало кто помнил, что здесь, на улице Папанина осталась его жена, старушка-немка, о жизни которой никто ничего не знал; старушка, в годы той самой войны отправившая куда-то свою годовалую дочь Эльзу. Ту самую Эльзу, что так любила колотить кулачками по клавишам инструмента, на котором много лет спустя Закия-ногайка отстукивала негнущимися пальцами нехитрые татарские мелодии своей образованной юности…
… И вот когда та самая Эльза пела в Руане «Цыганского барона», ей позвонили из Штрасбурга и сказали, что отец её умер…
Тем временем, как они с режиссёром решали – останавливать ли спектакль, или продолжать, раздался второй звонок и всё тот же голос её сводной сестры сказал, что мать получила инфаркт, и её увезли в реанимацию. Естественно, никакой речи теперь о спектакле быть не могло, и сам режиссёр, стыдясь своих прошлых заигрываний, привез её на вокзал, и первым же поездом Эльза выехала в Штрасбург.
Отец был смертельно болен давно: три последних месяца его кормили с ложки, и когда Эльза видела его в начале последнего паралича, она ужаснулась ребрам, которые казалось вот-вот прободают тоненькую ссохшуюся кожу его груди, тогда-то отец признался ей во всем. В тот день Эльза узнала, что мать её – это не мать, а мачеха, и что настоящая мать живет где-то в Центральной Азии, на забытой богом станции по названию Гилас, на улице со странным названием «Рарапшп», тогда-то отец и попросил её во что бы то ни стало вызвать мать, прежде чем он умрет непрощённым…
Именно тогда, думая, что отец едва ли протянет неделю, Эльза написала во все посольства тревожно, как только могла, но мать всё не ехала и не ехала – дескать, в стране Советов ей оформляют документы, как объяснили ей на иау д'Огзау. И впрямь в это время паспортистка Гиласа Оппок-ойим, пережившая столько расставаний со своим мужем Муллой Ульмасом-куккузом, изо всех сил старалась помочь своей погодке Зигрид, покупая на свои деньги все вышестоящие овировские службы. Но даже денежный напор сердобольной Оппок-ойим, порастратившей на этом благородном деле половину того, что она заработала за последний обмен паспортов, не мог ускорить накатанный процесс оформления в капстраны менее чем за три месяца.
Обреченный на жизнь советской паспортной системой, Виктор Рэйтэр, мучительно держался все эти три месяца, но когда пришла телеграмма, что жена его выехала железной дорогой из Г иласа – резко сдал.
И вот теперь, сидя в пустом вагоне первого класса, Эльза не знала, успела ли приехать ее родная мать до того как умер отец? Странно, что она не спросила этого у своей сводной сестры, которую всю жизнь считала родной, еще страннее то, что та сама ничего не сказала, кроме того, что мать с инфарктом увезли в госпиталь. Какую мать? Чью мать?
Стук колёс поезда выискивал какие-то навязчивые ритмы, которые искали в её сердце мелодии, но не находя их, казались теми голыми ребрами, пробадывающими тонкую кожу её сознания. Она закрывала глаза и уши, но теперь само сердце стучало еще обнаженней и монотонней.
Почти к утру она приехала в Штрасбург и позвонила в отцовский дом на другой окраине города. Трубку сняла сонная сестра, её сонный голос неприятно поразил Эльзу, и она даже немо расплакалась от обиды, что жизнь так низко продолжается. За плачем она не успела спросить, приедет ли Гердта за ней, как та, как бы внезапно проснувшись, выпалила:
– Эльза, держись, знаешь, твоя мать попала в госпиталь с инфарктом.
– Но ты мне уже говорила!
– Нет, я говорила тебе о своей матери, а это – твоя…
– Она приехала?
– Она в госпитале… С инфарктом…
– А твоя… Наша?..
– Я ведь тебе звонила, что она в реанимации.
– Нет, Гердта, погоди… Я ничего не понимаю… Ты что-то путаешь…
– Эльза, дорогая, приедешь, все поймешь… Ты приедешь или спектакли…
– Гердта, я уже здесь!
Слезы текли по щекам Эльзы и затекали в трубку. Почему все так?!
Шел дождь, такси ехало по мокрым и пустынным улицам каменного города, и серое, измятое лицо в зеркале такси уподоблялось дню, который начинался бессмысленно и безвозвратно…
В тот же день Рэйтэра отпевали в православной церквушке по обрядам той страны, откуда он был родом, и Эльза сама пела «Лакримозо» над своим отцом, которому местный патологоанатом аккуратно сломал два последних выпирающих до прободения кожи ребра и вшил их в отработавшую диафрагму.
Отец лежал среди цветов, чуткий и сломленный, и Эльза оттого переполняла свой голос немым рыданием, «плавая в звуке», как она осознавала, но тем искреннее драматизируя свое чистое сопрано. Похоронили отца, она вернулась со всеми домой и пока один из её сводных теперь братьев не напомнил ей, что едет в госпиталь, Эльза ходила из угла в угол, выискивая всякую мелочь, чтобы предаться ей хоть на какую-то секунду…
Ей начинало казаться, что братья и сёстры – будучи младше неё, начинают смотреть на неё как на чужую, как на ту, которой по старшинству перепадёт наследство, но она отгоняла от себя эти мысли, цепляясь за всякую мелочь, и когда Герхардт предложил ей поехать в госпиталь, она вдруг с ужасом обнаружила, что ехать туда ещё страшнее, чем невыносимо оставаться здесь.
Они приехали в госпиталь, и оказалось, что две матери лежат в одном отделении, разделённые тремя палатами и ничего не подозревая друг о дружке. Эльза как-то машинально увязалась за братом и оказалась в палате у их матери. Увидев резко сдавшую женщину, в которой всё всегда дышало здоровьем и охотой жить, она невольно расплакалась. Мать видимо сочла, что Эльза плачет по отцу и стала успокаивать свою старшую дочь: дескать, ты старшая, кому как не тебе быть стойче всех, коль скоро, как видишь, мне не удалось…
Герхардт привёз матери куриного бульона в термосе, и та с удовольствием воспользовалась их компанией, дабы выпить его до дна. Эльза кормила её с ложки, как та сама кормила последние три месяца её отца, не подозревая, что жизнь в старике задерживает не бульон, но письмо, посланное Эльзой, последствий которого столь мучительно и безысходно дожидался отец, и Эльза опять чуть не расплакалась оттого, что не пошла к своей матери…
Через полчаса, пообещав ей вернуться завтра, они вышли из палаты, и Герхардт откровенно пошёл к выходу, к машине, а Эльза замешкалась на секунду и следом повернула в палату своей матери, которой она не знала.
На больничной кровати, одетая в чёрное и белое, сидела высокая и стройная женщина с невероятно прямой осанкой и смотрела куда-то в окно, на вечереющее небо. Эльза неловко откашлялась, и женщина медленно обернулась на кашель. Нельзя сказать, что ничего не изменилось в их лицах, ничего не произошло в их душах, но как бы то ни было, женщина вежливо и холодно, на немецком языке 17 века, вывезенном и сохранённом в древней чистоте, спросила:
– Простите, чем обязана?
Подавшись на этот тон, Эльза больше из любопытства, чем с чувством, справилась:
– Простите, вы фрау Рэйтер-Райник?
Та с достоинством кивнула, дескать, что же дальше?
И вправду, что же дальше? Броситься к ней на шею? Заплакать? Обнять? Кричать: Мама! Мама родная! Но странное чувство отчуждения стояло стеной больничного воздуха на этом расстоянии в 5–6 шагов, и тогда Эльза просто сказала:
– Вы моя мать…
Мать казалось знала и это. Ни один мускул не дрогнул на её бледном лице и она сказала:
– Да…
Было ли это короткое, как вздох, «Да» вопросом или же ответом на этот вопрос, но пауза после этого оказалась столь мучительной, столь катастрофической, что Эльза не нашла ничего лучшего, как подойти к ней неверными шагами и припасть к её коленям. Зачем она поступила так? Зачем она сделала это? Нет, она не чувствовала неловкости, но только лишь огромное непонимание происходящего и его непредсказуемость. И тогда мать столь же вежливо, как и отстранённо сказала:
– Моя девочка, вам нужно успокоиться…
Эльза ехала в машине по вечернему и дождливому Штрасбургу и думала: «Чем, ну чем я провинилась перед ней? Почему я должна отвечать за отца и за их отношения?! И почему я?!»
Семь последующих дней она ездила в больницу к двум своим матерям. Семь дней изо дня в день она провела в двух палатах, чтобы нелепо убеждать мачеху в том, что она ей дочь неродная и чтобы пытаться при собственной матери доказать себе, а не ей, что она ей дочь родная…
– Может быть, вы останетесь у меня в Руане навсегда?
– Нет, моя девочка, я вернусь в Гилас.
– Но ведь эта чужбина и жить там, наверное, трудно…
– Жить с богом везде одинаково.
Но главное, что Эльза уговорила свою мать пожить некоторое время в доме отца, дабы окрепнуть перед дальней железной дорогой. На день восьмой выписали обеих матерей: сначала Эльза забрала свою мать и привезла пустой отцовский дом, тем временем как Гердта выписывала свою мать, которая откровенно боялась лишь того, как бы первая и неразведённая жена её мужа не потребовала части наследства, а стало быть, и части дома. Нет, волнения её были напрасны, когда она вернулась в собственный дом, Эльза сообщила ей, что гостья заняла лишь крохотную комнатушку на мансарде, которую дети называли «голубятней».
Так и жили две матери, не видя друг дружку, и только Эльза, забросившая все свои дела, с какой-то заотцовской задолженностью сновала между ними, чтобы как-то примирить их хотя бы в своём сердце.
И вот на первое поминание, когда в отцовском доме собрались все сводные дети покойного Рэйтэра, их мать, любившая большое общество при обильной еде, попросила Гердту пригласить к столу и далёкую гостью – свою соперницу. Через некоторое время Эльза, занятая на кухне, краем глаз увидела, как в комнату входит её мать, статная и гордая, одетая по-привычному в чёрное и белое, как растворяются перед ней двери и расступаются братья, как даже матушка – мачеха – мать встаёт со своего насиженного места на подушечках и немо, зачарованно смотрит на происходящее… Слёзы капали в сковородку, и она шипела, не замечаемая Эльзой.
В тот вечер мать попросила Эльзу к себе и, сидя всё так же как и в первую их встречу, сказала:
– Моя девочка, вызови прелата… – и совершенно неожиданно добавила по-французски: – Je vais mourir – Я умираю.
Но Эльза почему-то поняла эти слова дословно, что-то расщепилось в её сознании, где как в пустом концертном зале звучали эти зловещие слова: я иду умирать! – и вновь перед её слёзнослепыми глазами предстала эта статно-гордая женщина вся в чёрно-белом, идущая через годы и расстояния, которые расступались перед ней как помёт, как приплод, как…
Этой ночью мать ушла за отцом.








