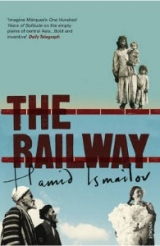
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Тогда ему сказал его учитель Хазрати Сулейман-Эшон, что семь поколений Муллы Тусмухаммада-охуна будут жить под покровительством Аллаха, и Ойимча, бедная Ойимча свято верила в это.
Ойимча. Она приезжала каждую неделю, останавливаясь у своих родственников, живущих напротив тюрьмы, и передавала ему то четки, то лепёшки, то кувшин для омовений, то тайную весточку от детей. Передавала всё это она через своих племянников, живущих напротив тюрьмы, а однажды, набросив чачван, даже дошла до ворот тюрьмы, но урус, стоявший там с ружьём, прогнал её, матеря, как последнюю собаку.
И то ладно, что навет да дурной глаз пал на Обида-кори. Ведь и младший его – Машраб уже подрос, уже стал виден, заметен, но слава Аллаху, сохранил Он его от навета да дурного глазу, как золотого цыплёнка. Видно не врос Обид-кори в род Пророка – мир ему и благословение! – мысли Обида-кори начинали путаться от бесконечных допросов, бесконечных молитв, бесконечных дум.
Почему жизнь сложилась…
Ночью, когда на решётку – эти две продольные и шесть поперечных перекладин упал внезапный свет, и скрежет камерных дверей поднял Обида-кори, терзаемого мыслями, с железных нар – той же самой решётки – две продольных – шесть поперечных перекладин, покрытых тюфяком набитым Ойимчой – мучениям его пришёл конец. Ночная птица сверкнула крылом за решёткой, и его вывели на тюремный двор. Семь крытых «воронков» стояло во дворе, а конвоиры выводили и выводили людей.
Обид-кори дышал, наслаждаясь ночным горным воздухом, и ему было легко как некогда Мулле Тусмухаммаду-охуну после растаявшего снега.
Ваз Зуха, вал лайли иза саджа,
ма ваддаъака раббука ва ма кала…
Клянусь блеском дня до полудня,
и ночью, когда распространена темнота её,
не покинул тебя Владыка твой, и не недоволен Он…
шептал он, и слёзы катились по его редко поросшим щекам.
Ойимча, Ойимча сидела посреди летнего двора и взбивала, ссучивала длинными прутьями вату, вату, вату. Руки её взмахивали в широких белых полотняных рукавах как крылья и вата, цепляясь за медленные, медленные, медленные прутья, взлетала, взлетала, взлетала вслед за ней, как небесные облака, облака…
Их погрузили в воронки и отвезли на станцию. Там их пересадили на товарный вагон, зарешеченный, как и в тюрьме – две продольные и шесть поперечных прутьев и повезли медленно-медленно-бесшумно-медленно по железной дороге. Сквозь дыры и щели в полах она проглядывала – эта железная дорога – две нескончаемо продольных и бесконечно, бесконечно, бесконечно эти шесть поперечных перекладин, и уже казалось, что будто бы и землю заключили, или же их, едущих в этом зарешёченном товарном вагоне отлучили от земли.
Почему жизнь… Душа Обида-кори летела над землей, оставляя на ней Ойимчу, Ойимчу, и дети бежали за ней, простоволосой, как грозди винограда, грозди винограда…
Глава 20
Во время сталинского набора в партию от станка, в Гиласе, как оказалось, не оказалось станков. Нет, был один – в школе имени Октября, в мастерской труда, но никто им не умел пользоваться, не зная, против чего он. Присматривал за ним школьный сторож Абубакир-насвой, получивший этот пост от своего отца – сторожа царских времён, но этот Абубакир был настолько стар, что партия резонно решила не трогать его – не умирать же ему коммунистом!
И всё же партия нашла ответ и на эту директиву: было решено принимать в набор не только от станка, но и от кетменя, от швабры, от сапожной щётки – словом, любого пролетария и пролетарку Гиласа. Киномехаником Ортиком-аршин-малаланом срочно был написан и размещен лозунг: «Пролетарии всех махаллей Гиласа, собирайтесь во дворе школы!» – и тут же старший участковый Кара-Мусаев-младший заставил пьяного монтёра Болту взобраться на базарный столб и навесить полотно на единственный Гиласский репродуктор, попутно разъясняя всему запоздалому базару неотложный смысл лозунга и точное время сбора.
На призыв партии откликнулся лишь глухой уйгур Кун-охун, который по глухоте своей имел привычку откликаться на все уличные призывы, однако откликнулся он на этот раз потому, что его жена – Джибладжибон-бону решила, что в школе, как во время выборов в Верховный Совет, наверняка будет распродажа.
Достав из сундука припрятанные деньги, она заставила умыться своего чёрного от копоти мужа – станционного грузчика, надела на него пижаму, купленную как летний костюм у Хошима-проводника, аккуратно заправила брючины в единственные хромовые сапоги, оставшиеся ей от отца-скотопромышленника и отправила мужа вступать в партию, дескать, как знать, может быть, и вас сделают человеком наподобие Октама-уруса…
По дороге в партию Кун-охун наткнулся на косого татарина Тимурхана, отдыхавшего на опушке железной дороге от любви к мордвинке Мурзиной.
– Куда идёшь? – спросил Тимурхан из безделия.
– Нет, не могу, – отвечал ему глухой Кун-охун, думая, что тот по привычке ищет себе напарника выпить.
Тогда Тимурхан направил на него другой глаз из двух косых и спросил в упор:
– Займи десятку!
– В партию! – гордо произнёс Кун-охун.
– Иди на х. й! – сказал Тимурхан, разводя опять по горизонту два своих разнофокусных глаза, но этого ему не мог простить разомнувший свой слух Кун-охун. Ни как грузчик, ни как кандидат. Завязалась потасовка, в которой косой Тимурхан всё норовил врезать грузчику между глаз, а размашистый и глухой Кун-охун лепил одну за другой оплеухи маленькому, но юркому любовнику мордвинки. На этот шум, паля по воздуху, чтобы списать проданные Кузи-охотнику патроны, устремился старший участковый Кара-Мусаев младший, наклеивавший последнюю афишу о сборе пролетариев на дом Ортика-киношника – уже в стельку пьяного от полученного партийного гонорара. Завидев палящую власть, сплетенные в клинче Кун-охун и Тимурхан ринулись, как два сиамских близнеца, по железнодорожной насыпи в сторону пакхаузов, нырнув по дороге под первый встреченный стоячий вагон. Кара-Мусаев пустил им вслед последний патрон и довольный тем, что теперь баланс сходится, пошёл к себе в участок, составлять акт.
Эти же двое бежали вслепую и вглухую в коридоре между двумя составами, пока не споткнулись о зад однорукого Наби-пропагандиста, который торчал над рельсом, пока сам Наби воровал под вагоном просыпанные с транспортёра хлопковые семена – для соседских коров – по тридцать рублей за мешок. Перепуганный Наби пулей выскочил из-под вагона, подымая свою единственную руку для сдачи в плен, и плюс как смягчающее обстоятельство, но, увидев двух катающихся на камнях мужиков, решил, что стоило только умереть товарищу Сталину, как эта буржуазная зараза, эта чума прошлого – бесакалбазлык [54]54
букв. «игра с безбородыми», т. е. педофилия или гомосексуализм
[Закрыть]тут как тут вернулся в Гилас!
Почуяв ситуацию, Наби не стал опускать своей единственной руки, а более того, вскинул к небу ещё и указательный палец, и вдруг стал гневно обличать этот позор, призывая в свидетели Аллаха, которого он не вспоминал вот уже 29 лет, с тех пор, как пошёл в школу в год ленинской смерти!
– Мандан уялмасайла Оллодан уялмийсизми! Кадрдон дохиймиз Исталин уртоклари улиб турган бир пайтта кип турган ишийлани карайла! [55]55
– Коль не стыдитесь меня, так постеснялись бы Бога. Тем временем как умер наш дорогой вождь, товарищ Сталин, тем временем, смотрите, чем вы занимаетесь!
[Закрыть]
Эти двое уже сидели на пришпальных камнях, не понимая, в чём их обвиняет винторукий Наби, когда вдруг разверзлись небеса и труба Страшного Суда – ф-фу! – предупредительный гудок маневрового паровоза Акмолина предварил страшный удар, после которого вагоны за спиной непримиримого Наби, брызжущего обвинительной слюной, поехали. И вот когда накатил последний вагон, когда запал Наби стал иссякать на глазах, когда глухой Кун-охун и косой Тимурхан сидели перед ним, как ученики перед звонком, с подножки вагона спрыгнул ученик дорожных дел мастера Белкова – Таджи Мурад с двумя флажками и одним свистком, и вдруг так заверещал своим единственным свистком, так размахался своими двумя – красным и желтым флажками, что состав, скрипя неожиданно тормозами, стал ровно настолько, чтобы из-под последнего вагона вылезли следы преступления Наби, который хотя и крутил судорожной головой, но всё же не опускал своей единственной руки, как единственного смягчающего обстоятельства…
Честно говоря, в другой раз Таджи Мурад ничего бы и не заметил, ведь однорукий Наби таскал каждый пятый мешок его матери – подслеповатой Бойкуш, но здесь, когда уже попахивало групповым расхищением социалистической собственности и еще в такое трудное для страны время, молчать Таджи Мурад не мог. Теперь в промежутке между свистками, от которых вздрагивал и глухой Кун-охун, и флажковыми отмашками, за коими не мог уследить и косой Тимурхан, он стал обвинять их ещё в более страшном преступлении.
– Ещё не остыл прах дорогого товарища Сталина, – кричал он на два горизонта, – а вы уже создали бандитско-троцкистскую международную организацию, чтобы хитить, – так и сказал, – хитить! социалистическое имущество и хозяйство!
Таджи Мурад совсем недавно вернулся из армии, а потому в отличие от Наби-однорука, никуда из-за своей нестроевой однорукости не выезжавшего, обвинял их по-русски, и от этого уже попахивало его служивой Сибирью…
– Блядь, я те говорил – пошли пить! – шептал Тимурхан на ухо глухому Кун-охуну, – теперь Нинке расскажут…
От этой мысли ему стало нестерпимо грустно, так что из двух его автономных глаз вытекло невпопад две слезы. Ведь и впрямь, в прошлый раз, когда на станционном суде железнодорожной чести судили какого-то Шиштаковича, и вся станция подписала ему приговор за антинародную музыку – от Толиба-мясника, ничего кроме топора и своего члена в руках не державшего и до подслеповатой Бойкуш, державшей лишь однажды то же самое, а Тимурхан, как второй станционный интеллигент после Мефодия-юрфака, не стал подписывать ничего, поскольку никаких русских песен кроме «Камыша», наученного ему Мефодием, не знал, Нинка-мордвинка – эта Кармен с вишнёвыми глазами, не давала ему за индивидуализм и психологию мелкобуржуазного собственничества целых три года, аж до самого процесса врачей…
Всё это время Тимурхан люто проклинал пресловутого Шиштаковича по уборным и по ночам, но зато на врачах он отыгрался сполна – за все три года сухостоя!
И вот теперь опять… Хоть под поезд ложись!
Как будто услышав эту горестную мысль, соседний состав тяжело зашипел, заскрипели колёса и медленно-медленно сдвинулись вперёд. Чуя их неотвратимый ход, Тимурхан вдруг вскочил, пробежал на один вагон по движению и на глазах у всех положил голову на рельсу. Все оцепенели… И даже Наби с испугу опустил свою затёкшую руку. Колёса медленно надвигались на лежащего косыми глазами к ним Тимурхана. Казалось, эти самые глаза смотрят одновременно на всех троих, остающихся виноватыми на этом свете… И тогда глухой Кун-охун не выдержал предстоящего крика и, вскочив – в восемь шагов оказался около татарина, чтобы рывком – как мешок угля или лука – выбросить его из-под наезжающих колёс! Тимурхан хрипел в каком-то предсмертном экстазе, пытаясь уйти под вагон, Кун-охун налёг на него и внезапно почуял, как в пылу борьбы уже сам оказывается под колёсами, и с мыслью, что так и не вступить ему в партию, резко распрямился, как комиссар на фотографии у сельсовета Турды Али-фронтовика. Как это случилось – известно одному Аллаху, но колено Кун-охуна оказалось на горле у хрипящего Тимурхана, и тот, трепыхая в такт стуку колес последних вагонов, вдруг затих, смывая с лица своими мутными слезами свою же пену с губ.
– Тувая исмерт тпер яптуваямат на мине пирдот! – выматерился Кун-охун и отпустил щуплого татарина.
Таджи Мурад и Наби-однорук, наблюдавшие немо за этой сценой, столь же немо пропали будто бы за помощью, прихватив заодно и мешок с хлопковыми семенами, Акмолин дал свой гудок на обед, и тогда выплакавшийся Тимурхан уставился разнокалиберными глазами на потрёпанную одежду грузчика и спросил совершенно трезво:
– Чё ты одел пижаму?
Кун-охун то ли не понял, то ли не расслышал вопроса и как всегда невпопад ответил:
– Миподий-юрпак изнает!
Чтобы не посылать его еще раз на х. й и тем самым не навлекать на свою голову нового круга бед, Тимурхан вяло махнул рукой и согласился.
– Пайдум ки ниму! – предложил Кун-охун, и они, опираясь друг на друга, пошли в сторону хлопзавода к Мефодию-юрфаку – первому интеллигенту Гиласа. А показалось тогда Кун-охуну, что Тимурхан спросил его о возможных последствиях случившегося и его предстоящей партийной судьбе, ну, скажем, сказал:
– Чё теперь будет с нами? – и ответить на этот вопрос мог и впрямь только лишь Мефодий, к которому охотно согласился идти Тимурхан, поскольку знал, что к Мефодию без бутылки не ходят. Об этом знал, впрочем, весь Гилас: вливаешь в него бутылку «бормотухи», и она вытекает из него бесплатной консультацией по любому праву – от римского и до колхозно-семейного.
Так вот, пока еще нервно вздрагивающие Кун-охун и Тимурхан ждут на солнцепёке возвращения с обеда Фёклы-шептуньи – продавщицы хлопзаводской лавки, а Фёкла-шептунья потешается внутри полуденного маневрового паровоза с учеником Акмолина – Харисом-гастролёром, два слова о Мефодии, что лежит у себя в бараке за пакхаузами, не зная чем опохмелиться после вчерашней консультации.
Дело в том, что Мефодий был будто бы последним побочным сыном великого русского путешественника Михаила Пржевальского, отметившего своим пребыванием огромные пространства от Кавказии и до Такла-Макана. Мать его – вдова из первого поколения туркестанских колонизаторов, простирывавшая за господином, едущим во внутреннюю Монголию открывать свою лошадь, во время одного из полосканий белья, когда она привычно подворачивала юбку доверху, была взята великим путешественником и только после Великого Октября призналась в этом сыну и родне. Пржевальский, как известно, умер, не дождавшись Октября, а потому Мефодий, посланный бывшим Туркестанским Географическим обществом учиться в Москву, начал знакомиться с делами и подвигами своего побочного отца лишь в Румянцевской библиотеке. Там же среди поколения новых штурмовиков науки, к которой Мефодий, кстати, не имел никакого положительного интереса, он обнаружил, что одновременно почти десяток людей исследуют исследования Пржевальского, а наиболее ценные письма и дневники и вовсе запрошены Кремлём.
Кто именно знакомится там с наследием усатого путешественника Мефодий так и не узнал, зато он выследил троих в библиотеке. Несмотря на расовые, этнические, возрастные различия, все трое выслеженных были усаты и дышали не бесцветным и хилым потом науки, как все остальные кругом, а как жеребцы – некой жизненной, степной, неукротимой силой! Три месяца и три дня Мефодий исследовал их привычки, места стоянки, пункты питания и жилья, что и пробудило в нём интерес к юридической науке, и он легко и охотно перевёлся с географического факультета на юридически-криминальный. Почему легко? А потому что в то время геофак был престижнее юрфака, поскольку по окончании его всегда была возможность умотать с концами куда-нибудь помимо зоны, которую и лишь которую обещал юрфак. Но Мефодий об этом не догадывался. Он лишь продолжал своё теперь уже не исследование, а расследование согласно юридической науки.
Так, устроив при библиотеке юбилейный коллоквиум на тему: «О путях поимки в степях и методах размножения в неволе лошади Пржевальского», он обнаружил ещё одного усатого, но уже редкоусого монгола, вкупе с тремя прежними наиболее активно и горячо выступавшего в прениях, потом сблизившись с ними, он с ужасом обнаружил, что матери каждого из них, включая безымянную арабку и монголку по имени Гумджадаин Бангамцарай подстирывали за господином рубашки и панталоны, пока он гонялся за лошадьми.
Этот монгол и сообщил Мефодию, который к тому времени отпустил наследственные усы, что в Петрограде, в библиотеке Салтыкова-Щедрина он встречал еще троих коллег по разысканиям. При выезде на место для разбора, Мефодий обнаружил, что один из них и вовсе безус, к тому же его мать никогда не была прачкой, а интересуется он Пржевальским лишь петому, что занимается изучением распространения стихийного материализма по царским окраинам, но этот безусый юнец и назвал Мефодию точную цифру прачек путешественника – восемь. Мефодий быстро сообразил, что с монголом и арабом их оказывается 7 братьев, но кто же тогда восьмой?
Этому вопросу Мефодий посвятил весь остаток своего обучения и своей жизни до З7 года.
А-ба! А вот и Фёкла-шептунья вернулась с обеда и, озираясь по сторонам, шёпотом спросила время. Узнав, что задержалась на полчаса, она быстренько стала обвинять всё тем же шёпотом и глухого Кун-охуна и косого Тимурхана в безделии и пустом времяпровождении. И только когда Кун-охун отдал половину сундучных сбережений своей жены Джибладжибон за три бутылки без сдачи, она, зыркнув последний раз по сторонам, исчезла под прилавком.
Они пришли к Мефодию в барак в то время, когда тот в бреду безопохмелки вспоминал статья за статьёй Гражданско-Процессуальный Кодекс, заученный им наизусть вслед Уголовно-Исправительному в Соловках, но почему-то дважды сбивался на Карагандинский УПК и однажды даже на Земельный Кодекс, вызубренный им на вольном поселении в Чите на улице Назара Широких.
После первой бутылки он восстановил ГПК в памяти не только по статьям, но и по частям, включая Комментарии. Правда, во время второй эти двое спрашивали совсем о другом: один – о партийных последствиях, другой – о ночной пижаме. После третьей Мефодий свёл обе эти посылки воедино, но в это время разгорячённый грузчик был послан во имя Партии чуть ли не погибшим любовником за новой порцией, и по дороге, обстрелянный сторожем шерстьфабрики Мукумом-пистирма всё по той же заботе о патронах для Кузи-итотара [56]56
Кузи-собакострел
[Закрыть], вернулся ползком, проделав за час окружной манёвр мимо шерстьфабрики и хлопзавода.
Две первые из второй серии они пили молча, извне казалось, что люди скорбят вторую неделю по смерти вождя. После третьей (часть два) Мефодия-юрфака развезло окончательно и бесповоротно. Он не только свёл воедино в своём сознании все заученные им по лагерям Основы, кодексы и комментарии, но почему-то полез в свой интеллигентский портфель, служивший ему по ночам подушкой, днём – столом, а в промежутках – сундуком, в коем он хранил нажитое за всю свою жизнь, и достал оттуда какую-то зачитанную книгу, дабы размахивать ею как Кодексом Кодексов, Основами Основ, Комментариями Комментариев, крича оглохшему Тимурхану и окосевшему Кун-охуну, что он докопался до истины, и что он всегда её знал, и что, наконец, обращаться к нему нужно не по имени Мефодий, а звать его Вениамин… Пока он кричал эту чушь, книга выпала из его рук, и Тимурхан, доползший до нее из сострадания, прочитал вслух:
– Тт-т-о-мм-массс Ммма-ннн… И-и (здесь он икнул от волнения) – йок…сифф и-и-е го бррр… – ать! Я!
– Да! – завопил Мефодий-Вениамин, – да, именно! Он прокричал это в какой-то горячке, а потом и вовсе стал бессвязно пересказывать столь жуткую историю о ссылках и изменах, о царствовании и голоде, что потом по трезвянке ни вновь окосевший Тимурхан, ни заново оглохший Кун-охун не осмеливались её вспоминать ни при людях, ни в одиночку, ни вдвоём перед новой опохмелкой…
Единственно, что запомнил Тимурхан из этой истории об Иосифе – то, что мать его была прачкой, и почему-то этот скромный факт будоражил Мефодия больше всего.
– Ммма-ть ег-гго была прачкой, братть-я! Вы понимаете… – плакал он, и Тимурхану ничего не оставалось, как прервать его трезвым:
– Ну не пи. ди!
А то, что запомнил простодушный Кун-охун и вовсе никак не умещалось в голове: партия, Сталин, Джибладжибон, и почему то еще этот Юсуф, который не только правил, правит, но почему-то еще и будет править. Неужто этот самый Юсуф-сапожник? Тогда причём здесь товарищ Сталин?! И тогда он тоже повторил за Тимурханом:
– Ну ни пи. ды!
– Не ввве-рришь?! Не вверишшшь?! – Мефодий не знал, чем еще можно убедить этого косоглазого и того глухого. И вдруг он заплакал: – Ссы-ы мне на голову, если не веришь! Ссы при всём народе!..
Пока Кун-охун соединял очередные концы заданных ему этими интеллигентами мыслей на промежутке между Юсуфом и Джибладжибон, его вдруг обожгла догадка о той самой измене, но то была, как оказалось, огнестрельная рана, когда расставшись вместе с последними сундучными сбережениями жены, а вместе с ними и с мечтой о партии, они втроём пробирались под обстрелами сторожей станции и проводников товарных составов мимо пакхаузов и к пустому базару.
И тогда, в присутствии Хуврона-брадобрея и Юсуфа-сапожника и вправду свершилось то, в чём убеждал бедный Мефодий: Тимурхан неотвратимо произвёл гражданскую казнь над пьянчужкой-интеллигентом – братом своих несчастных братьев, заставив обожжённого от догадки и от раны Кун-охуна стянуть с себя летнюю пижаму, заправленную в сталинские брезентовые сапоги, и забравшись на табурет от Хуврона – вымочиться изо всей своей ненависти к будоражащей смутой интеллигенции на редковолосую и широколобую голову сына прачки и путешественника.
– Я Вениамин, я Веничка, – плакал он особенно густо, когда осторожный Юсуф, мочившийся обычно на будку Хуврона, решил воспользоваться оказией и справил свою целодневную нужду по соседству с Кун-охуном. – А он Иосиф… – плакал Мефодий и слёзы его мешались с двумя струями мочи, пока он показывал куда-то наверх, то ли на Юсуфа, то ли еще выше в поднебесье…
Никто тогда ничего не понял. Да и потом никто ничего этого не вспоминал. А что было и вспоминать? Разве что пятно от испарившейся мочи? Это тогда-то, когда умер Иосиф Сталин!
Да, но как бы то ни было, так и остался Гилас без коммунистов иосифо-сталинского призыва…








