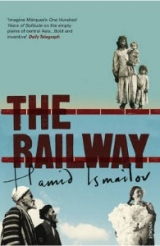
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Глава 27
Дом бабушки был в двух шагах от железной дороги, в полутора – от чайханы, и в шаге от артели Папанина, ставшей потом ателье индпошива еврея дяди Мойши, привезённого из города директором бывшей артели дядей Изей, когда тот сам уехал на повышение в город, а оттуда в только что открывшийся Израиль.
Одна комната с двумя зарешёченными окнами и застеленная казахской кошмой прямо по земляному полу, была гостевой. В углу её стоял сундук, поверх которого выкладывались штабелями цветастые ватные одеяла, рассчитанные на приезд гостей. Сундук был самым таинственным местом в доме у бабушки: оттуда появлялась посуда для прадеда, там же хранились конфеты и сладости, извлекаемые три раза в год – на мавлюд, на курбан-хайит [66]66
день рождения Пророка и праздник жервоприношения – мусульманские праздники
[Закрыть]и на 1 мая. Там же лежали четыре фотографии бабушки и трёх дедушек, поумиравших один за другим, да ещё одна газета, которую последний дед, а вернее дедчим, вынимал по особым случаям, когда уже хвалиться было нечем. Так в сказках, которые читал мальчик своей охающей от ревматизма бабушке, появлялась то живая вода, излечивающая мгновенно раны, то скатерть-самобранка, то «ур тукмок» – «бей дубинка!», припускавшаяся в безнадёжно-отчаявшуюся минуту колотить опешивших врагов. Так и дед вынимал эту газету только по крайнему случаю, например, когда приезжали к нему из Зыряновска чеченцы – Нуру-д-дин и Имраан, привёзшие в слитках золото да богатые настолько, что их однодневная закупка каракулевых шапок и козьих тулупов тянула на 810 тысяч – деньги, на которые бабушка могла бы дожить всю свою жизнь и ещё оставить наследство.
Так вот, дед вытаскивал из сундука газету «Правда» за 5 марта 1953 года с сообщением ТАСС о смерти товарища Сталина – этого таинственного для мальчишки имени, поскольку старшие, которых слушался он, чтили ещё более высокое над ними – невидимого Бога и умершего Сталина. И тогда чеченцы замолкали то ли от страха, то ли от ненависти, то ли не зная, чем ответить…
Бабушка была безбогомольной, но истой по происхождению мусульманкой. Когда умирали её мужья, она выходила замуж внове, чтобы дети от предыдущего брака не росли сиротами, а потому остановившись совсем как мусульманин на своём четвёртом браке, она уже не могла себе позволить, чтобы последний дед умер или пропал. Правда, дед иногда уходил из дому из ссоры или обиды, и тогда бабушка перебиралась из своей комнаты с сундуком и железной кроватью, над которой висел клеёнчатый коврик с изображением трёх оленей на водопое – в «дахлиз» – прихожую ко всем своим оставшимся детям.
Перебравшись в дахлиз – комнатёнку с печкой и деревянными нарами на половину её площади (когда раз в год надо было вычищать эту шахту под настилом от мусора, кутаясь в паутину и ползая на карачках, мальчик находил среди трупиков мух и скорпионов всё потерянное всей семьёй за год – напёрсток бабушки, точило деда, скрипичный смычок Рафим-джона – (с этой скрипкой – отдельная история. Рафим-джон, евший в детстве свои экскременты, чуть подрастя, неизбежно нашёл 1962 рубля, выпавших вместе с председательским пояском из какого-то проходящего, разгульного поезда. Отнесли эти деньги Темир-йулу, тот держал их у себя два дня и на третий выдал им четверть суммы, дескать, так положено всякому, нашедшему клад. Куда дел Темир-йул остальные три четверти – вернул ли благодарному председателю или сдал государству – неизвестно, но как бы то ни было, на выданные деньги был куплен в тот же день телевизор «Рекорд», так что Саймулины с их КВНом были надолго посрамлены, пока не купили на весь Гилас единственный холодильник ЗИЛ. Так вот, после покупки телевизора, а после него в местном культмаге у хромоножки Мавлюды ещё и велосипеда, тоже единственного на махаллю, Рафим-джон долго берёг свои последние 19 рублей 62 копейки – сотую долю того, что он нашёл и что растаяло по Темир-йуловским сейфам и женским сундукам, и, наконец, у той же Мавлюды-хромоножки в том же культмаге купил небывалую вещь, вещь к которой не подступался ещё никто: брали галстуки по рубль восемь, тетради по две копейки, два пера – за одну, и даже однажды барабан по перечислению 11-ой школы, но чтобы купили скрипку, что была завезена как начальный ассортимент при самом открытии магазина! – так вот, Рафим-джон купил эту самую скрипку с смычком.
В первый день он её никому не давал даже подержать, только вскрытую – Натке – дочери Веры-шалавы, и только потому, что он её целовал под раскоряжистым талом на границе дворов; целый день он возился со скрипкой сам, но она не испускала ни звука. На второй день, когда, переспав с ней, он вынес её на улицу, пацанва стала подступаться с советами: кто-то сказал, что надо сильнее прижимать вот эту волосатую палку, Юрка Логинов обозвал того самого «волосатой палкой», и сказал, что эту штуку зовут смычком, он читал это в книге, тогда Рафим-джон доверил ему смычок, и Юрка теряясь от доверия, попробовал провести смычком по струнам, но бесполезно – ничего кроме шуршания не раздалось, тогда крымчак Исмет заметил, что надо прижимать струны пальцами, передали ему, но, увы, скрипка изредка хрипела, чуть чаще шуршала, а потом, к вечеру, однажды и затрещала.
В общем через неделю она кончила свои дни на чердаке, разлучённая со своим потерянным смычком, но когда мальчик однажды убираясь под деревянной супой в дахлизе нашёл там скрипичный смычок, и уже даже знал, что его оказывается надо смазать канифолью, которую, впрочем, так и не нашла у себя в амбаре хромоногая красавица Мавлюда. Как бы то ни было, скрипка, переломленная надвое, но сцепленная неразрывными струнами, так и сохранившими своё молодогвардейское молчание, долгое время путалась повсюду под ногами, и когда кто-то в очередной раз споткнувшись о деку или корпус, хватал её и в сердцах швырял, обломок, отлетев на расстояние натяжения струн, опять возвращался под ноги, и струны пи этом издавали недовольный гул, стряхнув с себя слой заржавелой пыли. Так вот, скрипка потерялась затем окончательно: то ли мыши растащили её по частям, то ли кто-то из завистливых соседей лазил ночью на их чердак, то ли ещё что, словом нашёл мальчик под этой супой и смычок от потерянной скрипки Рафим-джона, и свой проколотый и полуспущенный мяч, и даже седьмой том книжки «Тысяча и одна ночь». Эту книгу особенно любила слушать бабушка, когда мальчик, очистив печку от золы – как звенит совок, напо-о-лняя себя и оставаясь по весу всё тем же, – как легка зола и просторна, – приносил со двора немного дров и ведро угля, который разгорался лишь когда обрызгаешь его густо водой и размешаешь как краску, чтобы обмазать ею уже полыхающие с треском и спелым дымом дрова, и вот бабушка обычно ложилась на своё исконное место – вдоль всей печки, в которую упирался этот полуметровой высоты дощатый настил, и мальчик сперва разгонял по её ревматическим ногам застоявшуюся узлами кровь, а потом отыскивал какие-то желёзки, вырастающие то там, то тут, и растирал их до исчезновения под довольное и страдальческое поохивание бабушки.
А потом он начинал читать ей «Тысячу и одну ночь», книгу нескончаемую, как и сама жизнь, как эти бесконечные зимние дни, начинающиеся и кончающиеся здесь, в этом дахлизе, где печка да бабушка, да три брата-дяди, и изредка возвращающийся из обиды дедчим, а между ними – на несколько часов школа.
Дом бабушки – эти две комнатёнки, в которые едва проникает свет до уровня дощатой супы, раз в год после зимы красились неровной зелёной краской, вернее зелёнкой, разведённой в гашённой извести, а потом этой же щёткой-мочалкой, оставлявшей редкие зеленоватые полосы, белились вплоть до фанерного потолка, покрытого раз и навсегда олифой, ставшей коричневой от времени и копоти. По потолку неровной змеёй шла проводка недавно проведённого монтёром Болтой – мужем первой гиласской шалавы, света. До того дед каждый вечер колдовал над своей керосиновой лампой десятого номера, то дуя в стекло, то протирая его до блеска специальной ворсистой фланелью, то подрезая, как собственные усы, маленькими ножничками распустившийся за вчерашний вечер фитилёк…
А потом появлялся свет, окутывая сначала лампу паром, и вслед, по мере высовывания фитиля, разгоняя этот пар по сеточке, оставшейся от усиленного протирания той самой ворсистой фланелью; лампа ставилась посреди хонтахты – плоского прямоугольного стола на коротких – со спину облысевшей от этого кошки ножках, и все садились вокруг лампы и вокруг стола на ужин, кончавшийся молитвой: «Адам бой бусин, пуллари куп бусин, уйимиз ёруг бусин, омин! [67]67
Пусть отец будет богатым, пусть у него будет много денег, пусть дом наш будет светлым, аминь!
[Закрыть]»
Дом бабушки…
Глава 28
Гоголушко знал обо всём. Но не знал он об Апостольском Храме Фомы. Впрочем, никто в Гиласе не знал об этом храме, кроме отца Иоанна, которого все считали сумасшедшим сторожем русского кладбища и звали просто – Иваном, а то и старым Ванькой. Посреди русского кладбища стояло некогда некое уродливое сооружение, считавшееся в народе колхозной гидроэлектростанцией, построенной ещё до революции. И она тихо-потиху обрастала курганом могил, так что осталось лишь кривое конусообразное возвышение всё той же уродливой формы. Вот и всё.
Правда, среди мальчишек Гиласа ходил разговор, что никакая это ни гидроэлектростанция, поскольку изнутри она уходит глубоко в землю и вся выложена из роскошного коричневокрасного гранита, которого в Гиласе только одна плитка – на самую последнюю ступень под пьедесталом известкового Ленина.
Храм Апостола Фомы, заложенный по преданию самим Неверующим Апостолом и впрямь уходил глубоко в землю, вернее, земля веками поднималась вокруг храма, нутро же его, вычищенное за долгие годы истового служения отцом Иоанном и вправду было великолепным. Густой и гулкый, именно так, гулкый гранит, напоминающий гранит совсем уж недавнего Исаакия, в котором начинал службу благочинным отец Иоанн, вздымался колоннами вверх – к куполу строгому и отверстому в азийское пыльное небо. Но не колонны, вычищенные до скользкого блеска отцом Иоанном, создавали великолепие убранства, а бесчисленные гранитные ступени, уходящие спираль за спиралью, всё более утончаясь, вверх и вниз. Часть из них из местной сырости покрылась окаменевшим мхом – делом совсем уж чудным в этих краях, и сколько ни пытался отец Иоанн соскрести его, мох настолько въелся зелёными разводами в серокоричневый камень, что дальше – соскрёбка грозила самому благородному граниту.
Здесь не было ни икон, ни образов, ни крестов, ни лампадок: ничто не отвлекало духа кроме единого стремления снизу вверх: последнюю штукатурку с благолепного и строгого гранита отец Иоанн снимал, соорудив себе род люльки, свешивавшейся с единственного отверстия в куполе, работал он на самом рассвете, когда никому из православных не приходило в голову умирать, а если и приходило, то крутые на водку поминки всё равно кончались лишь на третий день, и только к вечеру третьего дня являлся какой-нибудь антихрист наподобие Мефодия с бутылкой зелёного змия и оповещал отца Иоанна об очередном преставившемся из воинства Сатаны. Правда, отец Иоанн и их употреблял в дело, возводя своего рода неприступный курган из этого бесьего семени вокруг беспорочного Храма своего.
Ниши, обозначавшие окна, выходили в глухую землю, источавшую из себя тлетворную влагу. Её-то отец Иоанн забил наглухо чёрным, смолистым толем, и при свете полуденного солнца, иной раз косо попадавшем в купольное отверстие, эти окна начинали светиться синим светом, и чудное ощущение извечных сумерек посреди полуденного мира наполняло сердце отца Иоанна прохладой успокоения.
Одна страсть снедала отца Иоанна все эти долгие годы пустынного служения – он алкал восстановить Храм в былом великолепии. Эта страсть позволяла ему жить лишь приношениями нескольких старушек-баптисток, а особенно Марфёны Моши, которая боялась, что хороня и её, отец Иоанн проклянет раскольное семя, и поскольку отец Иоанн был единственным религиозным чином во всей этой округе, то бедная Моша дорожила изо всех сил его возможным причастием. За долголетним усердием отец Иоанн потерял во многом привычку к постоянной еде, пасхальные куличи пучили его, а яйца и вовсе вызывали жжение привыкшей к темноте и прохладе кожи, – любимой пищей его были орехи, которые он набирал на границе своих владений, да изюм, изымаемый им из запредельного колхозного виноградника и засушиваемый во славу запёкшейся крови Господа.
Было сказано, что одна страсть снедала отца Иоанна – он жаждал восстановить божий Храм в былом великолепии, и именно эта страсть заставляла его ежеднесь вести летопись деяний разношёрстного племени пёсьеголовых – этого беспутного, распутного, заблудшего племени гиласского. Правда, вёл он эту летопись за вычетом тех лет, когда его отправляли то на Соловки – откуда он, собственно, и был выслан в эти края первоначально, то на Колыму, а то – в последний раз уже неподалёку – в зерафшанский Учкудук. А высылали его не мудрствуя лукаво – по разнарядке – по разнарядке, поступающей на Гилас свыше – то как классового врага народа, то как безродного космополита-националиста, то в последний раз как тунеядца-рецидивиста. Отец Иоанн был несмирен духом, одно лишь беспокоило его то на Соловках, то на Колыме, то в Учкудуке – не начнут ли благоустроительство русского кладбища, и за этим делом не вскроют ли храм апостольский, оставленный им в виде могильного кургана то с директивой Сталина, набранной белым галечником: «Все лицом к деревне!» – так, чтобы нечестивые и не смотрели в эту сторону, то под знаменем с антихристьим усатым портретом, чтобы никому неповадно было сюда соваться, а то – в последний раз… в последний раз было труднее всего: ведь набери он какой-нибудь лозунг – высылавший его в прошлый раз Кара-Мусаев-младший – уже ставший к тому времени просто читателем лозунгов Мусаевым – придёт просвещаться и на это кладбище, засей отец Иоанн могильник хрущёвской кукурузой – блудница Вера потащит сюда свою клиентуру – словом всю ночь перед отправкой в Учкудук мучился отец, пока – да простит Бог, не перенёс свою уборную – и ведь был прав – взрослым в голову не приходило отправлять свою нужду на середине кладбища, а дети никогда не заходили вовнутрь будки, загадив между тем её со всех сторон.
Хоронил православных на время отсутствия отца Иоанна – Мефодий – кого за трёшку, кого напрямую – за бутылку. Но ни промежуточные похороны, ни эти ссылки и высылки не были главными в жизни отца Иоанна. Хотя именно они и были жизнью его. Главным в жизни его был Храм. Вся истовая его жизнь положена на восстановление, но вместе с тем, как всё меньше и меньше оставалось во храме несчищенного и неотполированного, тем большее беспокойство разбирало отца Иоанна. Нет, не досужее беспокойство о том, что его отправят в очередной раз по разнарядке, теперь, скажем, в качестве гиласского диссидента – он к этому привык и телом и душой, а потом – Господь сам наказывал гонителей, – нет, о предназначении Храма была тревога и забота отца Иоанна. Долгие годы сама работа по очищению его занимала отца, и не было иных мыслей, как восстановить Храм в былом, первозданном великолепии. Но теперь, когда последняя соскрёбка, последняя шлифовка была уже вот-вот, сердце отца сжималось как всё уменьшающиеся наросты на гранитных колоннах: а что потом?… Да, что потом?! Открывать это великолепие разноплеменному сброду пёсьеголовых?! Затем ли это великолепие и лепота, дабы эти свиньи тупорылые сбежались как на жёлуди?! О Господи, затем ли Ты испытывал его всю жизнь, обратив его волю в подвиг, если теперь станешь метать сей бисер меж кабанами рода человеческого?! Кому Ты доверишь Храм свой?! Тем, кто обратят его на первый же день в краеведческий музей, на второй – в хранилище, а на третий – и вовсе в склад вонючей картошки да прогнившего беляловского лука?! С этим отец Иоанн никак не мог смириться.
Он увещевал свою гордыню, он понимал, что Храм без людей – не Храм, но где эти люди, о Боже?! Зачем же Ты создал столь совершенной веру свою, что мир погрязает в безверии? И разве попрание этой веры, жизни его, положенной на восстановление – это смирение гордыни?! Мучился отец Иоанн духом, а потому всё оттягивал тот час, когда Храм заблистал бы в могучем совершенстве, как во времена Апостола Фомы по прозвищу Близнец…
Нет, не верилось отцу Иоанну, что с завершением Храма подземного завершится восстановление Храма Небесного, не верилось… Казалось, дух самого Фомы Неверующего витал над отцом Иоанном, углубляя его сомнения.
Отец Иоанн ещё в бытность свою благочинным в Исаакиевском Соборе, ещё в юности своей, когда цвела русская философско-богословская мысль, размышляя о природе веры, с хладеющим ужасом осознавал, что опыт чужой веры – незначим, что вера – это ощущение, переживание глубоко внутреннее и несказуемое – именно потому веры складываются с чужих слов, на то и несовершенные, предающие и мучащиеся вослед апостолы, дабы устанавливать догмат. Сократу нужен Платон, Христу – апостолы и евангелисты, Мухаммаду – халифы. И вот, занимаясь историей апостолов более чем историей самого Христа, отец Иоанн избрал не откровенного предателя и антихриста – Иуду, не предсказанно-отрёкшегося от Иисуса – любимого Петра, не велеречиво-восхищённого соименника своего – Иоанна – они и впрямь были предсказуемы в своих деяниях, диктуемых жизнью и смертью Христа, нет, избрал он к пытливому изучению Апостола Фому Неверующего по прозвищу Близнец. Именно к нему, сомневающемуся в очевидном и не верующему впредь своего опыта почуял близничье сродство отец Иоанн.
В «Богословских Записках» он опубликовал две статьи, основанные на апокрифах и житии Святого Фомы, отправившегося после Воскресения Господня в Гирканию и Индию. Неверие в догматы, не прощенное высокоположенными соборными чинами и стало причиной высылки отца Иоанна на Соловки, хотя поводом был избран, напротив, его ортодоксализм. Там он и познакомился с неким Магмудом-Гаджой – нет, не богословом, но образованным мусульманином, и с неистовым удивлением обнаружил, что жития пророков имеют свои версии в Исламе. Там он слушал чудные рассказы то о Ноевом Ковчеге, где кобель решил размножаться с сукой, но оповещённый кошкой Ной не позволил Ковчегу пойти ко дну от приплода. Да только вот с тех пор и длится история кошки с собакой, как и стыдливые глаза псов – глубокомысленно заключал Магмуд-Гаджа свой рассказ. Все эти истории были столь диковинны, что отец Иоанн мало-помалу стал расспрашивать Гаджу и о своих апостолах. И вот тогда Магмуд-Гаджа, основываясь на читанных им некогда древнеуйгурских христианских книгах, рассказал ему об апостоле Фамусе, дошедшем до Оксуса и Яксарта, и даже где-то заложившем храм своей веры…
Это и предрешило судьбу отца Иоанна. Ночами, при свете скрипящего барачного фонаря, посаженного, как и всё здесь – в железную клетку, отец Иоанн учил завихрушки арабского и древнеуйгурского письма, пересказываемые ему по памяти Магмудом-Гаджой. Так и остались в его памяти пружинка с отогнутым назад хвостиком как «аш», а гарпунистая иголочка как «и». Махмуд-Гаджа ввёл его в мир диковинного народа – уйгуров, которые истово верили во все религии – от шаманизма и до буддизма, переводя на свой язык и «Алмазную Сутру», и покаянные молитвы манихеев, и христианские Евангелия…
Уже впоследствии, когда этот сокамерник завёз отца Иоанна в Гилас, а сам почил в Бозе в Баласагуне, осиротевший отец Иоанн стал скупать во всей округе древние рукописи, а особенно же написанные пружинками и иголочками. Говаривали, что собственно, именно он и ввёл в Гилас эту заразу – охоту на рукописи, которой болели попеременно то паспортистка Оппок-ойим, то слепой старец Гумер, то пьянчужка Мефодий, то партсекретарь Гоголушко…
… Но мы отвлеклись от мучительных мыслей отца Иоанна. Неминуемо приближался день последней соскрёбки, последней шлифовки. И что потом? Как скалолаз, взбирающийся на самую высокую вершину мира, которой кончается Земля и начинается только Небо, он понимал то опьянение, что ждёт его в этом иссиня-разреженном воздухе – с проглядными снежными вершинами – разбегающимися по сторонам – до широтного конца земли – он чуял эту головокружительную минуту… ну две, ну пять… а дальше? Что дальше, если не лопнет сердце в это дление? С горами проще – воображал отец Иоанн – надо спускаться обратно – вот и всё. Но как спускаться с его вершины? С вершины его духовного подвига, длившегося жизнь?! Куда спускаться?! Во что?! Закапывать и замазывать храм обратно?!
«Было сказано: Люби брата своего и ненавидь врага. А я же говорю вам: Любите врага своего…» – неслось с этих вершин. Но кто поставит иноверца выше правоверного?! Он вопрошал самого Господа, а искал ответа в самом себе. Дьяк, епископ, архиерей, Патриарх или Папа Римский?! – эти ли столпы христианства?! Он искал ответа в себе, но то, что находил – оказывалось на поверку ни много, ни мало – отречением от догмата веры.
… Давешним днём, а вернее, давешней ночью после Пасхи Господней, он наткнулся на окраине кладбища на спящего калачиком под кустом мальчика, и от него разило зелёным Змием. Может ли быть что отвратительней этого?! Змий под Древом Познания… Отцу Иоанну вздумалось огреть Сатану дубиной – но Боже, не нашлось ничего под рукой, кроме креста, воткнутого в могилу, и уже схватив этот крест, и уже замахнувшись им, отец Иоанн внезапно стал: мальчик-туземец шептал по-русски: мама…
Он так и не проснулся, ни когда отец Иоанн перенёс его к кургану, ни когда полез работать в Храм, оставив ребёнка под своим драным тулупом при звёздах. Далеко за полночь с незнакомым доселе волнением, отдающим даже похотью, отец Иоанн внёс мальчика в Храм. Ничего подобного отец не испытывал никогда – казалось, каждое движение его прослеживается тысячами глаз тысячекрылых и бесплотных ангелов, каждый помысел его сверяется на чистоту – и он торопился показать, что звуки похоти его совершенно другой природы – так человек в силу своего несовершенства, пыхтя и потея, пытается причаститься вечности, овладеть в некоем смысле ею, а в итоге, в итоге – остаются эти похотливые потуги… Отец, запинаясь и комкаясь, прочёл пятьдесят шестой Псалм Давидов и осенил мальчика. Мальчик лишь на недолгое мгновение приоткрыл свои глаза, обвёл взглядом храм, ступени и колонны, купол, отверстие в открытое рассветное небо и опять закрыл глаза.
Теперь священник хотел, чтобы он умер сейчас и немедленно, он поймал себя на этой грешной мысли с ужасом, со стыдом, но и с неистребимым желанием – он причастил бы это безгрешногреховное чадо, он исполнил бы этот храм смыслом и значением, но мальчик не умер, и отец Иоанн не убил его, чтобы свершиться во Храме своём…
Всё случилось куда более прозаически. Когда в некоем трепещущем опьянении отец Иоанн полез при мальчике, лежащем перед алтарём на камне, обозначающем Гроб Господень, в свою люльку – скалывать последний кусок каменного нароста на граните, этот скол сорвался при первом же ударе, и, оторвав кусок неловкой ризы отца Иоанна, грохнулся на гранитную ступень, отбив её малую часть, а потом с новой силой сорвался в подземелье… Старик торопливо спустился вниз, мучась сколотым сердцем об ущербе, но ущерб на ступени был мал, и когда возрадовался отец Иоанн о сколе, и обратил лице свое в небеси, он услышал тоненький ток подземной струйки, который змеисто наростал… С ужасом предрешённости, старик кинулся вниз по ступеням, скользя и спотыкаясь на их отполированной глади, и там, в темноте, куда никогда не проникал дневной свет, услышал шелест крыльев улетающих ангелов. Вода из геенны огненной прибывала неотвратимо, поднимаясь зловещим паром. Отец бросился было навстречу, но нестерпимый ожог мгновенно понёс его наверх, к мальчику, лежащему с открытыми ясными глазами. Старик схватил его в охапку и хлюпая ризами по блестящим ступеням ринулся наверх, к куполу, к отверстию в небо…
То был день, когда пала водонапорная башня напротив дома слепого Гумера. Фонтан горячей минеральной воды ударил в Гиласе на территории русского кладбища. На первых порах необузданная вода размывала окрестные могилы, заложенные отцом Иоанном, которого все знали как сторожа Старого Ваньку – гробы вперемешку с летописными листами плавали поверх целебных потоков, но потом, нагнав экскаваторы из местного ПМК и с трёх баз детей Чинали, Оппок-ойим установила на кургане вышку, что хоть и носит по-прежнему название колхозной ГЭС, но отделённая тропинкой от окрестного православного кладбища, где похоронен сумасшедший Ванька-вещатель, используется райздравотделом для сероводородных ванн…








