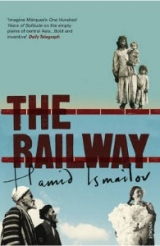
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
«Опять расчищать траншею от дюны» – с горечью подумал он, и на рассвете, проснувшись раньше всех, вышел из юрты. О Боже! – Там, где обрывалась последняя положенная наземь рельса, в небо торчала всё та же лестница из поворотных рельсовых обломов, накрепко перехваченных тремя шпалами, и старик, мёртвый старик-йомут был наброшен на самую верхнюю из них, упираясь ногами в первую. Натягивая на ходу китель, он с ужасом подошёл к нему… Густая кровь из перерезанного горла сочилась и капала по бороде и на шпалу, со шпалы в песок. А там, где железная дорога забирала неизбежной лестницей вверх, в яме, в траншее под ней он увидел, как, закопавшись в полтела в кровавый песок, торчал судорожными ногами и рукой с ножом, измазанным запёкшейся кровью зеленоглазый юноша – отправивший, как видно, отца в небо…
Но разве поймёшь этих смутных йомудов или теке – как будто пол-короля наросло на пол-вальта в игральных картах – ничего ясного, так он объяснял старшому карателей, когда тот распорядился закопать отца и сына в траншее, а три последних звена пути разобрать и пустить стороной – подальше от этой лестницы, так и оставшейся торчать в пустыне над этими двумя безумцами.
Но нет худа без добра. На смерть этих двух пришла из пустыни дюжина их родственников, как будто бы ветер или песок, а то слепое и почерневшее от ежедневности солнце донесло им весть о смерти. Им дали оплакать могилы, а потом приговорили их всех строить дорогу дальше, включая и трёх женщин за чадрами, которые теперь варили скудную пищу тем, кто глубже и безвозвратней удалялся в пустыню.
На одноколёсных тачках, используя уже проложенную рельсу, треть невольников подвозила гальку и рельсы, тем временем, как другие две трети рыли в обжигающем песке траншею, припадая к отвесной – с ладошку тени.
И вот в один из дней, когда на своём ахал-текинском жеребце, подаренном ему вместе с наганом за новичков, он проскакал вдоль проложенного участка, обгоняя медленных, как солнце в небе, тачечников, когда он привёз тушу барана с мешком российской картошки для недельного питания, после разгрузки провизии в интендантскую юрту, его потного локтя коснулась чья-то жаркая рука. Он обожжёно, как ужаленный песчаной эфой, вздрогнул и обернулся. Перед ним, приоткрыв чадру и что-то жарко шепча из-под неё, стояла семнадцатилетняя красавица – видать одна из подневольных стряпух.
– Неме ислейсен? [97]97
– Что ты хочешь?
[Закрыть]– спросил он.
Она опять что-то прошептала, но то ли из-за собственной разгорячённости, набившей ему поту в ухо, то ли из-за разгорячённости и свяленности выкопченного воздуха, он ничего не расслышал, разве что различил самый конец зазывного знака её руки, пропадающей в складках её цветастой и длиннополой накидки. Она обернулась и зашла за интендантскую палатку. Каждую секунду их могли заметить востровзглядые казаки, но сила или любопытство больше осторожности и страха повела его вслед за ней.
– Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин! [98]98
– Если силой не возьмут, то сама я не дамся!
[Закрыть]– повторяла она в какой-то решительной горячности. Он не сразу понял смысл этих слов, но их воспалённость всё более и более возбуждала и будоражила его юношескую кровь. Он взял её за руку. Она не сопротивлялась.
– Неме ислейсин? – переспросил он. Но спросил на этот раз как в плату за свой риск – держать её за руку на расстоянии окрика от орды её соплеменников и своры своих охранников. Она поняла его жест и показала рукой далеко назад, откуда он только что прискакал.
– Бугун гирк гун олди. Сенема мусулмансин. Тунде барамиз ора…бурдан! [99]99
– Сегодня сорок дней. И ты ведь мусульманин. Ночью поедем туда… отсюда!
[Закрыть]– она пролепетала как-то заученно и тут же скрылась за интендантской палаткой под навесом походной кухни.
До самого вечера он горел вместе с солнцем, повторяя, истолковывая каждое её слово, каждый жест, пугаясь вместе с тем того, что предвкушал, и снова предвкушал то, чего так боялся. Закат висел назойливо, как отрубленная голова, никак не закапывающаяся в землю, но вот и первая белая звезда выступила на зелёном небе, белая, как её запястье из зелёного рукава. Чуть позже он напоил жеребца остатками воды и пошёл одиноко к остывающей рельсе сегодняшней прокладки, дожидаться ночи.
Он сидел на этой колченогой дороге, к которой теперь, как костыль, было решено приставить, но не вколачивать в шпалы – вторую рельсу, дабы использовать в подвозке и прокладке тягловую дрезину, что по-бурлачьи должны были тянуть невольники-новички, но мысли его недолго задерживались на этом, опять и опять спадая к этой семнадцатилетней, пустившей побеги по его молодой крови, и ни с того, ни с сего он стал мучиться от её вспоминаемых слов:
– Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин! – подозревая в них казацкое насилие над девичьей чистотой, а может быть это был её знак действовать решительно и сильно; но как бы то ни было, губы её, шептавшие эти слова, заслонили собою всё перед глазами… и вдруг он осёкся, заметив, что засыпает на оборванной рельсе.
Пришла, наконец, и ночь. Дохнуло вымученной прохладой, встала полушная луна и осветила бледно пересчитывающиеся дюны. Змеи выползли из нор и зашуршали затёкшимися вольными телами. Заухала одиноко пустынная сова. Он подошёл к интендантской палатке и всё более возбуждаясь, стал ждать. Ему казалось, что всё – какой-то солнечный бред, марево его сознания, что она не придёт, если не пришла до сих пор, что это быть может проделки старшого, который выглядывает сейчас его позор из своей белой палатки. Он передумал сотню таких мыслей и за ними не заметил, как она подкралась сзади и опять тронула его за хладеющий локоть. Он, как ужаленный, обернулся и схватил её предательски за руки.
Она сказала:
– Орда! [100]100
– Там!
[Закрыть]– и он, поняв, что всё случится там, поспешил вывести её за пределы лагеря к зарослям янтака, где, выискивая редкую былинку, томился его жеребец. Они вскочили на неостывшего, она обхватила его за пояс, и её упругие груди коснулись его вздувшихся лопаток. Глаза его смотрели вперёд, но сердце прибилось к спине. Луна вскачь поспевала за ними, распуская по ветру светлые космы звёзд. И вот когда она встала в небе, зависая над нелепой рельсо-шпаловой лестницей, как бы в намерении вот-вот спуститься на холм песка над бывшей траншеей, Барчиной медленно соскользнула с крупа и пошла, не скрывая своего лунного лица, к могиле. Он спрыгнул следом. Жеребец заржал и осаженный, попросился на волю. Он отпустил его, и сам поспешил неверными шагами вслед за девушкой. Платок, что не был сдут ветром их лихой скачки, казалось, сдула луна – она сбросила его с себя вместе с накидкой и вдруг одним движением рук распустила свои змеино-блещущие волосы. Он плёлся за ней, не зная следующей минуты и уповая только на таинственную ночь. Внезапно у самой лестницы она распластала руки, блеснувшие на луне, и припала к холму. Он бросился к ней лежащей, он уже почти накрыл её собой, когда как гром среди звёздного неба, услышал её глухие рыдания. Она плакала, повторяя своё непонятное:
– Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин!
Он осёкся, как жеребец от узды, но лишь на мгновение. В следующий миг он уже целовал её в волосы, путающиеся в слезах и песке, в спину, вздрагивающую от всхлипов, в руки, безвольно распятые у основания двух железных рельс, торчащих к бесстыжей луне. Тело его – необъезженного жеребца, жаждало утонуть в этой пустынной ночи. Он целовал её долго, до истомления, пока внезапно не почуял всем телом того, что она занята совсем другим. Казалось, она и вовсе не видит, не чувствует, не ощущает, не помнит, не несёт его; и впрямь в каком-то оцепенелом забытьи она билась над этой песчаной могилой, как будто желая то ли развеять песок над ней в звёздное небо, то ли обрушить звёздное небо песком поверх своего горя.
Он отстранился от неё, продолжая лежать боком на этой могиле. Наган сквозь кобуру вдавился ему в бок, и он отрезвлённо, враз почувствовал свою излишнесть и никчёмность рядом с её смертельно-горькой любовью. Он сел нелепо на корточки и после долгого возвращения в себя, ему вдруг стало жалко эту божью девчушку, и, склонившись над ней, он стал гладить её головку – жаркое темечко, путаные волосы.
Мало-помалу она оживала, а потом внезапно обернулась из бурого песка своим заплаканным и перечёркнутым волосами лицом, чтобы медленно положить свою голову ему на подогнутое колено. Он опять осторожно поцеловал её в темечко, а потом, прибрав тяжёлые волосы, в шею. Она не сопротивлялась. И стыдно, и неловко, и вожделенно было ему, но желание его пересилило и её отрешённость, и его отчуждение. Он опять припал к ней, но наган опять мешал, и он тогда снял с себя портупею с ремнём и кобурой и бросил её к основанию той нелепой лестницы, и вот когда уже казалось, ничто не остановит его юношеского ночного напора, девушка медленно уставила в него сверкающий ствол нагана. Он вскочил от неожиданности – вместо того чтобы выхватить или выбить его из её рук, он был нелеп – посреди пустыни в спадающих портках, и пока он сообразил свой позор, Барчиной выстрелила себе в сердце. Птицы, севшие на короткую ночь в обрубки саксаула и тамариска, шумно захлопали сонными крыльями, подкравшаяся, чуя их любовь, эфа отпрянула, шурша в ночь, и по её следу побежала струйкой кровь – в несколько толчков, и, скатившись по груди в песок, осеклась.
…К утру он закопал её в ту же траншею, под ту же вспарывающую небо лестницу и, взяв жеребца под уздцы, вернулся железной дорогой в лагерь.
В тот же день он был взят под арест, и старшим казачьего отряда было открыто самоличное дознание по происшедшему. В арестантском вагоне, откуда были изгнаны на работу туземцы-йомуты, но оставался их тяжкий и густой дух, поручик Лемех допрашивал его шаг за шагом о происшедшем. Непонятно почему и зачем он отвечал, хотя то, что он отвечал, было столь далеко от происшедшего в действительности, но разве Лемех, которому по существу было интересно лишь одно: трахнул он её хотя бы мёртвую или не трахнул – мог что-либо понять в его запутавшемся и прояснённом разом нутре?! Не добившись ответа на свой скорый вопрос, Лемех потерял интерес к этому делу и перепоручил дознание подпоручику, имени которого он и не знал. Этот был из войсковых интеллигентов, расспрашивая о мотивах, двигавших ею и им, но поскольку не было понятно, чего подпоручик добивается, то к полудню и этот безымянный за каким-то благонадёжным предлогом уступил его очередному казаку. Тот просто-напросто избил юношу «за попранную честь державы и невоздержанный х. й». С этим было больно, но просто. Однако, увы, ничего в его нутре не шевельнулось, не изменилось. После полудня его обдали только что доставленной водой, но только окровавленное лицо, и тут он достался интенданту, которому помогал в подвозе провизии. Тот посокрушался лишь о том, что паря не поделился с ним, уж вдвоём они бы оттрахали её и в хвост и в гриву.
Потом было ещё несколько казаков по убывающей, но он запомнил лишь одноглазого сыноубийцу Бульбу из запорожцев, который, вдруг обнажив свой член, полез на юношу, чтобы покончить с ним всё тем же способом, и впрямь, когда Бульба навис над ним, он, трепещущий, был готов на всё, но более всего на самоубийство от возможного позора, но, наконец, вырвавшись из-под десятипудового казака, он зашипел, сам не зная почему:
– Эгер гуйч билен алаймасалар, озум-а бермерин!
И тут же следом, схватив ведро, из которого его поливали, врезал со всего маху по единственному глазу казака, но ведро скорёжилось о лоб, а вставший Бульба треснул ему в сердцах так, что тот упал замертво, и тогда, сплюнув на него и подвязав свои шаровары, Бульба вышел из арестантского вагона, готовый чуть позже сменить в нём мёртвого парубка.
Но он не умер. Смутным и тусклым сознанием он всё равно видел тот же самый нескончаемый свет, что застрял между вчерашней ночью и всем происходящим ей вслед, как зазор, как разрыв, как непреодолимую обыкновением пропасть.
– Эгер гуйч билен… эгер гуйч билен… – шептал он, как будто заражённый сегодняшней ночью чужой любовью как заразой, болезнью, чумой, мором…
К ночи его перевели из арестантского вагона в интендантскую палатку, поскольку вернулись туземцы. А чтобы он не сбежал, на всякий случай измордовали ещё раз. И это было во благо, поскольку пусть на немного, но заглушало нытье его ненужного и брошенного на этом свете сердца. Но к полуночи ему стало нестерпимо тоскливо, и он ушёл, как тень, неся по пустыне своё окровавленное тело.
Его сообщника – жеребца казаки не додумались избить, и тот, чуя предстоящую ночную волю, уже развратившую его кровь, подставил спину, чтобы обессиленный юноша взобрался и указал направление на вчерашнюю могилу.
Там его и выловили, зарытого наполовину в песок, началом следующего дня, и для острастки, привязали казачьими плетьми к той самой нелепой лестнице на целый пустынно-выженный день. Губы его растрескались, на глазах проступила сухая соль, но даже солнце не сумело выжечь его тоски. К закату пробеглая лиса обнюхала его и облизала кровь на ногах, да рыжий обожжённый гриф покружил-покружил и улетел зазывать своих домочадцев на ночное пиршество.
«Им хоть кровь мою лизать да пить, а что лизать и пить мне? – думал с какой-то спутанной ревностью он и опять забывался. Солнце ли то было или и впрямь – рыжая лиса, а то – солнце превратилось в рыжую лису и сбежало за край пустыни…
От щемящих мыслей он попросил у Бога скорой смерти, но Бог отверг его как неверующего, оставив его и вовсе одиноким в пустыне, на которую наступала воронья ночь. Тогда он стал из последних сил звать себе на помощь Сатану, но к полночи, когда чей-то приход так и завис в неостывшем воздухе, вдруг скрипнула верхняя шпала, и спустился не сатана, но бурокрылый, как ворона в ночи, Азраил, хлопавший до ослепления своими крылами. И только лишь он впился без расспросов в сердце и в печень, дабы высосать его душу, как свистнула луннопёрая стрела и вонзилась в шпалу меж головой и плечом распятого. А Азраил, вдруг превратившись в ночного грифа, ранено захлопал крыльями в небе, увлекая за собой своих приспешников…
3
Старик читал над ним:
«И ещё в этой долине имя отвяжется от владельца, как если бы буквы покинули книги, и дорога потеряла направление. И что ты вне имени, книг и дороги? – спросил ослеплённый. – Скажи, если можешь!
Время в этой долине избавится от следов, песок не составляет пустыни, звёзды не обозначают темноты. Но что ты вне дня и счёта и света? Скажи, если хочешь!
Там ты лишишься вопросов, там ты лишишься лишений, там и не там ты – не ты… И что же осталось? Скажи, если скажешь…»
* * *
Здесь первый десяток страниц из заметок Гумера прерывается. Нет следующего десятка страниц, а потом рукопись возобновляется. Но пока вы читали её, мне показалось, что вы должны знать и это. Начну, пожалуй, с самого конца.
В день страшного землетрясения, когда проезжавший мимо Гиласа товарняк выбросило с рельс, когда от удара о пристанционный столб взорвало пять бензиновых цистерн, когда от адского взрыва обрушило водонапорную башню, и неудержимый поток воды вместе с пылающим бензином снёс белоглинянную кибитку Гумера, в которой он жил один, пока жена участвовала в каком-то процессе крымских татар, семь дней по затопленному Гиласу плавали стопки горящих или полуобгоревших, а изредка и чистоисписанных листков. После потопа старушки высушивали их на безобидном солнышке, и, скомкав, поджигали на них дрова в очаге, Кули-бобо, торговавший семечками и куртом в отсутствие Занги-бобо, перемежал их в кульках с листами из «Физики» Пёрышкина за 5 класс, а Мефодий-юрпак крутил из них самосады.
Впрочем, именно он по своей образованности и причастности к праву, открыл то, что на этих листках было написано тонкорунным почерком Нахшон под диктовку слепого Гумера. А обнаружил он однажды в присутствии Кун-охуна, когда в самосад были замешаны несколько катышков потной анаши, обменянной грузчиком на мешок ворованного угля, у Долима-даллола, а было обнаружено, что дым из самосада сплетается в буквы: одна за одной, и в зависших колечках можно прочесть: «Иосиф и его брать…» Перепуганный насмерть Мефодий уставился на Кун-охуна, тот по необразованности и классовой аморфности глотал клочки букв из воздуха и ничего не понимал. Тогда Мефодий по стародавней криминалистической выучке от следствия перебрался к причине и с ужасом своей правоты обнаружил на листе раскрученного самосада обслюнявленный при затушке конец буквы: «я». То было название, а под ним шёл убористый текст, рассказывавший о том, как побочный сын великого русского путешественника от местной прачки был послан Туркестанским географическим обществом на учёбу в Петербург и что там с ним произошло…
Подозревая галлюцинацию от анаши под названием «Смерть» – ведь, к примеру, Кун-охун уже мнил себя коммунистом и пел «Интернационал» без слов и мелодии – Мефодий ринулся к своему портфелю, где на манновском романе и газете «Правда» за 5 марта 195З года лежала стопка высушенных гумеровских листов для самокруток. Он стал читать наобум: о том, как Эльза пела в руанской опере, о смерти Умарали-судхора, о некоем старике Обиде-кори, и… вдруг о сумасшедшем будущем Кара-Мусаева-младшего, сегодняшнего старшего участкового милиции Гиласа, пытающегося сослать Мефодия по 108 статье, поскольку тогда уже никто не будет знать закона…
Много странного нашёл Мефодий в тот день в этой стопке, да вот дойдя до газеты «Правда» за 5 марта 195З года, привычно сошёл на свой сценарий, который как всегда кончился пристанционным мочеиспусканием Кун-охуна на лысую голову незадачливого юриста, но в отсутствие глухого Тимурхана, которого к тому времени уже задавил поезд. А вот листы вот потерялись.
Мефодий пенял потом на Кун-охуна, бегавшего в промежутке между безъязыким глотанием дыма и мочепусканием – «по-большому», – но Кун-охун ничего не помнил, кроме того, что он грузчик и беспартийный. Тогда Мефодий стал просто вещать по узким компаниям о том, что ожидает Кара-Мусаева-младшего и базаркома Оппок-ойим, разумеется, за бутылку Портвейна-5З, и вот когда всё случилось, как предсказал Меподий-юрпак, когда Мусаев стал постигать лозунги, а Оппок-ойим переименовывать паспортами весь Г илас, весь Г илас, а может быть только компании, где вещал Мефодий, стали подозревать, что всю историю с уйгурками-торговками индийского чая, купленного у узбеков-проводников и проданного казахам-козопасам – подстроила сама Оппок-ойим.
И тогда Оппок-ойим объявила розыск на все гумеровские листы, дабы обладать не только настоящим, но и будущим Гиласа, пронюхав о них, впрочем, бог весть от кого, может быть от Османа Бесфамильного, который тогда ещё состоял при фамилии, но не был приписан к КГБ. Словом, как бы то ни было, она давала по новой двадцатипятке за лист – пусть даже из уборной, но ей принесли лишь историю какого-то киргиза Майке, да некоего директора музыкальной школы, которой и слыхом не существовало тогда в Г иласе. Вот.
Тогда Оппок-ойим решила мудрее – она купила на корню Мефодия-юрфака со всеми его странностями – от чемоданчика и до Кун-охуна, мочащегося теперь уже не на станции, а за домом Оппок-ойим, в яблоневом саду – на буйноразросшуюся от обилия фосфора и мочевины шевелюру своего законника, обеспечила ему полный прижизненный пансион – от водки до огурца, но взамен заставила его вспоминать и рассказывать всё прочитанное им в тот самый злополучно-дымный день.
За Мефодием записывал некий мальчик-сирота, которого за каллиграфический почерк и за смышлённость рекомендовала Оппок-ойим 11-ая школа с прохудившейся крышей. Оппок-ойим не только отремонтировала крышу, но и отправила директора школы Имомалиева по профсоюзной путёвке в «Артек», воспитывать тамошнюю шантрапу нашим манерам.
…Тем временем мальчишка записывал на пергаменте из бычьей шкуры, но вскоре после того, как Оппок-ойим заметила, что Толиб-мясник гонит ей вместо бычьей шкуры шкуру с корейских собак, плюнула тому в лицо и достала обыкновенной 800-граммовой финской бумаги формата А-4, да вот Мефодий, боясь окончания синекуры, стал изредка привирать, и вставлял свои нелепые истории, которые потом исследователи, завезённые Оппок-ойим через влиятельного Шаломая, уличили за подделку. Так история с железной дорогой самого Гумера оказалась целиком вымыслом, свои вопросы эксперты поставили и на истории сталинского призыва в партию – Кун-охуна, и ещё бог знает на чём, но не ко всему имел отношение лишь Мефодий.
Дело в том, что, узнав о двадцатипятке за каждый лист, весь Гилас принялся строчить истории, но когда Нахшон по фамилии то ли Доннер, то ли Штоннер, стала беспощадно разоблачать эти фальшивки, население стало действовать хитрее: дескать, вот и мы топили листами Гумера свои очаги, да вот пострел-то наш, оказывается, прочёл несколько страничек, запомнил, подлец, никак из головы не выветрит! Вот послушайте-ка…
Поначалу мальчишка-сирота из 11-ой школы записывал всё подряд под передиктовку Мефодия, мучившего всех своими перекрёстными допросами, потом в комиссию по наследию включили и Нахшон, что к тому времени внезапно постарела от горя и потеряла память, жившую доселе лишь мужем. Но, впрочем, он не лишилась своей непримиримости, хотя, как знать, может быть её базедову болезнь все принимали за въедливость, выпучившую ей глаза?
И тогда поток бумаг и рассказчиков к Оппок-ойим мало-помалу иссяк, но не иссякла народная молва. Ортик-киношник за бутылку водки с огурцом, взамен на кисть и гуашь, рассказывал секретарше музыкальной школы историю Гопала и Сотима, Наби-однорук, пойманный Райником-итотаром [101]101
собакострел
[Закрыть]за своей профессией – расхищением социалистической собственности, вещал тому историю Гаранг-домуллы, прострелившего себе пипиську, отводя при этом от себя сторожевую двустволку немца. Гаранг-домулла, к тому времени уже мёртвый, снился Толибу-мяснику и пугал того его собственным внуком.
Словом, и пошло, и поехало. Помимо официальной комиссии, назначенной Оппок-ойим, объявились какие-то собиратели-самоучки, которые пару раз даже пытались торговать на кок-терекском базаре самописными книжицами, но прослышавшая об этом Оппок-ойим сняла с погрузок и мочепускания Кун-охуна и назначила тому новое занятие – избивать самозванцев. После двух-трёх показных избиений, самописцы в Гиласе исчезли, но кто-то из проводников, приторговывавших чаем, рассказывал, что видел такие же списки где-то в степях среди казахов.
Впрочем, это нас уже не касается, как не касалось это и Оппок-ойим. А коснулось её вот что.
Когда Шаломайские эксперты уже отделили было зёрна от плевел, правда, не зная, что кому и чему принадлежит, Оппок-ойим на всякий случай быстро переплела все четыре списка – один в оленью, другой – в тюленью, третий в крокодилью, а четвёртый список, который якобы явно не принадлежал Гумеру, но мог быть в равной степени либо ранней подделкой Нахшон, поздним вымыслом Мефодия или же честно записанной народной легендой – переплела в дверной, обивочный дерматин и сложила на полгода отстоя, для проверки того, что случится и по какой книге – в свою самую дальнюю и глухую комнату, где хранила письмо от своего мужа Муллы-Ульмаса-куккуза, и, заперев комнату на ключ, вшила ключ в амулет, который носила на шее с дней свое комсомольской юности.
Пока проходят эти полгода, можно вернуться к нашим листам, начинающимся с обгорелой фразы столь же неожиданно, сколь неожиданно и обрываются.
…соседству с ним. Эта Ногира года два назад осталась под первым пущенным поездом, потеряв в этом приключении часть рассудка и все пальцы правой кисти – кроме безымянного, на котором сидело стеклянное колечко. И вот он пристрастился водить эту двенадцатилетнюю дылду к себе. Летними выжженными днями, когда вся округа спала, а Ногира сидела у своей калитки, чертя единственным пальцем по пыли, он проходил мимо, как будто по воду и противным самому себе голосом говорил как бы невзначай:
– Ногира, манда хурозканд бор, йийсанми?
– Хэ, – отвечала она и готовно вставала с места.
– Уйга секин бориб тургин, бир йула котган нонам олип чикасан, хупми, ман хозир сув олип кайтаман… [102]102
– Ногира, у меня есть петушковый леденец, хочешь?
– Да.
– Тогда иди тихо ко мне, заодно принесёшь и хлеба для скотины, а я сейчас вернусь.
[Закрыть]
Её и не нужно было обманывать, это-то и было противно, что всякий раз назло себе он начинал с нехитрого, нелепого обмана, как будто ещё кто-то мог их подслушать…
Она неистребимым инстинктом чуяла, как надо незаметно шмыгнуть в его калитку и ждать, пока тысячу раз озираясь по сторонам, он не войдёт с глухой улицы к себе во дворик, как будет делать вид, что накрывает воду крышкой, ищет и готовит сухари для скота, а потом, вытянув их руке, несёт в сторону тандырхоны [103]103
сарайчик, где стоит печь для выпечки хлеба
[Закрыть] , где, затаившись, как мышка, сидит эта дебилка.
Он заходил в тандырхону, закрывал за собой её кривую дверь и в полосках рассекающего, пыльного света, проходил к ней, укладывал её на хлопковую шелуху и, стянув с неё штаны, начинал тыкаться в её мясистую, ещё детскую и безволосую пипку своим огромным, красным…
– Буни оти нима? – шептал он, глотая слюни.
– Куток, – заученно отвечала она.
– Ман сани нима кивотман?
– Сиквотсиз… [104]104
– Ты знаешь, как это называют?
– Х… й.
– А что я с тобой делаю?
– Е..те.
[Закрыть]
От этих слов он распалялся вовсе и нажимал чуть больней, чем следовало, отчего девочка начинала стонать, да так по-настоящему, как будто он и вправду ввёл в неё свой тычущийся в мякоть одноглазый циклоп. Тогда он опускал его ей между ног и уже не сдерживался. Она кряхтела от тяжести, и когда, колясь и блаженствуя от хлопковой шелухи сквозь её промежность, он выстреливал семенем вглубь, девочка расслаблялась вместе с ним и спрашивала лет на пять запоздало:
– Энди хуроз канд берасиз-а?
Он обтирался хлопковой шелухой и садился на лестницу, торчавшую к дымоходу над тандыром. Она, стоя, надевала штаны и, увидев её раскрасневшуюся письку, он возбуждался опять. Тогда он подзывал её к себе и говорил:
– Хурозканд киссамда. Ол узинг! [105]105
– Петушок у меня в кармане. Возьми его сама!
[Закрыть]
Она лезла левой рукой в один карман, натыкалась лишь на толстую и раздувшуюся пустоту, потом своей покалеченной рукой тыкалась в другой и выковыривала единственным пальцем прилипший к потному карману леденец, упёршись остальной культёй в его и вовсе безпальцевый обрубок.
Тогда он просто вытаскивал разболевшийся от напряжения свой стыд и она, сося свой заработанный петушок, бесстыдно, но в благодарность водила единственным безымянным пальцем по нему, чертя всё те же непонятные письмена, которые завтра, как всегда, будет чертить в полдень по выжженной пыли ау…
…Потом следует ещё один обожжённый кусок, в котором невозможно разобраться, а дальше несколько целых и связанных страниц, но явно не нахшоновского почерка.
…не хотел вспоминать своего позорного бегства. Когда он вышел опять на железную дорогу, где отрядом казаков по окончании работ были расстреляны тридцать туркмен из теке и йомутов, где на протяжении года не могли пустить поезд, поскольку всякий раз, когда ехала проверочная дрезина, она натыкалась на разобранный путь, из которого всякий раз выстраивалась лестница в небо над этими тридцатью сгребёнными в единственную яму, тогда опять рота железнодорожных солдат соединяла путь, а через день поутру всё было как прежде, пока в голову железнодорожному начальству не пришло оставить в покое этот участок пути, уходящий с двух концов в небо, и не построить отводной участок, проходящий в десяти верстах от злосчастного места то ли расправы, то ли мести, так вот, когда он вышел на эту самую железную дорогу, криво и круто заворачивающую на своём обрыве в небо, он вдруг узнал в четырёх окружающих пустыню холмах четыре ориентира своего детства, свои четыре стороны света, которые возил с собой все эти годы, подчиняя восход и движение солнца повсюду этой линии от «двугорбого» холма через полдень над «лысым» и закат над «могильным» холмом.
Да, здесь лежал его овул, погребённый теперь под песками и перееханный поверху этой нелепой и бессмысленной железной дорогой в небо, здесь он пас свою козу, кормившую его и Гульсум-халфу, между двух этих холмов – «песчаного» и «могильного» он сбежал с этой козой от джигитов головореза Аспандияра.
Разматывая засохшую от пота и крови тряпку со своей простреленной голени, он сидел на нижней шпале лестницы и вспоминал, как вернулся сюда на поиски отца, а оказался, оказался… Пришлый паук ткал свою вечную нить над головой, да тридцать загубленных им джигитов, чьих-то женихов, чьих-то несбывшихся мужей и отцов лежало под ним и солнце оставляло между ними этот свет.
Так писал Гумер на туркестанском закате в холодном зимнем вагончике для офицеров, запершись от всего торжествующего пьянкой света в своём купе…








