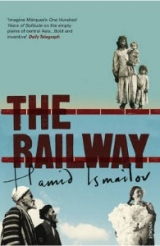
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Вот.
Вы спросите, а что же с Учмах? А Учмах вскоре понесла. И никто кроме неё не знал – от кого. Хуврон ли брадобрей со злости, Юсуф ли сапожник из любви, дух ли Кара-Мусаева-младшего из привычки, или какой прохожий-проезжий-пролётный вчинил ей этот плод, о котором лишь заходила речь, как она задумчиво и двусложно отвечала: „Шафик! Шафик! [95]95
милосердный
[Закрыть]“, вот и назвали первого мальчишку в их безотцовском роду Шапиком.
Шапик рос, как водится, не по дням, а по часам, но рос почему-то тощим и долговязым идиотом, который чесал в заду, а потом сосал свой обмазанный указательный палец. В семь лет он казался семнадцатилетним, хотя был умом семимесячным, тогда-то чадолюбивая Оппок-ойим отдала ему всю форменную и гражданскую одежду пропавшего без вести Османа Бесфамильного, из коей Шапик больше всего любил синепогонный китель и галифе цвета хаки, в которых он слонялся вдоль железной дороги как ворон, пугая всякий раз и машиниста Акмолина, однажды уже сидевшего во времена Кагановича, и особенно Наби-однорука, ворующего ежедневно свои хлопковые семена.
На девятый год его лицо покрыли густые морщины, и прорезался язык. Правда, что значит прорезался? Попадало к нему на язык какое-то слово и никак не могло с него слезть, спрыгнуть, отлипнуть, соскользнуть. Вот и ходил он с этим неотвязным словом на языке как с икотой, то утишая его, то выкрикивая, то просто повторяя, пока на пятый или пятнадцатый день оно не пропадало само по себе и навсегда, иногда зарастая долгим и судорожным молчанием, иногда же порастая другим столь же долгодневным и невыселимым словом…
В десять лет он уже выглядел усохшим на корню стариком, хотя до сих пор лежал ночами в общей постели между бабкой и прабабкой, к которым ластился ещё как младенец, едва оторванный от груди. Те так его и воспринимали, высвобождая на ночь от груди, которые он гладил морщинистыми, как подсолнух ладошками, но когда однажды среди ночи он как обычно лежал между ними как их ровесник, разбросав две руки по грудям Айши и Сании, и вдруг посреди их сна облил обеих как фонтаном, обильным семенем, обе вдовы с воплями разбудили третью, и Учмах с той ночи забрала своего сына навсегда к себе. Нет, ничто с бабкой и прабабкой не произошло, они не забеременели и не понесли неведому зверюшку, всё там былью поросло, но с тех пор обе, затаив друг от друга своё вдовье любопытство, стали дожидаться кровосмешения дочерне-внучатого. Увы, и этого они не дождались! Не стал Шапик сам себе отцом и сыном в одном лице, как не стал ранее ни дедом себе, ни прадедом, ни внуком, ни правнуком.
Дело в том, что к одиннадцати годам Шапик стал точной копией покойного Гумера – патриарха Гиласа. Именно тогда Оппок-ойим собрала комиссию по его наследию и именно тогда она отняла силком сына Учмах под видом его использования в качестве модели для портрета писателя. На самом деле ей было нужно запугивать не в меру раскатывавшихся рассказчиков: будь-то взятый на полный пансион алкаш Мефодий-юрфак, правоборка Нахшон, совсем уже сбрендившая без мужа, или же народные сказители ценой по 25 рублей за лист. А запугивала она зарвавшихся тем, что изредка выпускала в свой сад бедного и простоумного Шапика под видом гумеровского духа, и Шапик, выпущенный на волю, спешил делать всё то скудное, чем его наградила жизнь: чесал в заду и сосал свой указательный палец, бесконечно спотыкался на одном слове, которое из его скудодушного протеста было огрызком матерщины, и брызгал семенем на розаны и георгины, но это всё соединённое с образом ставшего мифом Гумера, производило на клиентов Оппок-ойим светопреставленческое впечатление.
И лишь мальчишка-сирота, взятый писарем из 11 школы имени Октября, знал всю изнанку этого дела, поскольку ему, как сверстнику Шапика и писарю наследия Гумера было поручено ежедневно читать малолетнему кретину писания старого провидца и изредка играть с Шапиком в орехи на шелбаны.
Вот тогда-то обессыненная Учмах затаила зло на Оппок-ойим. Целыми днями она сидела на пустом дворе под бездомно-голым солнцем и пропекала себе темя для мыслей. И, наконец, её озарило. В ближайшую ночь на полнолуние она переселила всю свою колдовскую силу в сына чайханщика Мукума-букура – Бакая по прозвищу Тимсох [96]96
крокодил
[Закрыть], который год назад, воруя ночью из стоячего вагона инвалидную коляску, угодил под тронувшийся состав и остался без двух ног. И вот наутро после полнолуния, Бакай стал вещать, а Учмах лишилась навсегда месячных и перестала ведьмовать.
А вещал Бакай о том, что ему было видение, что будущее за безногими и калеками, и кто потеряет ногу, тот приобретёт вечность. Бакай говорил как бюст, а потому на первый же базарный день приобрёл себе множество последователей. Они по ночам собирались у тугаёв по берегам Солёного, заворачивались в белые простыни и начинали кататься, пока кто-то из них не взвизгивал от перелома или вывиха и не просветлялся или же причащался. Потом и вовсе пошли фанатики, которые подобно своему профету стали ложиться в простынях под поезда. Именно тогда машинист маневрового тепловоза Акмолин вышел на пенсию, прервав свой непрерывный 45-летний стаж с 5-летним тюремным перерывом вначале карьеры, а гробовщик русского кладбища – татарин Риф заработал кучу денег, закапывая по блату одни ноги, независимо от их веры и размера.
Больше всех бесновался от новой веры, как водится, бухарский еврей и сапожник Юсуф, но бесновался не столько по религиозным мотивам, сколько из экономических соображений – всё меньшее количество обуви стаптывалось поредевшим количеством ног, хотя он вскоре заметил, что одна нога стаптывает башмак вдвое быстрее, нежели две ноги два башмака, а потому успокоился, но на всякий случай стал экономить на гвоздях и резине…
Мало-помалу адепты новой веры стали не только проповедовать, но и обращать в свой орден разуверившихся и бессмысленно живущих. Тогда-то они перебили ноги младшему брату покойного Тимурхана – Рафаэлю, который вскоре выпил уксусной эссенции, но другой ноги не отдал. Тогда же некий автомобиль без номерных знаков переехал ноги заведующей культтоварами – красавице Лобар, а местного футболиста и трубача Геннадия Ивановича Машина „подковали“ во время товарищеского матча.
К тем дням относится печально известная молитва сапожника Юсуфа: «О Рабби, будь справедлив до конца и сократи их с двух концов…»
Проще и мудрей поступила Оппок-ойим, которую раздражала всякая чужая рядом с ней власть, тем более такая членовредительская: она подорвала экономическую базу новой веры, скупив во всей округе и заштаблевав в туберкулёзной больнице все простыни, в коии по ритуалу заворачивались прозелиты и неофиты. И тогда в одну из понедельничных проповедей Бакай призвал на голову этой «бандерши» проклятия и объявил ей священную войну. За голову Сатанихи и её погребённую империю было объявлено вечное блаженство, которого в ином случае можно было достичь лишь потерей двух ног плюс добровольной кастрацией, а потому охотников оказалось больше чем тех, кому уже переломали ноги, и вот через понедельник в ночь на полное лунное затмение, предсказанное Штангенциркулем, штурмовики ринулись к дому Оппок-ойим, которой, кстати, не было дома. Выбивая Учмах пенсию по потере кормильца, а Шапику по нетрудоспособности, она задержалась в городе, сначала у старого еврея Миронника, а потом и вовсе заночевала у своей младшей дочери Шаноб.
Замыслившая всё это год назад Учмах, увы, теперь не могла вмешаться в ход событий ни сократив бюрократии, ни отменив внезапную доброту Оппок-ойим. А жаль! В саду, отбрасывающем густую тень, вдруг стала сгорать луна, а вместе с нею стали испепеляться, закручиваясь как опалённые листы, тени деревьев и людей: двуногие стали одноногими, одноногие остались без ног, безногие – без головы и тени…
И вдруг, когда ещё по инерции первые ухнули в дверь дома, свет пропал вовсе, а с ним пропала и тень. Всё обратилось в жуткую темь. И солнце, и луну покрыла тьмой земля.
«Бля… бля… бля…» – заблеял в постели одинокий Шапик и штурмовики ворвались в дом.
Когда они, перевернув весь дом и не найдя кроме голого Шапика никого, вытащили его во двор, новый месяц стал рождаться, просовываясь в кривую щёлочку между тьмой и тьмой. Тени стали спускаться на землю и утолщаться, и только этот голый старик был неизменен. Он чесал пальцем в заду, потом обсасывал свой палец, безутешно повторяя своё: «Бля… бля… бля…», и вдруг… обдал обернувшегося к луне лицом, а к нему стало быть спиной Бакая густым, как полнолунный свет, семенем.
Бакай не носил брюк, поскольку их не на чем было носить, а потому из-под задравшейся гимнастёрки семя вязко и медленно потекло по двум крутым и обрезанным полузадницам…
Когда луна явилась полно, Шапика, всё ещё стреляющего семенем по ночному саду, за отсутствием простыней, оклеили огромными листами каких-то книг в бычьих и прочих шкурах, и заворожённые луной, забыли поджечь дом, а понесли тяжкий свиток на свою священную горку в тугаях Солёного, дабы свершить своё сакральное жертвоприношение.
При полной луне они скатили этот свиток со стариком внутри раз, второй раз, третий, но ни разу не услышали крика Шапика – одна сухая трава да камыш трещали под катящимся рулоном. Тогда кто-то из двуногих, дабы заслужить благословение, не теряя при этом ноги, предложил поджечь обёртку. Так и поступили. Но обёртка горела плохо, то ли намоченная семенем и слюной идиота, то ли от обилия чернильных букв на ней.
Ещё один из новобранцев предложил облить рулон бензином, другой, из пожалевших ногу, сбегал, не жалея ног, до автозаправки у железнодорожного переезда и принёс две канистры бензина. Толпа одноногих всё больше и больше возбуждалась. Это возбуждение передалось и Шапику, который из бумажной утробы вдруг сдвинулся с омертвевшего слова и стал заедать уже на двойном слове: «Во бля… во бля… во бля…»
Две полные луны мёртво светили из двух глаз Бакая, когда он кивнул головой, дабы затем соратники брызнули бензином на свёртище. Было во всём этом пацаночье ухарство – поджечь банку над карбидом, брошенным в лунку с водой. Двое двуногих плеснули двумя канистрами бензина, и отошли, зачтённые, в сторону. И прежде чем третий бросил спичку в Шапика, первый последователь Бакая – колченогий с рождения башкир – Мидхат-Чулак, ждавший всю жизнь Бакая как Иоанн-Креститель Иисуса, пхнул единственной ногой ком бумаг с человеком внутри, и свёрток тяжело перевернувшись, пошёл на раскат по пригорку. И в это время третий бросил спичку…
Взрыв потряс в ту жуткую ночь Гилас. Псы, прятавшиеся в конурах, завыли, деря животы, пчёлы вылетели из ульев и понеслись на луну, станционный гудок на случай атомной войны сработал сам по себе и выл всю ночь иерихонской трубой…
И только утром Гилас понял, в чём дело. Фронтовик Фатхулла – ум, совесть и честь Гиласа, насыщавший сном свой единственный глаз вдвое раньше других, как обычно, в пять утра погнал со слепым рассветом своих семь баранов на выпас к тугаю и нашёл там голого Гумера, которого все считали давно уже умершим, а как оказывается тем рассветом вернувшегося и ходящего по выгоревшему за ночь тугаю среди каких-то обгоревших тел и костылей, повторяя слова, которые Фатхулла слышал лишь на заре своей жизни на Втором Украинском Фронте: «Во бля даёт… во бля даёт… во бля даёт…»
Не выдержал этой встречи и этого шабаша мертвецов Фатхулла и погнал перепуганных баранов обратно в Гилас, дабы собрать махаллю, поссовет, домкома и решить сообща, что делать с нечистью.
Когда мужское население Гиласа, вооружённое кетменями, вилами и лопатами, пошло на тугай, то ни Гумера, ни Шапика там не было, а лежали лишь останки едва зародившейся и сгоревшей на корню веры одноногих и безногих. В тот же день всех их захоронили там же, в опалённом от взрыва тугае, а через полгода поссовет постановил залить это место асфальтом, чтобы через год построить там новый летний кинотеатр «Октябрь»…
Учмах в нём работала на старости лет билетёршей, получая, впрочем, вдобавок обе пенсии, схлопоченные ей доброхотливой Оппок-ойим.
Глава 34
Как я ни оттягивал, как я ни скрывал, но мне всё же придётся рассказать всё это. Иначе всё это не имеет никакого смысла. Или почти никакого.
Жил в Гиласе у самой железной дороги за водонапорной башней слепой старик, полутатарин-полуузбек по имени Гумер. Был он женат на полуармянке-полуеврейке Нахшон по фамилии то ли Доннер, то ли Штоннер. Не помню. Или путаю. Ну да ладно! Словом, Гумер уже не выходил из дому, а Нахшон – эта семидесятилетняя красавица с бровями как усы и с огромной бородавкой, служившей в молодости родинкой над верхней губой, в дни выборов входила добровольцем в избирательные комиссии и ходила по Гиласу с избирательной урной то к Кун-охуну, в стельку пьяному после ночной погрузки угля, то к Мефодию, не голосовавшему то ли из принципа, то ли из-за хронической ангины, заработанной во время беспрестанной гражданской казни и лишившей его голоса, а, в конце концов, к своему слепому мужу Гумеру, где застревала, бог весть почему, на полчаса, может быть, пила чай со сладостями с избирательной распродажи; в другое же время она торговала по летним воскресеньям на Кок-терекском базаре то первым изданием словаря Ожегова, то дореволюционным Гербертом Спенсером, то психологией Уильяма Джеймса. Словом, распространяла культуру и вширь, и вглубь.
Детей у них не было. Изредка, после пионерской линейки, тимуровская команда одиннадцатой школы заносила им три кило картошки и кусок хозяйственного мыла, выделенный команде администрацией шерстьфабрики. Вот, пожалуй, и всё, что было известно об их жизни. Ещё разве то, что Нахшон прекрасно готовила. Так говорила Оппок-ойим, которая знала всё обо всех и единственная из взрослых Гиласа хаживала в их комнатушку у железной дороги за водонапорной башней.
А теперь то об их жизни, о чём никто не знал.
Гумер, конечно же, был патриархом Гиласа. Никто попросту не мог знать, сколько ему лет, поскольку самые закоренелые старожилы Гиласа и те помнили его со времени своих детств глубоким стариком. В молодом возрасте, этот сын переводчика колонизаторских черняево-скобелевских войск, был единственным переводчиком на строительстве российской железной дороги в Туркестан, когда одну рельсу, начиная от туркестанского Ташкента, было поручено класть сартам, а другую – от Акмечети и навстречу – киргиз-казахам. Так и сновал он по киргиз-кайсацким степям на перекладных, то, застревая в песчаных бурях, то снежных буранах, когда бунтовали вольнолюбивые казахи или ночами распродавали шпалы на строительство благостроительные сарты, вследствие чего и тех, и этих следовало судить, а стало быть, переводить им Высочайшего Повеления приговоры да высылать в Сибирь, где тоже, впрочем, прокладывалась дорога, но уже в соревновании местных племён хакасов и бурят.
А соперничество заключалось в том, что после расчётной встречи и соединения одной рельсы, каждая команда начинала класть вторую рельсу на территории противника. То есть если бы сарты к моменту встречи с киргиз-казахами проложили рельсу до Шиили, то вторую рельсу они бы клали всего навсего от Шиили и до Акмечети, когда как киргиз-казахам пришлось бы тянуть эту самую рельсу от Шиили и до Ташкента. Понимаете, да? Впрочем, не понимали и те.
На исходе четвёртой зимы, замёрзшие, покрытые струпьями и люто ненавидящие друг друга две железнодорожные орды, сменившие свой вымирающий состав по третьему разу, встретились на болезненном закате у Туркестана близ стойбища казахских верблюдоводов, в точном соответствии с расчётами русских географов, инженеров и мастеровых. В этом была заслуга и Гумера – к тому времени подпоручика царской армии, который, снуя между судами и расстрелами, как бы сшивал своим челночаньем два конца одной нити, держа одну в правой, а другую в левой руке.
Там, на степном закате, вместо того, чтобы перегрызать друг другу горла, две орды вдруг побросали кирки и молоты, оставив заколачивать последнюю соединительную рельсу со штампом «Туркестанский железнодорожный полк» двенадцати русским солдатам-охранникам, а сами пошли отъединено, но одинаково к городу, возносить молитвы святому хазрату Ходжа Ахмаду на его разрушенной усыпальнице. Гумер-переводчик стоял в нерешительности – оставаться ли на торжество соединения нитки из одной рельсы от Акмечети и до Ташкента или же идти вслед за теми, кого он считал без себя безъязыкими?
В конце концов, он поплёлся вслед за двумя толпами, хрустя своими хромовыми сапогами по степному придутому снегу, в промежутке между двумя протоптанными колеями, держа каждую из чернеющих в белом поле толп в глазу, как зрачок, оттаявший и выпавший далеко вперёд… Нет, Гумер не был лишён сентиментальности, и как образованный выходец из этих же диких кровей и телес, он шёл и плакал, желая, быть может, в глубине сердца соединиться с этими толпами, как обрести заново свои незамутнённые глаза, но кто-то вдруг оборачивался и, призывая других к улюлюканью, бросал в его строну то ли катышком подснежной глины, то ли снежком, почерневшим от степной грязи да от грязи рук, пока другие своим сосредоточенным шагом не подбирали этого смутьяна, и все опять продолжали путь до тех пор, когда на плетущегося в распахнутой шинели Гумера не оборачивался кто-то другой из соседней толпы. И всё повторялось сначала.
Ближе к усыпальнице две толпы незаметно слились в одну и Гумер, упустивший их из виду, остался вовсе посреди степи. Когда же он подошёл к гробнице, рабочие, окружив её со всех сторон, уже молились. Гумер пристроился сзади и поскольку никогда в жизни не молился, то решил в украдку повторять движения тех, кто стояли перед ним. Те склонились в поклоне. Не упуская их из виду, Гумер склонился надвое. Те распрямились, и пока, чуть запаздывая, распрямился Гумер, те пошли в коленопреклонение. Гумер наспех устремился в движениях за ними. Встав на колени и приложив лоб к земле, он вдруг почувствовал непередаваемую полноту нелепости того, что он делает. Но эта нелепость была такой полной природы, такой необыкновенности, что когда, распрямившись на мгновение, правоверные опять пошли на челобитие перед Всевышним, Гумер с неким сладострастием первоощущенца бросил голову на землю. Дурнее этой позы: задом кверху и носом к чужому заду, ничего и выдумать было нельзя, так казалось Гумеру, но именно в этой нелепой унизительности, не имеющей ничего общего ни с торчащим впереди чужим задом, ни со своим, торчащим точно также сзади, ни с лицом, измазанным снегом из-под чужих ног, в этой всеобщей унизительности перед чем-то более высшим, нежели презрение чужого зада, было сладострастное, сластотерпкое ощущение Гумера, и уже стоя и беззвучно шевеля губами молитву, которой его научила бабушка-татарка из Оренбурга, и чувствуя, как растаявший грязный снег вперемешку с заснеженной грязью течёт по его лицу, он с нетерпением ждал, когда воскликнув «Аллаху Акбар!», тот, кто стоял спиной ко всем на возвышении гробницы, пойдёт в поклон к земле, чтобы с нею смешаться.
Той ночью, оставшись ночевать вповалку с единоверцами у могилы святого, Гумер бредил всю ночь, ворочаясь под своей российской шинелью. Ему снился некий человек, пришедший на омовение и моющий аккуратно ноги, ступни, каждый пальчик, промежутки между пальцами, а потом наматывающий бязевые портянки, дабы через некоторое время его чистого и готового, сложили вдвое и, взвалив на плечо, как тушу, понесли по свету. И не о нём думал во сне Гумер, но о другом, о том, кто принуждён носить омытого по свету, о человеке, приговорённом к ношению другого, как носят одежду, бороду, очки, имя…
Взволнованный, он просыпался, ночь над развалинами гробницы пялилась угловато выступающими локтями звёзд, и он засыпал опять, и тогда ему снилась собачья пара, которая, грызясь, приближалась к нему, но то оказывались не собаки, а прирученные волки, и не чужаки, а семья, потерявшая волчонка, по которому волчиха выла все ночи в курятниках, и эта пара волков переступала, топча его, и вдруг он чувствовал, как волк не вгрызается в его руку зубами, но касается его мягкого предплечья своим обнажённым детородным членом, так боишься, что тебя омочит, как пена, собака. И он лежал, распластанный на земле, а самцу наступала пора сходить в дичь, на время нагула, пока волчица уходила выть в курятник по потерянному волчонку…
Распластанный Гумер просыпался опять и, глядя на звёзды, уже связываемые с другими в нить, засыпал заново, и тогда нить железной дороги снилась ему как нить, цвета которой не различишь – чёрная она или белая…
И вот тогда раздался голос муэдзина, призывавший правоверных и покорных к заутренней молитве, пока ещё белая нить неотлична от чёрной, и в тот день в походной кибитке, взяв зашнурованную отчётную тетрадь, Гумер записал свою первую в жизни страницу неотчётного текста, и это было началом его писательства.
Теперь, когда вы знаете об этом дне и этой ночи, легче объяснить и понять много в его последующей жизни. Те первые страницы его неумелого, а оттого отменно-литературного, чересчур-стилизованного текста я видел раз, залитые водой, но светлые, как, наверное, лицо самого Гумера в тот день на снежной молитве… Называлось всё это, как помнится, так:
Железная дорога (путевые заметки)
Он не знал своего отца. Не имени, ни фамилии, ни точной профессии. Ни даже того, а был ли отец на самом деле. Так что слово, которое для всех значит что-то близкое и ясно очерченное, ощутимое как сопение или лезущие из носа волосы, для него так и существовало словом. Вот и было изначальное это слово – Отец.
С матерью было проще. Мать умерла его рожая, и её завернули в полотно, которое она ткала, остатки раздали омывальщицам, плакальщицам, в песок над её могилой воткнули, как водится, лестницу, и на этом забыли.
Растила его беспризорная старуха Гульсум-халфа – читательница поминальных стихов, которая по хромоте и подслеповатости своей опоздала на похороны, но зато высидела все остальные сорок дней оплакивания и поминок, став единственной завсегдатайшей этой пустой кибитки, где ей не досталось даже платочка, а потому она и присвоила себе новорождённого, думая, что уж он-то ей пригодится на предстоящей старости лет – в худшем случае – дабы оплакать его самого и просидеть еще сорок бесплатных дней в чужом доме.
Но младенец оказался живучим. Ближней весной он уже сам лазил под бодливую козу, наплаканную по похоронам Гульсум-халфой, а в свои пять лет с нею же сбежал в пустыню, когда на их аул напали джигиты Аспендиара. С этой козой он дошёл до края света, где начиналась вода, став ей в дороге не сыном, но мужем, там он её и похоронил, лопнувшую от солёного захлёба, там, на её песчаной могиле, плачущего столь же солёной водой, а может быть и солонее, подобрали русские солекопы.
Семь лет он копал с ними соль, пока не вымерли все, и среди трупов последних, погружённых на пароход, он убыл тайком с этого опустевшего света по морю туда, имени чего не знал, разве что смутно догадывался, что это и есть тот свет, которым пугала на похоронах слепо-хромая старушка Гульсум-халфа.
В одну из ночей, когда он лежал среди непортящихся от просолки трупов, раздался страшный удар, расколовший трюм надвое, трупы посыпались в налетевшую воду, подминая мальчишку под себя, но выброшенный из глубины мощной и вязкой струёй на поверхность моря, он с ужасом увидел, как расколотое надвое торчащим пароходом, море горит. Ад! – подумал мальчишка, и его накрыл с волной огонь. Обожженный он осознал, что к счастью горит лишь поверхность, вода же, разгорячённая кверху, в глубине лишь сверкала сполохами, сквозь которые на поверхность, пуская пузыри, всплывали трупы. Мальчик хватал обожженным ртом воздух из-под прогорклых трупов и, держа их над своей головой, отчаянно лупил ногами, устремляясь в тёмную и клокочущую пучину моря…
Обессиленного, но насмерть вцепившегося в обожженный труп старого Ваньки, его прибило к берегу. Море продолжало гореть, и пламя исчезало в небе, становясь звёздами. Мальчик лежал на том свете и вспоминал своей короткой мыслью, что теперь должно случиться по словам его мачехи Гульсум за все его нажитые грехи. Но ничего не происходило. Море всё так же горело, только волны относили его всё дальше и дальше, к утру же, когда почерневшая от копоти луна растаяла в чёрном углу неба, горящее море и вовсе стало не адом, а костром, привязанным к обломку какой-то опрокинутой среди моря башни, что торчала нелепой лестницей в небо, и на ней висели обломки их парохода.
Мальчик не знал, надо ли закапывать трупы на том свете, но на всякий случай вырыл в чёрном и маслянистом песке яму, в которую стащил Старого Ваньку, чья соль проступила белым саваном, потом связал из обломков парохода кривую лестницу и, воткнув её в могильный песок этого уруса, прочёл над ним короткую молитву о том, что Никем не рождённый и Никого не рожавший Бог Един и нет Ему никакого сравнения.
Странно пуст был тот свет. Долго ждал мальчик, когда придут теперь по нему, но, не дождавшись никого, пошёл по пустынному берегу моря в сторону, где вдалеке чернели деревья. Там, наверное, рай, думал он. И впрямь то был рай.
В пустынном саду, перебивая друг друга, росли и абрикосы, что жёлтые солнца, и вишни, что красные светила, и персики с нежным пушком на губах, и даже инжир, которого мальчик не ел никогда. Но больше всего его удивил гранат, названия которому мальчик не знал. То был плод не похожий на плод – скорее иссохшееся сердце Гульсум-халфы, каким она его рассказывала, но когда, повертев его в руках, мальчик решился надкусить, оттуда брызнуло сорок алых пчёл, жаля ему язык сладко-кислым своим ядом. «Ну вот и я умираю! – подумал, засыпая, насытившийся мальчик. – Теперь я увижу души мёртвых, которые живому видеть не дано…»
…Первым на том свете к нему подошёл усатый садовник с соединёнными бровями, говоривший на смутном языке. Он отвёл его в дом, где мальчика мыли семь дней, после чего переправили его а огромную кухню, где сковороды шипели как море. Там мальчик отъедался до красноты щёк, после чего его перевели в канцелярию, где его обучали некоторым словам этого смутного языка. Затем музыканты учили его танцевать, вихляя животом и задом. В конце концов, ему выстригли косичку, и повели во дворцовые покои. «Здесь я увижу Бога!» – думал, волнуясь, мальчик и озирался в пустой опочивальне по сторонам. Но вошёл сладкоголосый мужчина в халате, наверное, ангел божий, и, поглаживая его косичку, стал расспрашивать на смутном языке о жизни.
Мальчик удивлялся тому, как обманывала, оказывается живущих на том, прошлом свете подслеповатая Гульсум-халфа, пугавшая тем, что Мункар и Накир по смерти начинают допрос о прожитом – один при молоте, другой при наковальне. Сказал неправду – становись лепёшкой! Ещё раз соврал – выбьют в пыль! – нет, напротив, этот говорил так сладко, и под каждый глажок приговаривал: «Вах-вах-вах!» Потом он и вовсе снял с мальчика одежду, и когда, медленно закатывая глаза, как будто выискивая наощупь все оставшиеся в теле грехи, он коснулся одной потной рукой ягодицы, а другой – шершавой – чучака, и вдруг воскликнул: «Вах-вах – бюль-бюль!» – из соседней залы раздалась медленно-сладкая музыка, под которую служители божьи учили его прежде танцевать. Ангел божий сбросил халат и не крылатой спиной, но волосатой грудью прижался к лопаткам мальчика и закружил его во всё убыстряющемся танце. Голова мальчика кружилась, и он не знал – что делать. В это время ангел божий развязал последнее полотенце на своём поясе, и мальчик, увидевший то, что рвётся к нему, в испуге зашептал свою единственную молитву о Боге, который не рождён и не рожает и с которым никто не может сравниться.
Музыка уже превратилась в один-единственный колотящийся в сердце барабан и вдруг, на излёте, дверь с треском разверзлась нараспашку, в неё влетела в белых одеждах… мальчик уже не знал кто это. От голого стыда он метнулся к окну и, надрезая обломками стекла свою зудящую кожу, исчез в саду…
…Там в самой его глухой глубине, прикрыв свою наготу инжирным листом, разбухшим от крови и ворочаясь в предвечернем кровавом бреду, он думал о том, куда умирают люди на том свете… Разве обратно к мачехе Гульсум-халфе?!
2
… В толпе началось брожение. Папахи замелькали огромными чёрными мухами под сумасводным солнцем, и тогда он поспешил закрыть это собрание якобы на время полдневной мусульманской молитвы, сам же поспешил в белый шатёр к сотенному казачьего железнодорожного охранно-карательного отряда, дабы предупредить того о возможных беспорядках.
Остаток дня до позднего вечера он отвечал, как удод, на вопросы этой пёстрой стаи, но уже в присутствии трёх десятков конных казаков, спавших на гарцующих под беспощадным солнцем ахал-текинцах, а ночью просыпался на каждый шорох и каждое песочное дуновение ветра, ожидая резни, столь же неотвратимой, как дневная отрезанно-кровавая голова в здешнем небе; но ночь прошла без происшествий, и лишь к рассвету казачий отряд был поднят по тревоге, поскольку все строители-туземцы, оказалось, сбежали ночью в пустыню, воткнув на окраине лагеря две рельсы в песок и обвязав их тремя шпалами, как ступенями в небо…
Дюжинами отряд был пущен в погоню по всем восьми сторонам, и лишь четверть дюжин вернулось к полудню с тремя десятками избитых вусмерть туземцев. Остальных казаков перерезали в песках безжалостные йомуты и через пару ночей, бог весть как, подбросили в лагерь их закопчённые в песке и на солнце головы. Тогда было решено поступить точно также с тридцатью захваченными беглецами, и тридцать голов было бы выставлено, как обычно на базарной площади Мерва, когда бы не он.
Карты Таврота сказали ему, что тридцать этих беглецов, тридцать этих приговорённых и станут прокладывать ту дорогу, что им предписала их смерть, что к ним, к этим тридцати станут прибиваться их братья, их отцы, их сыновья, а приговор… Головы в Мерве не перестают быть головами в Байрам-Али. Лишь бы держава крепла и расширялась.
Последнее и убедило голову карательного отряда, но дабы хоть чем-то насолить этим чучмекам, которые, не дай бог, решат, что строят лестницу для побега, распорядился класть до Байрам-Али лишь одну рельсу, поскольку знал, что точно так же поступил его сородич в Чарджоу.
Три месяца под безумным солнцем эти тридцать смертников рыли песок, чтобы добраться до прочного слоя земли, чтобы уже на него сыпать белую, как сыплющуюся лучами с неба, гальку, возводя полутораметровую насыпь над песками. Дюны за ночь падали в незаполненную траншею, и песок мешался с уже насыпанной галькой, всё более упрочняя основание будущего пути. Пустыня свирепствовала в сговоре с солнцем и ветром, и вот когда насыпи было выложено достаточно, чтобы класть поверх её шпалы, а потом и вколачивать рельсу, когда первая рельса была рукоположена охранно-карательным отрядом урусов, когда под свирепым солнцем туземцы проложили первый поворот, ночью из своего кочевого шатра, где он вдруг вспомнил своего несуществующего отца, следом послышался некий шорох, некое копошение.








