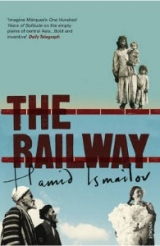
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Глава 30
Никто из детей никогда не задумывался, откуда и когда корейцы появились в Гиласе. Самые подвинутые из пацанвы, к примеру, Фази – внук старушки Бойкуш, считали их теми же узбеками, но говорящими на другом языке, мальчик, видевший до того ещё и дунган, не очень-то доверял Фази, но почему-то с ним не спорил; может быть потому, что старушка Бойкуш в ту пору приторговывала куртом, и Фази ходил всегда с полными карманами бесспорных аргументов.
В школе – и те, кто пошли в русские классы, и ещё более те, кто были сданы в узбекские, надолго решили, что корейцы – это русские, но русские особой породы. Имена у них не то чтобы Санёк, Юрка, Катюха, а такие русские, что больше самих русских: Витольд, Изольда, Артаксеркс, Клим. Хотя, впрочем, родителей их звали Саньком, Юркой, Катюхой.
Но родителей видели редко – разве что бабушек, да стариков, имён которых не знал уже никто, и только одного старика все называли Аляапсинду: у него не было ни сына Петьки, ни внучки – Люции, ходил он целыми днями со станции и до крайнего дома на берегу Солёного, ходил в соломенной шляпе с бамбуковой тросточкой в руках – по самому белому пеклу, ходил сгорбясь, как будто бы пытался наступить на свою короткую и мерную тень, и всякий раз из-под редких белёсых усов проговаривал своё «Аляапсинду» всякой встречной собаке.
Потом он шёл обратно, как бы пытаясь на этот раз убежать или отвязаться от наросшей за часы хождения тени, и уже вслед ему, наверное, улыбающемуся в свои редкие усы на соломенном лице, дети кричали «Аляапсинду», не зная, доводят ли или радуют тем безразличного как маятник старика.
Родители приезжали поздней осенью, когда кончалась их работа на шалыпае [84]84
рисовое поле
[Закрыть]или луковом поле, и тогда весь Гилас наполнялся незнакомой празднично-пьяной речью и толпами праздношатающихся мужчин, идущих в кино и из кино, выворачивая ступни и бёдра, да накинув пиджаки на костлявые, выпирающие плечи.
Тогда же они занимали и все гиласские чайханы, превращаясь в особую породу узбеков, ещё более узбеков, чем сами завсегдатаи чайханы, которые как-то тонули среди моря свежих голубых корейских рубашек и веера разбрасываемых по кругу карт. Жёны их вышелушивали по домам рис или же высушивали под навесами лук, а те, кто управлялся с этим пораньше, заводили на берегу Солёного пару-тройку свиней в избушках на куриных ножках, и пацанва, гоняя по той округе мяч и ощущая некую помесь из запахов свежих опилок, квашенной и перченой капусты, гнилой речки да горького лука, вдруг понимала, что корейцы – это… корейцы…
Они никогда не заводили полей вблизи Гиласа. Они уезжали в те края, о которых знали лишь старшие братья и сёстры, уже проходившие географию, а для остальной малышни всё было одно и маняще-нездешне: Кубань и Куйлюк, Самараси [85]85
Самараси – плоды. Мальчик долгое время считал это слово – первым выученным корейским словом, хотя впоследствии догадался, что другое название этого колхоза – Ленин йули – Путь Ленина – есть всего лишь первая часть полного названия – Ленин йули самараси – Плоды пути Ленина, так что долгое время эти самые плоды доставались в сознании мальчика корейцам.
[Закрыть]и Политотдел, Шават и колхоз Свердлова. Никто никогда не видел, как они работают. Гилас знал в них, идущих шумными мужскими шеренгами, выворачивая до отказу ступни и бёдра, да размахивая руками с закатанными до костистых локтей чисто-голубыми китайскими рубашками, лишь победителей.
Они даже и торговать не торговали в Гиласе. Старушки-туземки в отсутствие праздношатающихся по улицам и чайханам Борисов, Василиев и Геннадиев, юрко шныряли в самый конец улицы Папанина к Вере, Любе или Наде, а потом всю зиму сидели на базаре, приторговывая самим же корейцам луком, рисом или перцем.
Но только не чимчами. Чимчи! Эта горькая корейская капуста с её натянутыми, скрипичнобелыми прожилками, перехваченными жгуче-красным перцем там, где начинается зелень капусты, ах это собрание всех корейских запахов, растапливающих своим огнём даже зимний пар, идущий изо рта подзывающих на базаре кореянок – этот взрыв, выворачивающий наизнанку мальчишечьи языки – словом, чимчи – другое название корейцев, их символ и эмблема – разве могли торговать ею русские или узбеки, татары или бухарские евреи? Каждому своё: Акмолин водит маневровый тепловоз, Кучкар-чека затапливает чайхану, Закия-аби моет и чешет шерсть, Юсуф подбивает каблуки, и даже Озода командует базаром с позволения Оппок-ойим, но чимчу продают только кореянки: Вера, Надя, Люба.
Правда, чимчой они торговали тогда, когда их мужья уже не выходили на улицу. То было некое межсезонье – январь, начало февраля – самое неуютное время года в Гиласе. Сидели они по своим домам, раздавшие, видимо, прошлогодние долги, спустившие остатки денег в чайханах да на разом-всеми-купленные-телевизоры – один год, мопеды – другой, холодильники – третий; сидели по домам, смотря телевизоры, протирая мопеды или хлопая дверьми холодильников, хотя сиротливые старики-туземцы в чайханах поговаривали, что у них началась самая крупная игра – вон, по ночам собираются то у Геннадия, то у Владимира, то у Михаила, дескать, свет горит до утра.
Тогда же они забивали и свиней. И на жёлтой промёрзшей траве тугаёв, там на берегу Солёного, давая подсветку мёрзлому дальне-полевому закату, полыхали разом несколько купленных-в-этот-год-паяльных-ламп…
Говорили, что они едят собак – мол, предохраняет от туберкулёза, поскольку им всю жизнь приходится ходить босыми по колено в воде, говорили, что в феврале, перед отъездом туда на «Поле»: Кубань или Куйлюк, Шават или Самараси, они занимают денег под осенний процент то у Толиба-мясника, то у Сотибалды-домкома, но больше всего у Оппок-ойим, говорили ещё… словом, много всякого, но к этому времени они как-то разом и незаметно все уезжали, разъезжались. И пацанва оставалась до самой поздней осени с их детьми как заложниками: Лаврентиями и Эммами, Виолами и Русланами, Артёмами и Офелиями.
Глава 31
Директором музыкальной школы Гиласа был человек по имени Севинч, а дирижёром гиласского пионерско-профсоюзного духового оркестра – другой человек по имени Согинч. По странной прихоти природы один из них был глух на правое ухо, а другой – напротив, на левое. Правда, оба они вышли из одного – самарасийского детдома, куда попали несмышлёнышами в ту эпоху, когда отцов раскулачивали, а матери сбрасывали паранджу, так что присматривать за детьми было некому, кроме как самому государству, которое само же уже присматривало и за отцами-матерями сирот. Оно же дало им эти духовые имена и приучило к маршевой музыке. Да так, что позже, когда Севинч был уже директором музыкальной школы и школьный камерный оркестр сыграл на просмотре квартет Бетховена за 9 минут, директор поморщился и сказал:
– Очень вяло и долго. Давайте, то же самое, но за три минуты!
И вообще, ему казалось, что в афише следует бы написать «Бетховин», а не «Бетховен», ведь «Бородин» же и «Глинка», а не «Бороден» и «Гленка»!
Но это было в конце его жизни, о чём речь ещё впереди. А тем временем, не это было главным в их жизни. А главным в их жизни было то, что эти самые их жизни, начиная с детдома, шли как две рельсы одной железной дороги, накрепко присобаченные одна к другой. А ещё детдом им дал чувство во всём быть непременно первым, поскольку в столовой котёл, равно как и в библиотеке каждый учебник или в туалете очко – всё было единственным, а потому их достигал тот, кто достигал их первым. Хотя бы «карабкаясь по каменистым тропам» как было написано от Маркса в коридоре, или же бежа по рогам своих собратьев, как было нарисовано в уборной.
Так вот, Севинч собирал больше краснобумажных звёздочек в конверте за каждую полученную «пятёрку» – их у него набралось больше, чем астрономических звёзд на видимом небе, но золотую медаль получил Согинч, потому как в выпускном сочинении переложил поэму «Мцыри» на «Сталина», да так ловко, что когда Сталин боролся ночью с барсом, то в этом зверином облике проступали поочерёдно и Гитлер, и Бухарин, и Радек, и Троцкий, а однажды даже – враг народа Акмаль Икрам. А сколько слёз было пролито приглашённой на экзамен от профкома поварихой тётей Тоней, от полноты и пучеглазия, а еще из-за любви к крупам получившей кличку «Крупская», когда Сталин обращался со словами признания к Ленину, а через него к бессмертному Марксу:
Старик, я думал много раз,
что ты меня от смерти спас…
Но вот в высшую школу музыки и искусств, куда они оба были направлены добровольцами по послевоенному комсомольскому набору эпохи возрождения и реконструкции, старостой курса дирижёров-хоровиков избрали Севинча, за то, что тот отличился на сборе макулатуры, сдав государству все свои детдомовские картонные звёздочки в количестве полученных за две пятилетки пятёрок.
Тогда Согинч написал, что называется, оперу, что половина курса под началом старосты – безродные космополиты, поменявшие фамилии на псевдонимы, а национальность на профессию. В итоге Севинч с этой половиной курса был вынужден депортироваться станция за станцией по казахским степям и далее в сторону Сибири от этого оперуполномоченного то ли в Ейск, то ли в Бийск, то ли еще в какой-то Ебийск, где и получил почётную кличку – Моисей.
Так их односкорлупные жизни будто бы разошлись.
Севинч в этом Ейске или Бийске, как кошка, отвезённая далеко от дома, вдруг обнаружил феноменальную память: стоило ему хоть раз увидеть партитуру, будь то разрешённого Баха или запрещённого Стравинского, равно как публикацию кремлёвского отчёта о суде над Берией или секретный доклад Хрущёва – всё это ложилось такт за тактом, фраза за фразой, параграф за параграфом на названия железнодорожных станций, которые неискоренимой тоской запечатлелись в памяти Севинча, начиная от Салара – через Гидру – Радиоузел – Шумилова – Гилас – Кирпичный – Санаторную – Сары-Агач – Джилгу – Дарбазу – Ченгельды – Арысь и так дальше до самого финального аккорда или приговора, пригвождаемого к этому самому Ейску или Бийску.
В те годы их народный симфонический оркестр стал широко гастролировать как по стране, так и по Европе, показывая как наша глубинка играет их то Малера, то Хиндемита, то Берга, то Штокхаузена, и вот когда после Первой Премии в Милане за забытые в Национальном Архиве, но сфотканные на раз памятью Севинча произведения Палестрины, оркестр возвращался в свой Ейск или Бийск через Париж и Вену, его первая Скрипка – Ёся Леви-Соловейчик повёл Севинча на званый ужин к своему дальнему родственнику Клоду Леви-Страусу, который как оказалось, занимался мифами каких-то то ли ирокезских, то ли карокезских племён, и когда Севинч, занятый за беседой разложением в уме очередной симфонии родного Бетховина по железнодорожным станциям, начиная от Салара, в коий стучалась судьба: «Та-та-та та-а! Та-та-та та-а!», вдруг заметил, что только от станции Челкар и до станции Эмба эти самые мифы расходятся с музыкой, взбудораженный Леви-Страус всё это аккуратно записал и через три года выдал это за всемирное открытие. И даже отказ Ёси Леви-Соловейчика от сырых устриц в пользу вареной картошки использовал этот родственник в названии своей нашумевшей книги!
Увы, Леви-Страус снял лишь поверхностный слой феноменальной памяти Севинча, ведь будь он повнимательней тогда в Париже или же приедь пару раз к своему сородичу в этот самый Ейск или Бийск, он бы разложил весь мир на изоморфные структуры, ведь, скажем, в том самом Гиласе разворачивалась тема у Шостаковича и раскручивал своё красное колесо Солженицын, «Хамса» Навои сплеталась с «Маленькими трагедиями» плюс «Медным всадником» Пушкина, Нагорная Проповедь смыкалась с Сурой «Ёсин», а морфология сказки сочеталась со схемой родственника второй скрипки оркестра – Музы Якобсон – Якобсона Романа, с которым Севинч виделся мельком – всего-то на эту схему – в Праге, в каком-то кружке беглых интеллигентов.
Тем временем как Севинч обогащал мировую науку, правда лишь тысячной долей своей феноменальной памяти – увы, не у всех оркестрантов родственники занимались наукой, Согинч тем же самым временем заваривал чай заведующему кафедрой народно-симфонического дирижирования, которая по отбытии своей основной массы то ли в Бийск, то ли в Ейск, стала называться теперь кафедрой реконструированных народных инструментов. Вскоре завкафедрой умер, над его гробом реконструированный оркестр под управлением Согинча сыграл, приукрасив несколькими национальными мелизмами, «Похоронный марш» Шопена, и Согинч, ещё не окончив Высшей Школы Музыки и Искусств, стал за отсутствием кадров заведующим кафедрой.
Так бы и носил чаи Согинч поочерёдно то замдиректору, потом директору, потом ещё выше, сам же играя над ними «Реквиемы», пока позволял возраст, да вот только, когда умер внезапно замдиректора, началась эпоха хрущёвского реабилитанса, и, вернув из Ейска или Бийска весь симфонический оркестр, специальным решением Партии и Правительства замдиректором Высшей Школы Музыки и Искусств назначили в одночасье Севинча. А случилось это на общем партийном собрании, когда в президиум директор школы взвёл восемь представителей Горкома – от Главного Секретаря и до подносчика стакана кефира к трибуне, и вместе с ними бледного Согинча да красного Севинча. По мере речи Главного о перегибах ждановщины в искусстве, которые с пяток лет назад гнул он сам, бледный Согинч стал зелёным, а красный Севинч – фиолетовым.
Словом, что называется, боясь исламизации становящегося на ноги народного искусства реконструированного дирижирования или еще из каких колористических соображений, назначили замдиректором Севинча, и Согинч понёс ему по привычке круто заваренный чай.
Да не тут-то было! Секретарша заставила его выждать ровно собрание с завхозом и бухгалтером, и лишь после этого, не осмеливаясь заносить остывший чай, зафкафедрой вошёл поздравлять, заикаясь нового замдиректора с новым назначением. Этот «предбанный» ритуал стал повторяться каждый день и, изведя напрасно четыре пачки отборного чая, который доставлял Согинчу один из его заочников – дирижёр из гастронома – зафкафедрой народных реконструированных инструментов перестал ходить к замдиректору ВШМИ иначе как по вызову.
Но долго ли, коротко ли, всё же когда в эпоху космической семилетки и ВСНХ с кукурузой, всё кругом стало реорганизовываться квадратно-гнездовым способом, кафедру «рекнаринст» опять реорганизовали в дирижёрско-хоровую с одновременным сокращением за ненадобностью должности замдиректора, поскольку директора назвали Генеральным. И вот тогда-то наступила эпоха царствования Согинча.
Теперь обыкновенный профессор своего ейско-бийского оркестра сидел в предбаннике заведующего кафедрой, выжидая то время, пока торжествующий Согинч поправлял в своём кабинете брови своим студенткам или же работал над своей диссертацией по реконструкции традиционного плектора.
Изредка, во время встреч, они – об этом сплетничали вокруг – материли друг друга на чём свет стоит, причём каждый из них старался угодить матом в здоровое ухо визави, а подставлял под синхронный ответ своё неремесленное… Так бы и продолжались их переплетённые жизни до очередного переворота, когда бы не то самое происшествие, что на долгие годы лишило сестру Октама-уруса и жену Муллы Ульмаса-куккуза – неистовую Оппок-ойим её любимого певца Бахриддина, которому, как оказалось, поставляла внеурочных стажёрок, реконструированная кафедра.
Опять приехали те самые восемь представителей Горкома – от Генерального секретаря и до подносчика молока к трибуне, правда, последний был новый, старый, оказывается, ушёл на повышение – подносить простоквашу в Обкоме. Опять прихорошенный своими дюймовочками Генеральный метал громы и молнии по поводу царящего в искусстве социалистического реализма полного аморализма, между тем, не зная кого теперь за отсутствием «моря веры» приглашать теперь на культурные программы загородных молодёжно-коммунистических попоек-активов. Словом, кафедру закрыли, а весь её состав во главе с заведующим Согинчем и профессорствующим Севинчем выслали в Гилас.
Поскольку ехать в эту ссылку было всего одну пустырную дорогу да два поворота со шлагбаумом посередине, то случилось невероятное – перенапряжённая для новых испытаний фотографическая память Севинча разом, как засвеченная фотоплёнка, лопнула, опустошилась, пропала, исчезла, растаяла, смылась, приобретя однообразный, пустырный и землистый цвет, сквозь который смутно просвечивал чересполосный шлагбаум…
Именно на это время приходится наречение Согинча Ароном и встреча Севинча с писателем Айтматовым, писавшим в то время нечто о железной дороге. Вернее даже, встреча писателя Айтматова с Севинчем, которого рекомендовали литератору и общественному деятелю Леви-Страус, Якобсон, Хомский, Деррида и ещё восемь светил мировой науки, не включая удачливых банкиров и психотерапевтов. Поражённый до глубины сердца увиденным, писатель Айтматов тут же описал это в своей легенде о Манкурте – так писатель и общественный деятель понял объяснение самого Севинча, бурчавшего о своей памяти бог весть, откуда вынырнувшим французским словом «Мащиег». Но писатели – они известные выдумщики. На самом деле Севинч забыл лишь названия и порядок следования станций своего первого исхода, а как следствие, – все, что связывал с этими станциями за годы своего ейско-бийского руководства. Впрочем, как оказалось, помимо этого в памяти у Севинча ничего и не было, разве что безродное детдомовское детство с его духовыми оркестрами. А потому его бубнящего марши Дунаевского и назначили спехом директором музыкальной школы.
И опять Согинч стал томиться в коридоре, служившим приёмной Севинчу, в ожидании того, как Муса вспомнит в конце концов, что вызывал его для того, чтобы назначить встречу, о которой он опять забудет.
К тому времени вслед за Муллой Ульмасом-куккузом пол-оркестра уехало кто на Брайтон-Бич, кто в Израиль, а кто уж совсем не мог попасть в ОВИРовскую очередь – в Старый город, где создавался ансамбль макомистов. [86]86
ансамбль традиционной придворной классической узбекской музыки
[Закрыть]Что ж – всего-то надеть тюбетейки, сменить скрипки на гиджаки да хорошо темперированную музыку на вянущие звуки монодии! Не страну же менять!
Тем более, быстро было установлено, что патриарх, создающий оркестр любит лесть и водку, а рассказал об этом за бутылкой водки, приправленной беспорционной лестью, поэт Хабиб-Улла, который после ночных попоек, находя себя на рассвете в какой-нибудь подворотне вытаскивал из потайного кармана в трусах список телефонных номеров и начинал звонить по ним согласно нерифмующегося алфавита. Откликался, как правило, лишь патриарх традиционной музыки, медитировавший на рассвете над темой вина в классической восточной поэзии. Хабиб-Улла сообщал тому, что нашёл во сне новое истолкование этому необъяснимому феномену, и через какие-нибудь пешие, вприпрыжку, полчаса, уже сидел у музыканта, читая тому какую угодно белиберду, ну наподобие вот этой:
«Из всех страстей маком вину подобен,
но и вино – маком ведь…»
Тогда Патриарх хватался за сердце и, охая от нестерпимой красоты, снимал с гвоздичка на стене свой дутар. Начиналась тяжёлая, как непрояснённое похмелье, музыка, во время которой охал уже Хабиб-Улла.
«Смотрите, смотрите, идёт великолепная конница Тимурленга в златотканых халатах и попонах! А вот и чашник, вот и бражник, вот и кравчий! О, кравчий, подай нам вина!» – Хабиб-Улла и впрямь начинал бредить и галлюцинировать. Дух его, пропахший ночной водкой, распространялся по комнате. «Эй, кравчий, неси же вина!» – почти задыхался он. Послушный старик откладывал дутар и приносил запасённую на случай Тимурленга бутылку, и они молча, при прикрытых глазах доканывали её на рассвете, чтобы затем Патриарх брал внове дутар в руки, а Хабиб-Улла, подобно кружащемуся дервишу, пускался в медленно-блаженноголовокружительный танец…
«Только вы, только Вы понимаете эту музыку! – плакал потом старик над обессилено засыпающим, храпя от экстаза, Хабиб-Уллой.
Так вот, оркестр вскоре споил своего на полставки всеузбекского Патриарха в гробовую доску, оставив сиротливого Хабиб-Уллу на голой и безыскусной водке. Но мы, впрочем, отвлеклись.
А хотелось сказать, что Севинч по прозвищу Муса, остался в Гиласе ещё более сиротливым, нежели старогородской поэт Хабиб-Улла. Ведь помимо музыки, помимо карьеры, помимо остатков ейско-бийского оркестра у него отнялась и память. И это притом, что при нём, как на тот случай у поэта, не было спасительной водки! Так вот, он стал забывать всё: в котором часу ему нужно быть на работе, он стал забывать дорогу на работу и каждый день, то сживший с ума Кара-Мусаев-младший, оставшийся к тому времени просто Мусаевым, водил его по пыльным и безлозунговым проулкам Гиласа, пока секретарша ДМШ не вылавливала их на перекрёстке, то какой-нибудь за подпись в дневнике проводил его до самого заднего забора, где опять всё та же секретарша находила своего растерянного шефа.
Именно в это время Севинч, забывший своё имя, но называемый остатками родных оркестрантов, да Мусаевым-младшим ещё более коротко – Мусой, и стал художником. Ведь теперь, необременённый памятью он всё видел как впервые, и ничего не повторялось в его жизни. А поскольку слова родной речи, так и не заученные им до конца в детдоме, стали неудержимо забываться, не говоря уже о том, что приобретённый ейско-бийский язык как ветром сдуло, то осталась какая-то немая тоска, которую Муса разукрашивал разными цветами дешёвых акварельных красок. Тихо-потиху он изрисовал всю нотную и другую бумагу детской музыкальной школы, потом стал упражняться мало-помалу в настенной живописи в учительской уборной. Оттуда он вышел на потолковые фрески у себя во времянке, выделенной ему на время ссылки добросердечной Оппок-ойим, так и не добившейся от безымянного директора паспортных данных, но, правда, сэкономившей на этом один экземпляр нововыдаваемого паспорта, выписанного ею для друга мужа – будь он не ладен – Петра Шолох-Маева. Всё убывало в Г иласе вслед за этим самым мужем – Муллой Ульмасом-куккузом, да только не тоска Мусы, что как вода в колодце – увеличивалась по мере зачерпки.
Тогда доброхотливая секретарша, поначалу немо плакавшая от этой тоски в учительской уборной, провела через профком ДМШ решение о воспитании в детях синкретизма и интегрального отношения к искусству, и поскольку никто ничего не понял, кроме того, что это весьма серьёзно, то под это дело она разрешила директору изрисовать по бессонным ночам все стены, двери, шкафы, парты, стёкла и даже единственный дребезжащий рояль, который на самом деле был пианино, с наростом, приделанным из фанеры школьным столяром Козикваем.
После ДМШ секретарша походатайствовала перед летним и зимним кинотеатром и Ортик-аршин-малалан за бутылку посольской водки с огурцами домашнего посола не только предоставил стены, но дал впридачу свои афишные кисти и плакатную гуашь. Правда, вышел конфуз: тоска Мусы хватила через край, потопив своими несмываемыми узорами и оба белоснежных экрана, так что в первые недели все фильмы, включая и комедию века „Операция Ы“ вызывали нескончаемые слёзы гиласцев, отчего сгнили ковровые дорожки Ортика, полученные им по списанию из Стацкома партии за несколько написанных лозунгов, читаемых лишь сумасшедшим Мусаевым-младшим.
Тогда, избегая скандала, секретарша прихватила на живую нитку две пары разноцветных, но близких к белому простыни и Ортик, закусив свой гнев новыми малосольными огурцами, вкривь и вкось набил их поверх директорской тоски по большой жизни.
К счастью секретарши Муса вскоре понял, кажется, тщету посягновения на погонный мир, на все его стены, потолки, асфальт, и перешёл на самого себя. Секретарше это было удобно – лица своего директор не видел, а потому и не покрывал маслом, а то, что на руках, торчащих из рукавов – можно было принять за наколки из трудного детдомовского детства. Правда, в летнюю жару, когда томящийся директор сидел, уставившись в окно и потел, – кабинет заполнялся разноцветными испарениями и всякий редкий посетитель, пропускаемый лишь по самой крайней, неотложной необходимости – бухгалтер в день заплаты, завхоз в день завоза, да Согинч в день премьеры школьного оркестра (его секретарша пускала с умыслом: дабы хоть как-то вернуть к жизни память шефа) – все с ужасом рассказывали о виденном, как о чуде.
Но не Согинч! Согинч был в шоке, но не от испарений, а от того, что Севинч начисто забыл его! Тот не помнил его ни как друга, ни как врага, и всякий раз в день премьер встречал Согинча как бы внове. Поначалу Согинч вымещал свое тоскливое непонимание и раздражение на оркестре, замахиваясь на первую скрипку дирижерской табуреткой или швыряя в барабанщика подставку пюпитра, но после того, как оркестранты, сильно разбавленные местной станционной шушерой, однажды не вытерпели, и вслед броску палочкой во флейту устроили дирижёру на станции „тёмную“, приговаривая при этом для отвода глаз: „Вот тебе рисовать на стенах! Вот тебе рисовать на газ-будке!“ – Согинч совершенно изменился. Он выхлопотал оркестру гастроли по близлежащим колхозам имени Самиъ-раиса, он добился награждения когда-либо потерпевших от него Почётными Ленинскими Грамотами, а остальных – Ленинскими Значками. Но в нём при всём при этом поселилась одна мысль, которая грызла его без конца…
К тому времени Муса, кончив период саморисовки, в один из дней перешёл на рисование красками по краскам. На всё ещё идущую директорскую зарплату он закупил ящики акварели и принялся рисовать красками одной коробки по краскам другой: синей по красному, красной по жёлтому, получившейся – по зелёному. Это его настолько поразило, что он перестал не только ходить на работу, но и вообще выходить из дому. Вот тогда-то Согинч, сидя в обеденные часы отсутствия секретарши в директорском кресле, понял всю безысходность своей осиротевшей судьбы: ведь торчи Севинч в этом кресле – была бы хоть какая-то иллюзия смысла жизни Согинча, а так… И тогда он решился. Давнишняя мысль в нём созрела.
Это была достаточно сложная и коварная история, о ней рассказывали в Гиласе уже после смерти Согинча через два-три месяца от странной болезни, этиологии которой даже Жанна-медичка не смогла отыскать ни в каком справочнике ни фельдшера, ни акушерки. А придумал он вот что. Раз в неделю Муса ходил железнодорожным переездом в станционную баню – последняя незабытая привычка, насмерть всаженная в него ещё в детдоме. Там в номере за 50 копеек в одиночестве Муса смывал с себя краски в свой нательный период. Правда, в последнее время рисования красками по краскам ему было смертельно скучно смотреть на бесцветную воду и бледное тело, но детдомовскую привычку смыть оказалось труднее, чем даже масляные краски.
Согинч тоже ходил еженедельно и обречённо в станционную баню, но не в номера, а в общую мойку, поскольку никогда не красил самого себя, а детдомовские наколки: „Не забуду мать родную!“ и портрет Сталина, касающегося усами бороды Ленина – не смывались ничем и нигде!
И вот, опираясь на эту незабываемую привычку, Согинч, не называемый уже никем Ароном, взялся осуществлять свой зловещий план. Подкупив ударника обещанием сделать его не только „Ударником Коммунистического Труда“, но и ассистентом дирижёра, он стал не только замахиваться на первую скрипку, но выхватывая его смычок – хлестал им по ушам альтиста, а платочком того затыкал жерло тромбона. Словом, купленный ударник подговорил оркестр, ставший к тому времени из-за массовых отъездов полной станционной шушерой, на новую „тёмную“. По старой традиции было решено устроить экзекуцию на пустынной железной дороге в момент возвращения Согинча из бани, когда даже Акмолин оставлял свой маневровый паровоз на каком придётся пути и шёл со своим временным учеником к Фёкле-шептунье на самогон и самосад. На это собственно и рассчитывал неудержимо-коварный Согинч.
В тот день с утра Муса чувствовал некое недомогание. Весь день ему казалось, что в его опустошённой голове зазвенит звонок, и что-то подобное окончанию детдома, когда впереди начинается огромная настоящая жизнь – случится. В послеполуденное время, когда он взял в руки кисть и две очередных коробки краски, ему вдруг стало нестерпимо скучно, и он, макнув кисть в красно-карминную краску на секунду подержал её в нерешительности на весу и внезапно опустил её в ту же самую красно-карминную. Он вымыл кисть, макнул её в метил-оранжевую и опустил опять в метил-оранж. Капля сорвалась с кисти, на мгновение задержала форму и тут же растаяла в себе подобном. Муса вновь смыл кисть и повторил это с ультра-марином, с жёлто-суриковым, с коричнево-половой. От внезапного возбуждения он вспотел. Детородные органы его набухли, как в детдомовской постели. Судорожно открывая коробку за коробкой, он проделывал то же самое с каждой из красок. Стакан, в котором он смывал кисть, стал мутно-бурым, как воспаленные глаза Мусы, и вдруг, после сорок восьмой коробки, он бросил кисть и, припав к стакану, стал жадно пить эту бурую жидкость, отдающую всеми запахами земли…
В бане его рвало, но бурая жидкость, влитая в него, к его удивлению возвращалась почему-то ядовито-зелёной, и за изучением этого, чувствуя жжение в опустошённой мошонке, он вышел из бани на десять минут позже обычного.
А за эти десять минут случилось то, что случилось. Посылая на „тёмную“ Мусу, Согинч так и не преодолел искушения подсмотреть, как всё это будет происходить, и в положенное время выйдя из бани, пошёл берегом Солёного Арыка через бушевалку к переезду, дабы, прячась за вагоном, отцепленным от акмолинского паровозика для отгрузки капусты, пробраться к месту роковой экзекуции. Но ударник, которого он купил обещанием, не только предал его, но и выследил, начиная от бани и там, на железнодорожной насыпи произошло жестокое избиение оркестром своего дирижёра, приправленное отрепетированно-отвлекающим: „Вот тебе – замахиваться на скрипку!“, „Вот тебе – затыкать тромбон!“ Руководил всем ударник, колотивший по темечку колотуном, не оставляющим синяков. Скрипач тыкал смычком под дых, трубач совал сурдинку в рот.
Там, на железной дороге о полуживого Согинча споткнулся Севинч, задумчиво бредущий по насыпи десятью минутами позже. Он распрямился, затем склонился над ним и чистой рукой провёл по его окровавленному лицу. Тот медленно открыл глаза и, увидев над собой лицо Моисея, с хрипом вцепился тому в руку зубами! Муса возопил, и его вопль смешался с воплем идущего из тьмы тепловоза. В свете его фар Севинч увидел, как кровь его, брызнувшая из откушенного пальца, сливается и смешивается с кровью Согинча на избитом лице, на собственных руках, и вдруг он понял всё! От ужаса крови, сливающейся и растворяющейся в крови, он, немо крича, стал пятиться назад, и налетевший судорожный вопль тепловоза поглотил его.
Сгусток крови нашли наутро на переезде железной дороги и ворону, закапывающую этот сгусток своими острыми и кривыми когтями…








