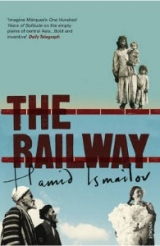
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Глава 29
Индийские фильмы? Индийские фильмы. Индийские фильмы!
Индийские фильмы: если что и воспитывало общественное сознание Гиласа и гиласцев, то это, конечно же, не чахлые субботники Гоголушки да Сатиболди-домкома, после которых вырастали на год до следующего субботника туберкулёзные деревца, которые опять пересаживались, никак ни развиваясь ни в рост, ни вширь, но и не умирая. И не лозунги, коими переполнял Гилас вплоть до общественных уборных Ортик-аршин-малалан-киношник, спившийся на партийных гонорарах (их читал, как вы помните, лишь разжалованный из ума Мусаев, коий по этой самой неприписанности имел допуск и в женские туалеты в поисках нового смысла в новой партийной установке) – нет! нет! нет!
Если что и воспитывало, образовывало, утишало и утешало Гилас, то это конечно же индийские фильмы! Среди пацанвы существовала игра: Кобил-кавунбаш – сводный сын ревизора Рыксы, ездивший на безотчётные деньги отчима в город, ехидно спрашивал Мурика-кутра, сына монтёра и проститутки: «Л.в. С.?» Тот пыхтел, матерился, как слышал в доме, проигрывал первый в Гиласе презерватив, оставленный дома кем-то из проезжих, и сдавался. «Любовь в Симле!» – победительно забирал кондом до первого проигрыша Кобил. «У нас его не крутили!» – визжал Кутр, но дело было сделано, и тогда он предлагал сыграть в орехи, где отыгрывал не только свой домашний «гандон», но и восемь названий фильмов впридачу, которых никто, кроме Кобила-дынеголова в Гиласе не знал: «С. – Сангам», «Ц.в.п. – Цветок в пыли», «С.М. Д. – Слоны мои друзья» и т. п.
То – дети. Старики ходили на них, чтобы, не стесняясь и бесстрашно оплакать всех родственников погибших и умерших до войны, на войне и после войны, а заодно и свои бестолково-беспринадлежные жизни, корейцы – чтобы заглушить горе разлуки с лукообразным Сахалином еще большим, неимоверным, ИНДИЙСКИМ ГОРЕМ, беременные – дабы разродиться, алкаши – чтобы протрезветь, не говоря уже о крымчаках или заезжих единокровных с индусами цыганах, у которых, бог весть, что на смутной душе было.
А однажды, выписав по будке Хуврона-брадобрея мочой «Господин 420», заявился на одноимённый фильм и бухарский сапожник Юсуф, которому его иудейская вера запрещала веселиться в день иому-киппура, пришёл он непонятно зачем – то ли посмеяться над плачущими, то ли увидеть ботинок 420-го размера, но фильм перевернул его нутро. Украдкой сливая многовековые слёзы на пол, он увидел струи, текущие по гнилым дорожкам Ортика, полученным им по списанию от партии, струи, которые подымались по обуви его клиентуры до щиколоток, до «кунжа», до задников, говоря то ли о старозаветном Ноевом Ковчеге, то ли о горах предстоящей работы над непременно сгниющих от соли подошвах и каблуках, но как бы то ни было, потрясённый увиденным, он перестал с этого дня мочиться на будку Хуврона-брадобрея! – Вот что такое индийские фильмы!!!
А вот история, случившаяся в Гиласе после фильма «Железная дорога в Уттар-Прадеш» («Ж. Д.В.У.П.» – по Кобилу-кавунбашу). Вернее, даже не после, а во время, поскольку каждый индийский фильм прокручивался Ортиком два дня и два вечера: сеанс – для проката, сеанс – для себя и два сеанса для стацкомовской партийной кассы в день. Так распорядился начальник железной дороги Темир-йул Умур-Узаков, изменивший в приложение и расписание пригородных поездов, для согласования времени прокрутки со временем выхода с работы смен.
Два слова о Темир-йуле. Считалось, что дед его – Умур-Узак-казак строил местную железную дорогу и был погребён где-то под ней: так отец Темир-йула понял и истолковал по необразованности путаное выражение «железная дорога была воздвигнута на крови русского и местного пролетариата». Тем более, что патриарх Гиласа старик Гумер ничего против этого не говорил, за что Темир-йул и назначил ему персональную пенсию станционного значения и прикрепил школьную бригаду тимуровцев за слепым стариком, дабы чего не ляпнул впредь.
Правда, злоязычные старухи, и, прежде всего жена слепого Гумера, правозащитница Штоннер, когда запаздывала пенсия мужа, говаривала, что Умур-Узака и впрямь убили урусы-рабочие, но из-за того, что тот занимался воровством и перепродажей просмолённых шпал на гиласское строительство. Рты – не котлы, их, как говорится, крышками не накроешь. А ведь пол-Гиласа стояло на этих шпалах, благодаря убитому Умур-Узаку. Так, стало быть, как ни крути, как ни верти, всё же на крови и костях Темир-йуловского деда!
Но да ладно! Лучше о фильме. Так вот, фильм этот был достаточно прост по сюжету, впрочем, как и все индийские фильмы. У железной дороги жила семья пристанционного Учителя, воспитавшего в своё время сироту Гопала, что рос с учительской дочерью красавицей Радхой, как брат с сестрой. Учитель сам выучил Гопала грамоте, а потом даже на последние деньги отправил его продолжать образование в Бомбее на железнодорожного мастера, обручив его к тому времени с Радхой. После отъезда Гопала семья Учителя обнищала, поскольку он сам постарел и перебивался случайными уроками, а зарабатывала деньги Радха, вынужденная устроиться танцовщицей в станционный ресторан. Там её и увидел Начальник Станции, который замыслил неладное.
Тем временем Гопал, учащийся в Бомбее, оказывается жертвой безобидного знакомства на городском празднике Священной Коровы со своей землячкой – Димной, дочерью того самого Начальника Станции, учащейся курсом ниже. Та влюблена в Гопала и там же во чреве Памятника Коровы в день праздника и петард пытается его соблазнить.
Гопал вскоре кончает учёбу и возвращается на станцию. В первый вечер по прибытии он идёт в вокзальный буфет, выпить чашечку индийского чая и, о, Вишну! О Митра! – видит там танцующую перед пьяной публикой Радху! Буря просыпается в сердце у Гопала. Радха пытается что-то объяснить, но напрасно!
Гопал поселяется в местной гостинице, а вскоре начальник станции, получивший письмо от своей дочери, не только выдает ему служебное жилище, но и назначает начальником дистанции пути.
Проходит год. В день приезда с учёбы Димны умирает от чахотки Старый Учитель, и его за отсутствием денег, хоронят на придорожном участке, рядом с железнодорожным полотном, но Гопал не знает о случившемся, а встречает дочь Начальника Станции. Об этом и обо многом другом узнает через станционных пьянчужек Радха и сорок дней спустя после смерти Отца принимает давнишнее предложение Начальника Станции выйти замуж за его придурковатого племянника, став на самом деле его наложницей, а со временем, может быть и матерью своей соперницы…
Весть о смерти Учителя и о роковом решении Радхи застигает Гопала в персиковых объятиях бесстыжей Димны, и он вдруг прозревает. Бросив всё, он бежит по железной дороге на кладбище, и там, ведомая роком, оплакивает свою жизнь Радха. Происходит сцена, где всё происшедшее и настоящее они объясняют песнями. Но, увы, они оба уже связаны обязательствами. Кажется, нет никакого выхода. И всё же любовь оказывается сильнее и там, на могиле, рядом с портретом Учителя, взирающего из гирлянд, они любятся.
Тем временем со станции на дрезине едут, чтобы расправиться с ними, взбешённые Начальник Станции, его растрёпанная дочь, и все село с кольями и дрекольями…
Гопал и Радха стоят обнявшись и молча на железнодорожном полотне. Ветер развевает их волосы и одежды. А дрезина, укутанная в крики, всё ближе, ближе и ближе. И вот, кажется, случится непоправимое. Но внезапный гудок паровоза, идущего со спины, вдруг сметает всё разом, и над адским скрежетом и грохотом несётся лишь песня любви Радхи и Гопала, и поезд поёт её, отстукивая каждый такт вечной песни по рельсам…
Мой милый, не сожалей о пролитой крови,
потоки крови сольются в одно бескрайнее море,
что смоет ложь и вражду с лица земли,
и земля покроется дивными цветами…
О пяри, пяри тумса…
У Темир-йула Умур-Узакова был сын, такой же рябой, как и он сам, которого, дабы он не испортился окончательно, решено было поженить. Но, честно говоря, он давно уже был подпорчен сыном покойного греческого беглого коммуниста Аристотелиса Чувалчиди, умершим от чахотки вдали от Эллады и Эгейского моря – Демокритисом Пищириди, по взаимной склонности одного к педофилии, а другого к бачабозству [68]68
и первое, и второе – педерастия или же мужеложество, смотря на каком языке
[Закрыть].
Несмотря на то, что рябой сын рябого отца был назван при рождении героическим именем Сохраб, рос он мальчиком, а затем и юношей нежным и тонким душой. Часами он пропадал в магазине «Сельпо» у Рукии или же на кок-терекском базаре, щупая блаженными пальцами и вглядываясь слезящимися глазами в только что завезённый рулон бостона или же в лоскут фельдиперса, извлеченный на прилавок из сундука Оппок-ойим, из которого до войны она шила носки своему мужу Мулле Ульмасу-куккузу. Никто в Гиласе не знал вещи и их историю так хорошо, как сын Темир-йула Сохраб.
Когда ещё весь Гилас – от поссовета Турдыбая-аскера и до интеллигента Мефодия, ходил в китайских кремовых кителях, из-под которых просвечивала украинская расшитая по вороту рубашка, Сохраб уже носил дудочки и твидовый пиджак, купленный им прямо с плеча недоумевающего старика-казаха, пригнавшего своих баранов на кок-терекский скотобазар.
Только было, закрепилась за ним кличка Сохраб-стиляга, как он уже переоделся в вытачанную рубашку в крупную клетку и в клёш из лавсана. Не успела злоязычная уйгурка Гульсум-охунка, запустившая у себя на дому в серию дудочки и твидовые пиджаки для современнеющих гиласских корейцев, обозвать его Сохрабом-клёшем, как тот ходил уже в индийских джинсах!
Так вот, об индийском.
Тем временем, как рябого Сохраба, нежного и тонкого душой, как мальва на крепдешине, испортил на шерстемойке Демокритис Пищириди – сын беглого греческого коммуниста и уборщицы стацкома – тёти Лины, сын, никогда не снимавший, своей единственной, одноцветно-провонявшей гимнастёрки, Темир-йул Умур-Узаков, тем же самым временем, послал сватов по единственную дочь сына Умарали-судхора – Фаиз-Уллы, который был директором пристанционного и подшефного станции ФЗУ.
Между тем у Фаиз-Уллы-ФЗУ, как и в том индийском фильме «Железная дорога в Уттар-Прадеш», рос племянник Амон, наследство от сестры, умершей немного позже Умарали-судхора, оттого, что она так и не вспомнила, где закапывала с отцом мешок облигаций довоенного и военного золотого займа. Этого племянника Фаиз-Улла выучил в собственном ФЗУ, отдал затем в руки дорожных дел мастера Белкова, а когда Амон вернулся из армии со внуком Толиба-мясника – Насимом, видя бесславную историю женитьбы того, Фаиз-Улла-ФЗУ затаил про себя мысль без особых расходов женить его на собственной дочери Зайнаб. Как-никак сам у себя калыма не попросишь!
На следующий день после первого сеанса, но ещё до начала второго, к Фаиз-Улле-ФЗУ внезапно нагрянули сваты. И от кого бы вы думали? Точно, от самого начальника станции! И узнавший об этом Гилас заверещал, закопошился, затаился. Ведь и впрямь Зайнаб и Амон любили друг друга, просто не могли не любить друг друга, поскольку комсомольско-ударным поэтом уже была написана поэма об их любви [69]69
имеется в виду поэма Хамида Олимжона «Зайнаб ва Омон»
[Закрыть]. Попробуйте представить себе Фархада и Ширин – одноклассников, решивших изучать один – английский у Хамдама Юсуфовича, а другая – немецкий у Иды Соломоновны! Да никогда и нигде в жизни!
Да вот Фаиз-Улла, сам помолвивший молодых, был в замешательстве. Откажи он начальнику станции – прощай и ФЗУ, и пенсия, и станция. А что ещё остаётся в жизни помимо этого? Потому и произошёл у него такой разговор с Таджи-Мурадом, Ашур-тарнобом, вещавшим каждый час в станционный репродуктор об объявленном выходе пригородного поезда, и Долим-даллолом [70]70
даллол – посредник в продаже скота
[Закрыть], присланных Темир-йулом в качестве станционных сватов от железной дороги.
– Бошлигимиз зиёратларига буюрдилар, сизга анча мехрибонликлари насиб эткан экан [71]71
Начальник велел вас навестить. Вам досталась изрядная толика его внимания.
[Закрыть], -начал издалека хитрый Таджи.
– Хар ким хам бошлигимизди мархаматига лойик булурмидиде [72]72
Не каждый удостаивается благосклонности нашего начальника!
[Закрыть]! – добавил Ашур-тарноб, как в свой просмолённый репродуктор. Да так, что Фаиз-Улла от неожиданности прикрыл глаза. – Иигитчани биласиз-а? Сухроб-полвонни [73]73
Вы ведь знаете джигита? Сухроба-богатыря!
[Закрыть]!
– Истилягами [74]74
Стиляга, что ли?
[Закрыть]? – выпалил вдруг Фаиз-Улла.
– Хай-хай-хай! Це-це-це! – зацокал языком Таджи-Мурад и вдруг, как в атаку, перешёл на русский, выученный им в стройбате. – Хороший парень, отличный парень, комсомолец!
– Ха, бошлик инистутгаям киритиб куйса ажавамас [75]75
Немудрено, если начальник поступит его в инистут!
[Закрыть]! – вступил наконец Долим-даллол, верно почуяв минуту нерешительности Фаиз-Уллы.
Тот и впрямь был в замешательстве. Ведь по фильму, только что увиденному им со всей семьёй, получалось, что когда сватается начальник станции, или же по-другому – когда начальник станции сватается, то за этим всегда что-то кроется! И потом, так поспешно, ведь ещё не демонстрировали фильма второй раз! А ещё – как быть с любовью Амона и Зайнаб, с его собственным обещанием скорой свадьбы, когда молодые будут лежать под одним одеялом уже не как брат с сестрой, а с умыслом! Да к тому же, да тем более, когда друг Амона – Насим-шлагбаум/шоколад только что бежал с Наткой-аптекаршей и какой-то Бабой-Ягой, оставив своего соратника совсем одиноким!
– Минг катла рахмат доно Партиямиз устирган бошликка, – начал он свой ответ, – ажойиб, мехрибон одамлар. Темир-йулдек мустахкам одамлар. Лекин… биз уларнинг ишончларига лойикмиканмиз? Охирги турт ой партвзносни хам туламовдик… [76]76
Тысячу раз спасибо нашему начальнику, взращённому нашей мудрой Партией. Замечательный человек, любезный человек! Прочный как железная дорога человек! Только… вот мы можем ли быть достойны их доверия. Четыре последних месяца партийных взносов не платил…
[Закрыть]
– Куюринг, туй харажатига киритворамиз! [77]77
Не переживайте, включим в свадебные расходы!
[Закрыть]– успокоил его опытный в этих делах Долим-даллол.
– Бу ёги кандок буларкин?.. [78]78
Как же так?..
[Закрыть]– задумался Фаиз-Улла-ФЗУ, не умея отыскать ещё какого-нибудь аргумента.
Заметив его растерянность, Долим-даллол по многолетней привычке продавать бычков и тёлок, перешёл к решительным действиям.
– Кани, кулли беринг! Инсоп сари барака! Хэ динг, хэ динг энди! Тур оймас, беш ойини туласин! Хэ динг! Хэ динг энди! Уят буладия! Ха боринг ана олти ой! Ха, барака топкур, ана бумаса етти ой! Хэ динг! Хэ-ми? Хэ-тэ! Одамла тупланмасин! Кулги булади-я! Хэ! – он тряс руку бедного Фаиз-Уллы, да так, что голова того никак не могла закачаться по горизонтали – для отрицания, а только вверх-вниз. – Ана курвотсилами, хэ дивотти! Хэ дивотти [79]79
Ну-ка подайте сюда пятерню! Умеренность – голова богатства! Скажите да! Ну! Скажите да! Хорошо, пусть он оплатит не четыре, а пять ваших взносов! Скажите да! Ну! Давайте же! Ну не стыдите нас при всех! Хорошо, пусть оплатит шесть месяцев! Смотрите, люди уже собираются! Ну хорошо, так и быть семь! Идёт? Ну, говорите да! Видите, он говорит да, он согласен! Аллах велик!
[Закрыть]! – воскликнул он и внезапно выпустив руку Фаиз-Уллы, произнёс – Оллохи аквар! – и тут же встал, давая знать, что торги завершились и сделка состоялась! Сколько ни упрашивал Фаиз-Улла сесть за пиалку чая, чтобы наконец придумать свой аргумент, они поспешили уйти под непрекращающуюся трескотню Долима-даллола.
– Киши диганни лавзи бир, сузи бир! Туй кунини бошликки узлари этадила. Энди тайёргарчиликки буёгига курурийла! – и уже у самых ворот осёкся и спросил: – Ха, бугун киного чикасилами? [80]80
Слово мужчины – одно! О дне свадьбы вам скажет сам наш начальник. А вы уже начинайте готовиться! Да, кстати, пойдете сегодня в кино?
[Закрыть]
И тут Фаиз-Улла откровенно-утвердительно закачал головой.
В час дня весь Гилас уже знал о происшедшем. Акмолин, который обычно спал в это время в своём маневровом тепловозике на запасных путях, сейчас почему-то сновал по станции как челнок – дудя на весь Гилас своим тепловозом и перепрыгивая им с пути на путь!
На четырёхчасовом сеансе об этом узнали Зайнаб и Амон. А в шесть – Демокритис Пищириди. Вечерний сеанс был назначен на семь. Весь Гилас затаился…
А всё дело было в том, что Гилас ещё не успел переварить случившееся после фильма «Джага». Показательный судебный процесс на станции всё ещё продолжался и оставалось неясным, как повернётся концовка разбора последнего жуткого убийства. Ведь по фильму «Джага» ещё предстояло столько холодяще жуткого и без, и до фильма «Железная дорога в Уттар-Прадеш»…
Впрочем, два слова о том, что случилось после первого фильма. Внук персиянина Джебраля Семави, попавшего в Гилас силой несравненного Майкэ и иранских революций, он же сын Хуврона-брадобрея – Эзраэль-одногогодник, так и кончивший школу в непереходимом им четвёртом классе, юноша, красивый, как Юсуф, но не сапожник, а библейско-коранический, был женён на азербайджанке Шах-Санэм из казахского Кызыл-Тау.
Что-то случилось между молодыми и невестка «аразлаб» [81]81
устроив обряд «обиды»
[Закрыть], уехала на несколько дней к своей матери. Был месяц Ашура – месяц поминовения шиитами общих великомученников, а потому Эзраэль, как истинный персиянин по вере, не мог переступить самого себя и приехать за женой с мировой и повинной, как это водится в Гиласе. А потому неделю спустя, видя, что муж не едет за ней, приехала в Гилас сама Шах-Санэм. Эзраэль видел её из окна отцовской цирюльни, но вида не подал. Скорбный месяц ещё только набирал силу, да вот Шах-Санэм истолковала это по-своему, а потому, чтобы расшевелить своего неприступного мужа, она, якобы стала собирать свои вещи, чтобы продлить свой «араз» до послескорбных времён. Собрав узелок ненужных тряпок, она вышла из кургана Джебраля, но раньше её вышла и устремилась к станционной цирюльне сестра Эзраэля – Айшэ, подросток, почуявший вдруг себя матёрой женщиной. Узнав о происходящем, Эзраэль бросил недобритым однорукого Наби-прокламатора, и в белом халате с опасной бритвой в руках бросился вслед жене, переходившей в это время железную дорогу. Нещадно палило солнце, лишая всё смысла, а оттого скорбь Эзраэля легко перешла в гнев, к тому же некстати задудел своим гудком проснувшийся Акмолин и заверещал своим свистком Таджи-Мурад, словно вращая поднимающиеся от насыпи струи. Эзраэль бросил на них свой гневно-прискорбный взгляд и стал уговаривать попутно свою жену дождаться лунного месяца. Та, казалось, ничего не понимала и продолжала свой путь с узелком поперёк железной дороги. Тогда Эзраэль переступив свою скорбь, принялся материть жену как безмозглую курицу, для которой и священный месяц, что навозная куча! Та молча продолжала путь среди взирающих – и особо же недобритого наполовину Наби-однорука, пол-головы которого стало стягивать засыхающей болгарской мыльной пеной…
Схвати Эзраэль её при всех за руку, отбери наконец, этот дурацкий узелок, Шах-Санэм наверняка бы повернула обратно, но тут подошёл Кызыл-Тауский автобус, а Эзраэль всё так же не понимал её. Да, Эзраэль не понимал её! Он вошёл с ней в автобус, в белом халате, с намыленной бритвой в руке и сел рядом с ней, пропустив её с узелком к окну. До Кок-Терека они проехали молча. Правда, на железнодорожном переезде у бушевалки, где в своё время сшибло поездом директора гиласской музшколы, ожидая прохода семенящего акмолинского маневрового тепловоза со сверещащим на подножке Таджи-Мурадом, Эзраэль выматерился при всех и тогда Шах-Санэм отвернулась к окну и молча заплакала. После Кок-Терека Эзраэль стал её нелепо успокаивать, но с той уже случился какой-то ступор – она, как плешь на голове, была опять бесчувственна.
– Онайниский, биров билан сикишмокчимисан! [82]82
Ё… твою мать, что, хочешь с кем-то есться, да?!
[Закрыть]– зашипел с надеждой в хрипе Эзраэль, когда они подъезжали уже к реке, где давным-давно дед его омывал несравненного Майкэ. Она же всё продолжала молчать и тогда на глазах у всех Эзраэль полосонул бритвой по её горлу…
Кровь брызнула на его белый халат, на путаные волосы казашки, вопившей впереди, на мешок с рассыпавшейся кукурузой под ногами. Он же встал и, пройдя по остановившемуся и заглохшему посреди дороги автобусу, вышел в степь, где его дедом – Джебралем был похоронен Майкэ, сказавший эти страшные слова, использованные потом в индийском фильме «Джага»:
Кровь никогда не смоется кровью,
разве что слёзы смывают кровь…
… Так вот, не переварив ещё этой истории, Гилас затаился в ожидании повтора фильма «Железная дорога в Уттар-Прадеш». За час до вечернего сеанса, как обычно, заиграла музыка в хриплом репродукторе Ортика-киношника, списанном недавно с железной дороги за плакат: «Осторожно выиграешь минуту – потеряешь жизнь!» «Битлы» пели «Гёрл», а Радж Капур – «Мера джупа хе джопани…» За три четверти часа тётушка Ортика-аршин-малалана Кошой-хола стала торговать монопольными семечками, а жена Ортика – сэкономленными билетами. За полчаса стала выстраиваться белоодёжная очередь, хвост которой втридорога стал обилечивать сынишка Ортика – Омил. Почти весь дее– и детоспособный Гилас был собран на фильм.
Зайнаб и Амон впервые сидели по две стороны Фаиз-Уллы-ФЗУ. К самому началу сеанса, встреченный аплодисментами, подошёл начальник станции Темир-йул Умур-Узаков в окружении Таджи-Мурада, Ашир-Тарноба, Долим-даллола и почему-то так и оставшегося недобритым Наби-однорука, который, подымая вверх свою единственную руку, как бы успокаивал зрителей. Впрочем, Ортик понял этот жест как знак начинать фильм, продублированный после шёпота начальника, и свет в зале погас…
Будь на то моя воля, я бы перенёс всё действие в бессмысленный и полный солнца, да тоскливых песен по радио, полдень, но то происходило в семь часов вечера, когда невестки уже обрызгали водой дворы и улицы и начинали подметать изошедшуюся пятнами и, казалось бы, чуть вздохнувшую землю. И уже задорная песня подростков – Гопала и Радхи неслась из летнего кинотеатра…
Всё шло по сценарию и сапожник Юсуф после праведных трудов и конца мочеиспускания на будку Хуврона-брадобрея ещё посмеивался над предстоящими потоками слёз, и вот когда старик-учитель вручил отъезжающему со станции Г опалу последние рупии вместе со старой Похвальной Грамотой за первый класс, Акмолин внезапно встал и вышел из зала, якобы на ночную смену. Чуть погодя, и не ожидая того, как Радха начнёт впервые в своей жизни танцевать животом перед пьяными станционными рабочими, со стороны своей матери поднялась Зайнаб. Мгновение спустя со стороны отца встал Амон. Зал затаился, глядя на Начальника Станции, отправляющего свою дочь в том же направлении, куда года назад уехал и Гопал. Именно в эту минуту, тронув за рукав Начальника Станции, за девочкой вышел Долим-даллол.
Уже опростодушевший Юсуф забыл, над чем недавно посмеивался, уже Начальник Станции задумал неладное, и зал уже подозревал ещё более худшее, когда Начальник, не вытерпев подозрений или же ещё чего, вышел вон, провожаемый потоками слёз и гневной песней Радхи, ждущей своего Гопала. Тем временем двое молодых уже целовались вдали от этих событий.
Прошло некоторое время и в минуту, когда Гопал вошёл в станционный буфет, ко Фроське-буфетчице – бывшей жене бывшего дорожных дел мастера Белкова, вошёл Демокритис Пищириди. Выпив молча и без закуски стакан водки в кредит, сын греческих коммунистов направился к кинотеатру. Когда он вошёл в зал, Начальник Станции уже вовсю осуществлял задуманное, сидя в своём кабинете, из которого проглядывалась вся железная дорога в оба конца. Демокритис лениво взглянул на экран, а потом обвёл взглядом пустеющий и влажный зал. Он был здесь! – Димна бросилась к Гопалу и запев песню неверной любви, стала его принародно целовать. Надо было во всём ему признаваться и окончательно определять свои отношения! Демокритис решился, когда в зале осталось человек шесть: старушка Кошой-хола, обносившая всех семечками, пересекая лужи, сын Ортика – Омил, догрызающий последний стакан, купленный на вырученные по продаже билетов деньги, бездомный Мусаев, не понимающий, почему у индусов нет лозунгов, Наби-прокламатор, чешущий одной рукой так и недобритую половину головы и он, он, он!
Когда дрезина, со всей станцией на борту, ехала с шумом навстречу влюблённым, те стояли на железнодорожном полотне за переездом, в последних лучах позднего летнего солнца. Волосы и одежда их трепыхали от ветра и молодости. Начальник Станции, завидев их, завопил нечто непонятное. Дрезина прибавила ходу. Станция мчалась к своей развязке. Уже и Таджи-Мурад закрыл от волнения глаза, но забытый во рту свисток внезапно заверещал! Раздался адский гудок встречного тепловоза и когда на всю станцию грянула песня Гопала и Радхи:
О пяри, пяри тумса…
Акмолин резко дёрнул свои тормоза! Дрезина, вывалив из себя пол-станции, стала как вкопанная. Влюблённые стояли посреди двух полос рельс и двух подвижных составов, как ни в чём ни бывало…
Все оцепенели, ожидая того, что же произойдёт дальше… Пауза длилась долго, поскольку, как оказалось, при резком торможении дрезины, Начальник Станции прошиб лбом лобовое стекло капитанской кабины, и его обалдевшая голова торчала из нерассыпающегося по новой технологии стекла. Пока под началом сверещащего и машущего Таджи-Мурада вытаскивали его голову, Зайнаб и Амон вскочили на подножку объявленного Ашир-тарнобом на выход пригородного поезда и были таковы.
И когда уже разочарованная тем, что недосмотрела фильм, а здесь была обманута, как женщина, недоведённая до оргазма, станция расходилась по домам, у переезда, за бушевалкой, где в своё время сшибло поездом безвестного директора детской музыкальной школы, а Эзраэль материл Акмолина и Таджи-Мурада, происходило то, что наверняка не увидишь в ортик-малалановских фильмах, там шли по железной дороге двое и один из них говорил:
– Ты теперь не любишь меня?! Ну скажи, чего молчишь? Блядь, ну скажи чего-нибудь! Вот сука е. учая! Курва! Значит со мной теперь всё, да? Покончено? Теперь я тебе не гожусь, да?! Ну вспомни, как нам было хорошо вдвоём. Ну хочешь, уедем вместе? Возьмём билет на скорый и укатим. Х..й нас кто найдёт! Слышишь? Ну не молчи же! Ну чего ты плачешь?…Успокойся… Ничего не случилось, слышишь… Мы вместе, слышишь… Мы вдвоём. И никого нам не нужно, правда? Правда?! Какого х. я ты молчишь? Ну чего ты смотришь на меня? Одежда что ли? Одежда как одежда! Главное – чистая! Через день мать стирает! У других лучше, да?! В чужой руке х… й толще, да?! А… может быть… ты… постой… – и вдруг остановившись, он хрипло прошипел прямо в молчащее лицо:
– Онайниский, биров билан сикишмокчимисан?! [83]83
Ё… твою мать, что хочешь есться с кем-то другим?!
[Закрыть]– и тут Демокритис набросился на Сохраба, свалил его на рельсу и, перекатившись через неё на каменную насыпь, жестоко, зверски изнасиловал его.
Нет, не взирал на это портрет старого греческого коммуниста Аристотилиса Чувалчиди из-за железнодорожной насыпи, нее, всё это видел лишь один человек из Гиласа – однорукий Наби-прокламатор, который шёл, якобы, после фильма смывать в бане слёзы. На самом деле, пользуясь всеобщей незанятостью, он шёл воровать свои хлопковые зёрна, так вот, вдохновлённый увиденным он то и выступил на суде свидетелем, когда сына покойного греческого коммуниста выслали из страны в государство чёрных полковников, без права возврата, а плачущий перед отсылкой из Гиласа во ВГИК на учёбу Сохраб пел девичьи-трогательным голосом по выходе из зала суда этот вечный индийский мотив:
О пяри, пяри, тумса…








