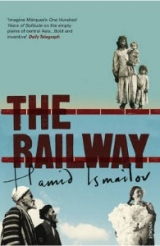
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Глава 32
…Мальчик вспоминал эту чайхану с таким же отвращением и неохотой, как он вспоминал свою поездку, и даже нет, лучше другую поездку – с тётушкой Асолат в Янги-базар. Тётушка Асолат жила на окраине города, в одном из бесконечных тупиков, попадая в который мальчик всегда удивлялся тому, что он не ошибся и вошёл именно сюда, к колонке у входа в тупик, с кладбищем по другую сторону дороги. Это кладбище поднималось от самой дороги, как кирпичная стена, и если бы не эта кирпичная стена, то осевшие могилы, казалось, своей тяжестью вывалили бы всех закопанных сюда, на дорогу, потому что и эта кирпичная стена уже вываливалась своей серединой, и с каждым выходом мальчика к тому тупику – всё больше и больше.
Тётушка Асолат была бабушкиной старшей сестрой, ещё успевшей выучиться арабскому письму и чтению, а потому умевшей, как говорила бабушка, в отличие от него «сбивать» буквы, а потом, говорила бабушка, если бы и она прожила без мужа столько лет, как тётушка без дядюшки Почамира, то, как знать, тоже бы читала молитвы и на похоронах, и на свадьбах бы благословляла всех, и базар бы свой не забывала. Всё это умела делать тётушка Асолат.
Но мальчик любил приезжать к ней не поэтому, скорее, наоборот, за это он её не любил, как не любил и вот этот кран, стоящий у самого входа в её тупик, кран с какой-то пружинящей ручкой, наподобие большой кнопки, что когда нажимаешь на неё и хочешь напиться после пыльной дороги, то всегда из крана ударяет страшной силы шершавая струя, и врезаясь в цемент, брызжет так, что пыль с брезентовых туфель летит пятнами на штаны, а вода – дальше, до самого отпрянувшего лица. Но даже если и плюнуть на всё это, то самое худшее в том, что всё равно из такой струи не напьёшься: подставишь губы – вода отскакивает, а во рту остаются одни пузырьки и пена, подставишь ладонь – выскакивает ручка, так что приходится нажимать на неё теперь двумя руками.
Но почему из-за этого мальчик не любил тётушку Асолат, он не знал. А знал он, что самое интересное в этом дворе – это чердаки, болохана, одни за другими, примыкающие к соседским жестяным крышам, таким гремучим, что когда ходишь по ним босиком, то они звенят под каждым шагом, если только не наступать на стыки, подогнутые кверху, но на стыки наступать больно, потому что жгущий жар железа здесь скапливается как на лезвии и дико надрезает подошвы, так что когда сквозь грохот и огонь добираешься до тени соседского тутовника, то даже холод железа в тени не может остудить эту пульсирующую полоску поперёк ступни.
Мальчик соглашался ехать к тётушке только из-за этих прогулок по крышам, когда можно сразу же оказаться на дереве так высоко, что снизу, из-за густой листвы и ослепительного солнца, ни за что его не увидеть. Там на дереве он видел множество крыш, слышал ленивый и далёкий голос репродуктора, идущий волнами от жара, что раскачивает белый воздух, и ему всякий раз вспоминалось на этом месте сказка, которую рассказывала бабушка, сказка про то, как джигит навещал свою тётушку – ялмогиз-кампыр, бабу-ягу, в кишлаке, превратившемся в кладбище. Старуха решила сварить в котле и его, тогда он сбегал от неё и где бросал соль появлялась гора, где зеркало – озеро, а где расчёску – лес. И последнее дерево, на котором сидел джигит, пилила своим зубом тётушка…
Тогда мальчик спускался с дерева и уже нехотя обирал свисающую перед ним ветвь тутовника и потихоньку переходил по гремучему железу на болохану, оттуда по лестнице и в сарайчик с тандыром, а потом через двор на улицу, к началу тупика, где пытаясь попить, можно остудить себе ноги и немного отмыться от пыли и паутины, налипшей как страх…
Напор воды упруго шелестел совсем как чуть не рвущаяся китайская бумага на варраке – воздушном змее, который нигде так не любили и не умели запускать, как здесь – в этих кривых и запутанных тупиках. И, наверное, именно поэтому любили здесь запускать варраки, поскольку улочки здесь были узки и невпроворот, и куда ни глянь – со всех сторон кривые, глухие, жёлтые стены глиняных домов, сливающиеся одна с другой в какой-то бесконечный вал с малюсенькими перебивами дверей, открывающихся вовнутрь, и только узкая полоска синющего неба с ветром, вырывавшимся из этих земных форм и уносящим мощной струёй варраки ввысь, в неограниченный простор, заставляла здешних пацанов клеить самые лучшие варраки из шелестящей восковой китайской бумаги, которую тётушка Асолат продавала у самого входа в тупик.
Мальчик знал, откуда тётушка Асолат привозит китайскую бумагу, и может быть только из-за неё приехал сначала сюда, к тётушке, живущей рядом с кладбищем, а потом согласился ехать с ней куда-то в Шаробхону на базар.
Мальчик помнит, как они собирались с вечера, и ещё засветло сходили в какой-то из переулков рядом с кладбищем, и мальчик шёл туда совсем как будто бы за самой китайской вощеной бумагой, но оказалось, там жил шофёр, который должен был везти их поутру в эту самую Шаробхону, и этот шофёр стал жаловаться тётушке на какой-то «демубликатор», как сказала потом тётушка, и эта жалоба стоила ей ещё каких-то немедленных денег, которые она доставала, отвернувшись от шофёра в сторону мальчика, из своих чулок, а рано утром, когда небо только-только начинало отличаться от чёрного цвета самого тупика, они вышли туда к кладбищу, и забравшись на кузов машины, поехали по дороге мимо кладбища, оказавшегося впервые на уровне их глаз, и мальчик увидел превеликое множество варраков, свисавших со здешних корявых священных деревьев, или же это и впрямь были тряпочки, в которые завёрнута мелочь, скорее всего так оно и есть, потому что стоя на ветру, нёсшимся навстречу машине, мальчик думал, что варраки при первом же ветре разлетелись бы с этих деревьев и осели бы на проводах, где их привычнее было видеть.
Долго длился этот вечер, сквозь который они ехали, нет это они уже возвращались вечером, когда солнце, как будто бы дразня машину, катилось ровно с такой же скоростью, то медленно, то быстрее, но ровно повторяя скорость машины, пока не врезалось со всего размаха в это кладбище, которое своей тёмной стеной ещё больше раздувшейся к середине, отсекло это солнце, и когда перед самой остановкой мальчик залез на колёса, лежавшие в кузове, оно показалось в последний раз и в последний раз катнулось, наполовину торча из земли, кровавое, как наверное отсечённая голова, и пропало по-за кладбищем.
И тогда только мальчик понял, что вся эта поездка кончилась, что теперь её никогда больше не будет, и только теперь он вспоминал отрывочно, как пытаешься вспомнить хороший ли – плохой сон, то, что было между утренним и вечерним кладбищем.
Он не помнил долго дороги по выжженной степи, с выжженными, кружащими голову от своего постоянного и медленного кружения холмами, и если ощущал эту дорогу, то ощущал её как тошнотворный запах бензина, казалось бы, поднимавшийся спиралями отовсюду, мешаясь с пылью и зноем, превращёнными в один утомительный и бесконечный жёлтый цвет. Но зато он помнит отчётливо показавшиеся ему сперва синими тополя, как будто на них оставался до одиннадцати часов сизый утренний налёт, потом помнит страшную толкучку на базаре – юрты и коровы, кузнецы – кто-то продавал какие-то пыльные тряпки – семечки, шапки казахов – кузнецы – кто – юрты, кузнецы, петушки – словом всё смешивалось в такую неразбериху, что когда тётушка Асолат сказала ему, что теперь-то и пойдёт за китайской бумагой, а ему, дескать, следует здесь посидеть и поторговать вот этими красными флажочками да петушками (а ведь об этом она ни словом не обмолвилась в дороге!), мальчик с удовольствием большим, чем обида, уставился на эти флажочки и петушки, усевшись на мешок, который расстелила ему старушка.
Она ушла и пропала. Мальчик не помнил: продавал ли он чего, он видел лишь мельтешение ног, и если только собака или коза на привязи проходили в этой кутерьме, его глаза долго сопровождали их путешествие. А потом прошёл ещё целый осёл. И вёл его казах в лисьих сапогах… Это было какое-то столпотворение…
И вот тогда случилось то, что запомнил мальчик из этой поездки твёрже всего. Оглушительный треск разверз небеса. И всё разом стало. «Война! Война!» – завопил кто-то рядом и, повинуясь этому крику, ноги смешались с руками и головами. Мальчик сидел, ни жив, ни мёртв, как на Страшном суде…
И только потом, когда тётушка Асолат отпаивала его холодным кумысом, купленным ей под этот шум по дешёвке, он узнал от неё же самой, что это молния разорвалась в юрте у кузнеца.
Он вспоминал всё это со злостью, ведь под этот шум тётушка Асолат не купила тогда ни китайской вощеной бумаги, ни мучного клея, ни камышинок – молния, что ли спалила всё на свете, а обошлась совсем ненужной мальчишке расчёской, в которое вделано зеркальце, и мальчик ещё раз с ненавистью вспомнил ту сказку о тётушке – ялмагыз, а ведь и дед говорил о ней, что, дескать, после войны та привозила своей родной сестре сухари, покрытые плесенью, чтобы взамен забирать кого-нибудь из сыновей по своим базарным делам, так что, говорил дед, «плясуй, не плясуй!» – именно так: «плясуй, не плясуй!» – зуб свой распилишь об неё, а ничего взамен не получишь…
Мысли приходили одна за одной, как будто поднимались оттуда снизу из чайханы по вытяжной трубе над самоварами, спрятанными за бязевым пологом; они шли совсем уже всбив в бесконечные минуты, когда мальчик отдышивался от очередного сна, или он вовсе не спал, а кружилась голова, если на ночь в топчан у самых самоваров был заложен уголь, и его запах пьянил своим угаром, как однажды за целую ночь у тётушки Асолат, когда выпал первый снег, и утром, выйдя в город – но разве опять за китайской бумагой? – его стошнило от самого белого снега, на самом белом снегу, и это ли отвращение заставляло его теперь вспоминать все поездки к тётушке Асолат и связывать их с непонятным отвращением, идущим из самых недр чайханы, из тесного пространства, где от жара головокружительного угля колышется и колышется белый бязевый полог…
Глава 33
У вдовой ногайки Айши, завезённой в Гилас по безотцовщине, родилась ещё перед войной безотцовая дочь, но тогда в эпоху массовых расстрелов, сопровождаемых культурной революцией, это считалось весьма прогрессивным, когда же в год смерти Сталина у безмужней безотцовщины – кумычки Сании родилась такая же дочь, сестра вдовой Бойкуш – бездетная Сайрам обронила где-то: «Быть ей ведьмой!» – и точно, внучка безмужней Айши от безмужней Сании – караимка Учмах – выросла ведьмой.
Поначалу она безобидно пересказывала в школе кто какую оценку получит по чистописанию у непредсказуемого после ночных запоев Головченки, но когда после урока географии, на котором кореянки отнесли себя поголовно к белой расе и повально получили двойки от неподкупного в расовых вопросах немца Геммлера, они избили предсказавшую это Учмах своим такэвондо, она перестала ходить в школу и стала предсказывать только дурное.
Первая страшная весть, которую она принесла в Гилас – была весть о невинно загубленном мальчике Хосейне – сыне Хуврона-брадобрея и внуке персиянина Джебраля. Ведь когда пропал Хосейн, все считали это делом рук джухудов – бухарских евреев, которые якобы заманивают конфетами детей, крадут их, а потом у себя дома, расстелив супру с мукой, становятся в круг, и каждый подзывает голого мальчика к себе, протягивая ему конфетку, мальчик подходит к первому, первый всаживает в него шило, тогда мальчик идёт ко второму, второй повторяет то же самое, кровь мальчика сочится на муку, из которой впоследствии джухуды пекут свои лепёшки-маца на иоми-киппур.
Эти подробные, как паутина, сплетни так напугали Юсуфа-сапожника, что он не только перестал мочиться каждый вечер на будку Хуврона-брадобрея, но и повесил на свою будку магическое слово «Переучёт» и пропал бесследно на несколько дней. Это подлило масла в огонь. Все стали вспоминать, как любезен был Юсуф с детьми, старушки и те зашамкали:
– А хах он нас поджывал…
И вот тогда Учмах, игравшая под дувалом Джебральского кургана, обронила:
– Не в стоячей крови он, а в текущей воде… – и вдруг, как птица от бессмысленной песни, задёргала головой: – Зах! Зах! Зах!
Тогда махалля отвела её к старшему участковому – Кара-Мусаеву-младшему и в тот же день Кара-Мусаев-младший выловил двух чёрных сыновей люли Ибодулло-махсума, которые через три дня признались, что убили Хосейна и утопили его в Зах-арыке. Через месяц, когда разбухший и квёлый труп мальчишки был вытащен в тридцати километрах от Гиласа на Кербельской плотине, в Гилас вернулся Юсуф-сапожник, и даже не открывая своей будки, не помочившись, направился прямиком к Айше-ногайке, Сание-кумычке и к Учмах, где не только перечинил им бесплатно всю имеющуюся обувь на дому, но и подарил настоящую супру из бычьей кожи с железнодорожным талоном на муку и конфеты, да набор сапожных шил.
Но мать Ибодулло-махсума Бахри-эна-фолбин, лишившись двоих внуков, затаила зло на Учмах. Три дня и три ночи она колдовала над обожженной бараньей головой и на третью полночь полнолуния выдрала из головы язык с корнями, съела его и уснула.
Правда, через несколько дней случилось совсем обратное – она умерла сама и поскольку в предсмертные часы сплошной рвоты ей не помогло и собственное знахарство, то Ибодулло-махсум был вынужден проскакать на своей арбе до медбрата Хузура, сына Долима-даллола, и тот потом рассказывал, что блевота старухи затопила все люливские закоулки, дети закрывались в глиняных лачугах, стены которых стали подтачиваться как от селя, и арба Ибодуллы скрипела и вязла, но было уже поздно. Старуха, подхваченная своей иссиня-жёлтой блевотиной, текла в сторону проруба, оставленного некогда могучим тараном внука Толиба-мясника.
И всё же заговор Бахри-эна-фолбин отчасти сбылся. Кара-Мусаев-младший, быть может и подкупленный скорбящим Ибодулло-махсумом, открыл дело на Учмах за недонесение и сокрывательство того, что она знала о страшном убийстве. Но то оказалось его последним открытым делом. Закрыть его Кара-мусаеву-младшему, лишившемуся вскоре всего и ставшему просто Мусаевым, читающим повсюду лозунги, так и не довелось.
Потом, много лет спустя, когда седой Мусаев сидел в парикмахерском кресле у Хуврона-брадобрея и никак не мог совместить двух смыслов, висящих над Хувроновским зеркалом: «Сорную траву с поля вон!» и «Дехкон булсанг шудгор кил!» [87]87
Если ты дехканин, то паши поле!
[Закрыть], Хуврон, видя, как мучится человек, посоветовал Мусаеву сходить к Учмах и может быть даже попросить у той прощения, и даже если Мусаев захочет, то они могут пойти к ней вместе, тем более что Хуврону уже пора на обед.
Так, полувыбритый и не разрешивший лозунговой загадки Мусаев и не снявший своего белого халата Хуврон-брадобрей с бритвой в кармане пошли к Учмах. Та сидела как всегда, подбрасывая камушки, и когда Мусаев по своей привычке стал искать лозунг, дабы отвлечься вниманием ума, Хуврон быстро попросил за бывшего участкового прощения за давнее незакрытое дело, Учмах же ловко вытащила из его кармана бритву и, надрезав себе безымянный палец, капнула кровью на камушки. Первая капля крови зашуршала в камушках, а вторая зазвенела и запрыгала:
– Занги-бобо, Занги-бобо… – повторила Учмах, и в это время в дом ворвалась со стопкой газет Айша, пристроившаяся на пенсии после мытья шерсти разносчицей почты. Она прослышала о непрошенных гостях от Ибодуллы-махсума, которому принесла два грязных письма из зоны и ринулась к себе, гнать их от внучки, которая всю жизнь только и страдала от этих незваных…
Она махала ещё нерозданной кипой газет, в которых Мусаев нашел, наконец, отдохновение своему измученному от невостребованности глазу и уму, Айша же увидев бритву в руках у Хуврона, перепугалась, что тот то ли как свой сын решил кого-либо прикончить, то ли, как свой визави Юсуф – из-за какой-то мелкой услуги Учмах – решил перебрить их всех бесплатно, а потому она зашипела: „Кит-ши! Кит!“ [88]88
Уйди, изыди!
[Закрыть]
На следующий день Хуврон-брадобрей объявил свой „Переучёт“ и повёл оскудоумевшего Мусаева к Занги-бобо – старику, который всю свою жизнь просидел у входа на Кок-терекский базар, торгуя насвоем – подъязыковым табаком с примесью куриного помёта. По его предположению Занги-бобо и должен был освободить Мусаева от лозунговой напасти. Дело в том, что Занги-бобо всю свою жизнь не только и не столько торговал насвоем, сколько собирал слова. Каждое услышанное, увиденное, прочитанное, обронённое, брошенное, завезённое, непонятное, неприличное, несусветное, словом, каждое слово с которым он встречался хоть раз в жизни, Занги-бобо заносил той же минутой на обёртки, заготовленные для насвоя, а вечером аккуратно переносил в одну из своих тридцати двух толстых книг, соответствующих той или иной букве алфавита. Правда, на три буквы ему пришлось завести новые книги за заполнением старых, а книга на „Й“ была заполнена всего на полторы страницы, кончаясь сомнительным словом „йобтувоймат“, к которому в порядке гипотезы было приписано: „ёпти Боймат [89]89
очевидное «ё… твою мать» обернулось в этом случае в «накрыл Боймат».
[Закрыть]?“. Что правда то правда – особо мучили Занги-бобо русские слова, ладно бы понятные, как „черещур“, „давеча“ или „исподволь“, но ведь попадётся какое-нибудь наподобие „ненасытный“, что заставляло ходить Занги-бобо к алкашу Мефодию и, кормя его насвоем, спрашивать на ломанном русском:
– Искажи, „ненасытный“ – это „сийиб улгирмаган [90]90
«не успевший пописать» – «ненассавшийся».
[Закрыть]“, да?
Когда ему удавалось объяснить значение „сийиб улгирмаган“, Мефодий, уже опьяненный насвоем, подозревал старика в намёках на мочащегося Кун-охуна и начинал бузить, крича нечто наподобие того самого „йоп тувой мат“, к которому Занги-бобо приписывал свои предположения, ожидая другого случая, когда интеллигент будет трезв. Но на одно сомнение накладывалось другое и Занги-бобо уже подумывал о том, чтобы изъять из своего корпуса слов этот сплошь сомнительный язык, да всё же чувство научной полноты гнало и гнало его к Мефодию-юрпаку.
Хуврона-брадобрея Занги-бобо любил. Ведь после смерти его отца Джебраля лишь Хуврон помнил, как Джебраль материл его в детстве, а через иранский родственный язык Занги-бобо не раз выходил на разгадку русских головоломок. Вот, к примеру, через джебральское „хей кусаш багом [91]91
е… её в пи. ду!
[Закрыть]!“, он разрешил свои сомнения относительно того, что было записано от Мефодия в последний раз: „х. й кусайш“ и „йоп тувой богоматр“.
Поэтому и на этот раз Занги-бобо встретил Хуврона-брадобрея с распростёртыми объятиями. Он провёл гостей во двор, где под виноградником была расстелена шалча, вся заставленная растрёпанными листами древних книг. Неся на скорую руку дастархан, старик объяснил:
– Вот, достал, наконец, книги из уборной. Кажется, теперь-то за них не станут арестовывать…
– Тем более, что главного арестовальщика я привёл к вам, – ответил в тон Хуврон, кивая на Мусаева-младшего.
Старик замешкался, признав бывшего старшего участкового. Ведь никто иной, как его отец, бывшая гроза Гиласа, распинывал занги-бобовский насвой у Кок-терекских ворот, пока, прости Аллах, не ослеп…
Мусаев мало что понимал в разговоре, поскольку не находил в нём ничего путно-лозунгового, а потому привычно оглядывался по сторонам, пока не встрепенулся от восторга, увидев в стене кривой уборной вделанный вверх ногами жестяной железнодорожный щит. Скрючившись, так, чтобы можно было прочесть, он произнёс по складам:
… игра-ешь мину-ту…
… те-ряешь жизнь…
„Играешь минуту, теряешь жизнь“ – повторил он вслух и задумался над смыслом. Пока он пребывал в этом умственном столбняке, Хуврон успел рассказать старику, зачем пришёл и привёл с собой этого бедолагу. Чем мог помочь Занги-бобо – Хуврон не знал, но в силе слов ведьмарки Учмах не сомневался. Занги-бобо надолго задумался над услышанным. Так и сидели они над остывающим чаем, эти двое насмерть занятые своими неразрешимыми мыслями, а брадобрей – просто между двух молчащих… Наконец Мусаева прорвало:
– Играешь минуту, теряешь жизнь… Лугавий маъноси шулким: „Дакика уйнар булсанг – умринг хароб булгуси!“ ва ё аникроги: „умринг зое кетгуси“, ва ёким: „умринг йукот булодур!“ Бу дегани недур? Шайх Муслихиддин Саъдий айтадиларким:
Онки дар бахри кулзум аст гарик,
чи тафовут кунад зи боронаш?
ва бу деганиким:
У ки, кулзум денгизида гарк эрур
не тафовут килгай ёмгирдан… [92]92
Дословное содержание этого: «Будешь играть минуту – жизнь свою изничтожишь…» или точнее – «жизнь свою истратишь напрасно», или же «жизнь твоя пропадет!» Что это значит? Шайх Муслихиддин Саади говорит:
Тому, кто утопает в океане, что за разница от дождя?
[Закрыть]
Хуврон-брадобрей какой-то частью своего происхождения привязанный к Саади, застыл, ничего не соображая, поражённый как из-за этого бывшего участкового, которого весь участок считал дурачком, льются и льются мудреющие слова…
Пока брадобрей осознал своё удивление, Мусаев разобрал посредством Ат-Табари наполовину смысл Саади, и неуловимым скачком мысли связал своё объяснение второй половины его смысла с лозунгом, который висел над колхозной чайханой Мукум-букура в махалле у Занги-бобо: „Болтун – находка для шпиона“. Говорили, что Мукум обменял этот лозунг в ближайшей воинской части на чайханский засаленный дастархан, который, как оказалось, в годы басмачества был Боевым Знаменем этой части и теперь потребовался в Музей Боевой Славы. Как эта тряпка попала к Мукуму-букуру никто не знал, но подозревали, что отец его – Каюм-кыйшик – умерший коммунистом и председателем местной партийной комиссии, был в своё время знатным басмачом, отбившим это знамя у славной гвардейской части. Словом, как бы то ни было, Мукум-букур молчал, следуя своему выменянному лозунгу, над разгадкой смысла которого трудился сейчас бывший участковый Мусаев.
Занги-бобо тем временем многозначительно молчал, потому, как все струимые Мусаевым слова имелись у него в его З2 книгах. Но когда всё более возбуждающийся, как вода к концу воронки, Мусаев вдруг и вовсе ощутил себя на многотысячном стадионе, среди факелов и сполохов, и голос его заклокотал в горле, как в минуты пророческих припадков Учмах, Занги-бобо насторожился, чувствуя, что сейчас грянет, Хуврон же весь напрягся от профессиональноненавистного ему скачущего кадыка Мусаева. И тогда Мусаев закатил глаза, мозги его сухо застучали, не натыкаясь ни на что мясистое – так в банке-копилке стучат две последние монетки, никак не выпадающие в отверстие, и вдруг пенящимся от сухости ртом произнёс: „No pasaran!“ – и вскинул победно руку вверх!
Этих слов не было в амбарных книгах у Занги-бобо. Не считать же их за дикую персидскую форму „нописарон“ – „недети“ – особенно перед Хувроном-брадобреем, законным сыном персиянина Джебраля, тем более тот сидел, не выражая протеста, а уставившись в клокочущий от бессловесья кадык Мусаева, тогда Занги-бобо тут же сплюнул насвоем на химический карандаш и своей арабской скорописью записал на обрывке бумаги.
Той ночью, когда Хуврон-брадобрей ушёл, а экс-участковый Мусаев остался, дабы теперь постигать из рук в руки смысл отдельных слов из тридцати двух Занги-бобо, сам Занги-бобо как всегда лежал на своей супе перед окном. На подоконнике, как всегда был включён двухпуговичный радиоприёмник „Стрела“, крутя ушко которого, Занги-бобо медленно проплывал по миру на средних волнах, натыкаясь то на сеющего как дождь по воде китайца, то на режущую душу острым голоском индуску, то на рокочущие молитвы араба, но дольше всех он задерживался на бесконечных коврово-изафетических цепях иранской речи, всякий раз вздрагивая от знакомого слова, и опять изо всех сил вслушивался в разноязыкий поток, плывущий по ночному летнему небу. Уши его вострились и вдруг, когда с хрипом и скрежетом из приёмничка выходил уйгур с незатейливой песенкой:
Бу созни эшиткен заман чекти ах,
болуп чехраси ул заман мисли ках,
кетип хошидин ерга хамвар олуп,
бу созлер конгул ичра азар олуп…
узнавая слово за словом все слова, Занги-бобо, как всегда, блаженно засыпал…
Заснул он с острой и блаженной горечью, и в эту ночь, но не уснул лежащий немного поодаль на супе под виноградником бывший участковый Мусаев. Поначалу ему было скучно глазеть на бессмысленные звёзды в промежутках между спелым, струящимся виноградом и пыльной листвой, равно как и слушать эти непонятные завывания, писки и трески ночного эфира. Тяжко и пустынно было на душе у бывшего участкового, как будто бы по некой долгодействующей инерции его лишили теперь и лозунгов – его последнего прибежища. Допел свою беспризывную песню и уйгур, под которого, похрапывая, уснул блаженный Занги-бобо. Песня сменилась молчанием, потом некими сигналами, и вдруг странное их свойство обнаружил Мусаев – они пипикали в такт с подмигивающими в пыльных промежутках звёздами, а потом падали одна за другой близко-близко над головой в жёлтые слюноточивые грозди.
Что-то сладкое и томящее разлилось по груди бывшего участкового, как будто бы он понял смысл всего и сразу, и тогда он без скрипа встал из гостевой, обильной постели и, не надевая своих сточенных хромовых сапог, медленно и босо направился в сторону амбара.
По дороге он разбудил сонно жующих дневную жвачку баранов, и тогда, прислонившись к их частоколу, он стал мочиться. Услышав струю, бараны враз зашуршали и собственной мочой. Мусаев загадочно улыбнулся и направился дальше. В амбаре света не было. Но, ища наощупь выключатель, Мусаев нашёл спички рядом с пятисвечником. Прикрыв за собой скрипнувшую дверь, он чиркнул спичкой и зажёг три свечи. В их распаляющемся свете он увидел те самые тридцать две книги, сложенные одна рядом с другой на полках для сушки урюка. Он порывисто направился, было к ним, но свечи попадали из подсвечника и, подобрав две погасшие из них, он обжёгся о третью, а потому бросил подсвечник на соломенный пол, дабы счистить прилипший к спалённой коже стеарин.
Чуть позже он взял с собой одну из свеч и подошёл к книгам. Постояв некоторое время в нерешительности, Мусаев опять чиркнул спичкой и открыл первую попавшуюся книгу. Пламя свечки осветило левый верхний угол, и он увидел слово: „самар“. Следом за этим кровавокрасным словом следовало пять объяснений. Три значения [93]93
1 – плод, 2 – итог, З – урожай
[Закрыть]он успел жадно прочесть, но спичка обожгла ему хвостом пальцы, и тогда сплюнув её в темноту, он зажёг другую. Эта выхватила другое слово, то ли „семиз“, то ли „Семург“, но он тут же повёл спичкой в прежний угол, и опять, пока отыскивал последние значения слова „самар“, спичка успела ужалить его вновь.
Третью он зажигал уже над этим углом, а потому быстро отыскал и четвёртое, и пятое значения, но следом шла фраза из которой он успел выхватить лишь слово „ерга…“ Мусаев зажёг ещё одну спичку, но от дрожи в пальцах, она вспыхнула и погасла… Сердце его стало нетерпеливо заходиться. Он уже чувствовал себя прочёвшим эту фразу, руки же, время же двигались медленнее его сердца и мыслей. Наконец он зажёг очередную спичку и лихорадочно прочёл: „самари ерга урди…“ [94]94
«его плод пал на землю»
[Закрыть]
Казалось, и впрямь что-то оборвалось в нём и упало… В прогорклой от дыма темноте амбара он зажигал спичку за спичкой, выныривали из темноты всё новые и новые слова, но он их не видел и не понимал…
Тот самый сигнал звёзд или эфира стучал в его сердце и падал под босые горящие ноги. „Самари ерга урди… самари ерга урди…“ Этого смысла, что родился из одного за другим объяснений одного странного слова, он никак не истолковывал, хотя как некая вспышка в нём осветился на секунду не лозунг, но фанерная арка соседнего колхоза „Ленин йули самараси“, так и не вошедшая в сей словарь, да, но всего на секунду, как память, как оставленное, как обречённое на забытье, и опять капнула то ли слеза, то ли капля стеарина, то ли головка спички наземь, под горящие ноги… „Самари ерга урди… самари ерга урди…“ Он горел на соломе, вместе с этими полураскрытыми книгами, которые листались теперь не руками, но огнём, и видел, как слова подымаются из этих книг пламенем, а тень их пылью падает вниз под горящие и неподвижные босые ноги… „Самари ерга урди…“ – шепнул он последний раз, и эти слова сгорели в нём последними, только ослепительный их взмах успел заметить…
Через три дня от полученных ожогов он скончался в коктерекской больнице, днём раньше у себя дома изжил свои лета выживший из ума Занги-бобо. Хоронил их почему-то Хуврон-брадобрей, хотя ни тому, ни другому не приходился родственником. Родственники же Занги-бобо побоялись приехать на похороны, поскольку пожар его амбара в ту ночь перекинулся на дом Соли-складовщика – старшего сына Умарали-судхора – главного наследника несметных богатств отца.
Немыслимая то была ночь, когда горели мешками деньги, накопленные судхором и складовщиком. Огарки их летали, подбрасываемые пламенем и опадали на соседские дворы, на пустыри, на обмелевший Солёный арык и просто в руки зевак. Хивинские ковры и золотое шитьё Бухары заливали вонючей водой Солёного, рулоны рукотканной алачи и завозной парчи отмеривались охватами пламени, шифер, способный покрыть весь Гилас и ещё железную дорогу в обе стороны до горизонта, трещал и взрывался, не подпуская добровольцев с вёдрами, которых поражали не величие бушующего огня, но размеры не поддающегося огню богатства. Ведь только на те деньги, что случайно оказались в кармане ночной пижамы Соли-складовщика, он тут же купил у корейца Филиппа Лигая его „Победу“ и послал того в город, закупать пожарную часть.
Пожарные приехали целым караваном к шести утра, после чего так и остались навсегда приписанными в Гиласе. А приехали они тогда, когда уже сгорели лесоматериалы и разлилось по Солёному вместо воды стекло, огонь же тем временем принялся за фарфор. В то же самое время жена Соли-складовщика по бросовым ценам распродала семьсот рулонов атласа, всем, кто крутился в эту ночь вокруг, и на вырученные деньги выкупила полдвора на противоположной стороне дороги у крымской татарки Майсэ, дабы перетаскать туда всё, что еще оставалось нетронутым огнём.
Пожарные работали споро и вскоре выкачанные помпами воды Солёного образовали пруд между фундаментально-прочного забора складовщика, и из этого пруда торчали обгоревшие стропила и железная антенна, смотрящая на Москву. Они же, эти пожарные, вытащили из соседнего двора обгоревшего среди праха З2 книг человека, в котором никто не признавал бывшего старшего участкового Кара-Мусаева-младшего, да обезумевшего старика, не отпускающего от себя двухпуговичную радиолу, выдранную с мясом из розетки…
Соли-складовщик не стал возиться со старым подворьем. Взвинтив цены на стройматериалы, он построил новый участок и уже цен своих не снижал. Так что пожар лёг тяжким и многолетним бременем на Гилас, если не считать того бассейна, который так и остался в его старом дворе. Детвора Гиласа барахталась там, прежде чем отмываться в полустеклянном Солёном. Самые смелые набирали воздуха и уходили под воду у самых стропил, выныривая, кто с китайской полупрозрачной фарфоровой пиалкой, кто с русской серебряной чайной ложкой, а кто с пачкой вымокших поддельных накладных… И всё же решался на это не всякий, поскольку осколки шифера, да рассыпанные повсюду дюймовые гвозди всё-таки преобладали…








