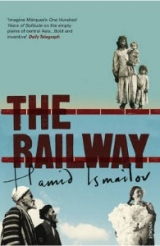
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Глава 4
Два слова попутно о жене Муллы Ульмаса-куккуза, красноглазой полуальбиноске Оппок, родной сестре большевика Октама-уруса. А история ее былой жизни такова. В начале двадцатых годов, когда Октам-урус вдруг пошел в гору большевизма, к ним в кишлак зачастили сваты. Оппок – совсем еще девчонка, выглядывала из щелочки ичкари на комсомольских вожаков, домогающихся ее беспартийной руки, да партийного покровительства Октама, и находила одного кривым, другого – худым, третьего – лысым… Тогда-то ее бабушка и сказала фразу, которую Оппок запомнила на всю свою жизнь:
– Ху-ув бола, сан узийни кип-ялангоч килиб бир тош ойнага соб курчи! [18]18
– Эй, девчонка, ты как-нибудь разденься догола и посмотри-ка на себя в зеркало!
[Закрыть]
Словом, вскоре вожаки отвадились наведываться к ним, переженясь кто на татарках, кто на казашках, а самые большие карьеристы – и на русских. Потом, по настоянию своего брата полуальбиноска Оппок сбросила принародно паранджу, и тогда даже вожаки этого движения перепугались и перекрестились, представив себе, что они могли заполучить себе в жены. После этого уже никто к ней не забредал в сваты…
Так и прожила бы она свою жизнь в коммунистическом одиночестве и в общественных трудах, когда бы не те самые массовые расстрелы, в пору которых на ней – первой секретарше стацкома комсомола не был принужден жениться Мулла Ульмас-куккуз.
В первую ночь, боясь коснуться лицом лица и все подправляя защитную подушку, бедный Мулла Ульмас лежал на первом секретаре и думал: быть может лучше развод и расстрел, тем временем как она с комсомольской неуемностью вопила: «Даешь!» и требовала и требовала своих комсомольско-брачных взносов!
До войны они родили троих, во время войны она уже одна дородила еще четверых защитников и защитниц Родины, носивших впоследствие отчество предателя Родины Муллы Ульмаса-куккуза. Воспитание детей в одиночку заставило ее уйти из секретарей райкома в базаркомы. Тогда-то Октам-урус, как незапятнанный большевик, порвал с ней всякие родственные отношения.
Оппок-ойим, усвоившая на базаре простое экономическое правило: «Ты – мне, а – тебе», ответила ему тем же самым, оставив брата-большевика перед будущностью дома престарелых за государственный счет вместо коммунизма, а сама же зажила как тугой кошелёк, не терпящий по своей природе пустоты. Детей она пристроила в институты и перед самой всесоюзной паспортизацией, дабы изменить их отчества на прочерк, она купила себе место паспортистки Гиласа. Все теплей и спокойней чем на Кок-терекском базаре.
Место паспортистки оказалось куда-более прибыльным, чем об этом догадывалась потратившая четыре сотни в старых деньгах стареющая Оппок-ой. Записные красотки платили ей за изъятие графы, вернее целых графиков брако-разводов, новые коммунисты – за сокрытие старой судимости. Но больше всех ей заплатил базарный весовщик Али-шапак, младший брат Толиба-мясника, которому она оставила свое место базаркома в Кок-тереке. Али-шапак попросил ее исправить в своем году рождения всего лишь одну цифру, а в результате стал на десять лет старше своего старшего брата Толиба. Через год, когда Али-шапак вышел на пенсию по старости, а его старшему брату Толибу еще предстояло хрячить на государство целых пять лет, Толиб-мясник взвыл, что пожалел тогда денег. Всеобщая паспортизация к тому времени кончилась, доставив несметные богатства паспортистке Гиласа – жене предателя Родины и первого здешнего фронтовика Муллы Ульмаса-куккуза, которого Оппок ойим уже выписывала домой через своих пионеров.
А между тем, так и дожил свою жизнь опозоренный Толиб-мясник, став на старости лет из своего скопидомства младшим братом своего братишки Али-шапака…
Глава 5
Во дворе бесконечно плакали старухи…
Мальчику казалось, что никогда не случится перерыва в этом тупом, многоголосом завывании, встречавшем у ворот каждую новую старуху, юркавшую туда мимо старого, одноглазого фронтовика Фатхуллы и двух незнакомых мужчин, что стояли и ждали, наверное, всю махаллю, но более всего Гаранг-муллу – отца того самого учителя истории из старших классов, который и нашел мальчика за школой на пустыре, когда мальчик поначалу испугался, но испугался оказывается совсем не за тем – а просто, как учителя, заставшего его за беготней, и испугался еще больше, видя как неестественно добро тот подзывает его к себе, стоя над арыком и не переходя на эту сторону – он так и остался стоять там, когда мальчик, узнав об этом, побежал сначала за портфелем, валявшимся на пустыре, и возвращался обратно, – и даже когда из-за угла школы взглянул в последний раз – может быть с мыслью: а не наказание ли это за то, что он не на уроке – но ведь уроки уже кончились, – и тогда еще более гнетущая мысль, что ведь уроки кончились давно и ему давно уже пора бы быть дома, заставила мальчика прислушаться к нескончаемому плачу старушек, мышками юркавших мимо стоящих у ворот мужчин, и потом, казалось, вволю пользовавшихся возможностью поголосить, затем порасспросить о житье-бытье первую встретившую во дворе, тем временем пока голосили пришедшие до неё, которых она чуть позже меняла, уступая свое место последующей, и так до бесконечности…
Мальчик стоял за вишнями, у самых окон дома Хуврона-брадобрея, в том самом месте, где они играли в орехи, и вырытая лунка с годами отчерченным кругом вокруг неё, ту, что теперь он присыпал носком ботинка, вызывала в нем такое же раздражение, как и этот бесконечный вой старух, юркавших мимо толпы мужчин, среди которых шумнее всех был красносапогий, как гусь, домком Сатыбалды, размахивавший рукою с папкой во все стороны, отчего еще больше походил на гуся, и оттого мальчик не любил его еще больше, как не любил домкома и дед, за то, что тот не знал никого по имени, и каждого подзывал к себе, маша рукой в которой папка, как и теперь он подзывал Расула, чтобы тот подвязался поясом – как сын этого… как его… – и вот тогда мальчик хотел уже выйти из-за вишен, пусть даже не назовут его по имени, но, подавшись вперед, он зацепился о вишню ранцем, и снова какой-то жгучий стыд прибил его к стене – и снова он услышал плач – как будто спугнутые домкомом загоготали гуси – а он, какой-то жалкий и мокрый цыпленок сидел с этим ранцем за спиной, прислонившись к дому Хуврона-брадобрея, и смотрел, как, ковыляя на все свои сто с лишним килограммов, побежал за угол дома – к себе – одноглазый Фатхулла – вот из-за этого именно угла он выбегал и оглядывался – вдвое быстрее, чем обыкновенный человек, отчего его косматые усы разлетались по сторонам, когда пацаны нещадно звонили в первый здесь дверной звонок и убегали, вклинив в него щепочку от его же щербатой двери, а он, как сказочное чудовище, семимильными шагами выскакивал из-за угла и озирался по сторонам вслед за своими усами – вдвое быстрее, чем обыкновенный человек, но и тогда он не замечал их под этими вишнями у дома Хуврона-брадобрея, со стороны своего отсутствующего глаза, и усы его уныло опускались, а потом начинали мерно взлетать, оттого что он начинал тяжело дышать, а может быть и им, как и всей улицей владел бесконечный и дребезжащий звон летнего полуденного безделия…
Сейчас он вышел, неся в руке пояс, хотя Расул, как и он сам, уже были подпоясаны, и тогда мальчик, думавший об этих некстати рано кончившихся уроках, об этом некстати придуманном пустыре – надо было сразу после звонка идти домой! – решил объявиться одноглазому Фатхулле из-под вишен, но, внезапно услышав голос бабушки, спрашивавшей у кого-то из мужчин, кажется у Сатыбалды-домкома – пришел ли этот… как его… Гаранг-мулла? – отпрянул опять к окнам, с трепещущим сердцем, как будто бабушка хотела спросить о нем – и спроси она о нем, он бы вышел, пусть перед этим никого не знающим по имени Сатыбалды, перед этой толпой стариков и мужчин – неподпоясанный, с ранцем за спиной, но теперь, когда бабушка, оставив калитку распахнутой, сама ушла туда, где продолжался плач, он сидел, прислонившись к дому Хуврона-брадобрея, ощущая жгучий стыд, еще более жгучий от своей беспомощности и безысходности.
Одноглазый Фатхулла, держа в руке вынесенный из дома пояс, стоял, не зная кому его теперь предложить, и опять мотал головой, как он мотал, выбегая из переулка, когда смотрел и не замечал их под вишнями, и, наконец, положил пояс на скамейку, и этот разноцветный шелковый платок, сложенный треугольником, свисал со скамейки также неловко, как свисали косматые усы Фатхуллы-фронтовика, стоявшего у открытой настежь калитки, из которой несся и несся плач. Мальчик всей кожей ощущал его жгучую неловкость, потому что причиной этой неловкости, ему казалось, был он сам – ему предназначался этот пояс, свисавший теперь со скамейки, пояс, которого касалась каждая старушка или женщина, шмыгавшая вдоль дувала между толпой стариков и мужчин и скамейкой – в распахнутую калитку.
Там во дворе за чередой женщин, плачущих, положив головы друг другу на плечи, мальчик увидел уже успевшую приехать из города тетушку Тилляхон, которую пусть и не любила бабушка – она, – говорила бабушка, – и мальчик видел теперь это собственными глазами – на всех похоронах и поминках чуть что – так и бежит в нужник – отсиживаться, пока другие плачут, к тому же всегда обвешивается как елка – золотом, – она и сейчас блестя своим золотом, бежала поперек двора в нужник, но ведь приехала, успела!..
Пока мальчик следил за тетушкой, которую не любили ни бабушка, ни он – он еще за то, что она, как и Сатыбалды-домком, никогда не могла запомнить его по имени, старушки внезапно оставили двор, по которому мчалась вприпрыжку из нужника Тилляхон, пустым, уйдя с плачем в дом, а вся толпа мужчин, стоявших у ворот, вслед за юркнувшим во двор Гаранг-муллой, заняла мгновенно их место во дворе, так что тетушка Тилляхон не успела проскочить в дом, прижав стыдливый платочек к своим намоченным глазам, и теперь со своим платочком в руках, что были увешаны золотом, она стояла посреди двора, и платочек ее беспомощно свисал, как свисал и одинокий поясок, оставленный одноглазым Фатхуллой на пустой скамейке у распахнутых ворот.
Плач раздавался теперь из дома.
Мальчик услышал, как из дому позвали подпоясанных Расула и даже Хокима – его одногодка и дядю – прощаться с отцом, и тогда, может быть, в последний раз мальчику захотелось броситься туда, пусть со своим ранцем, теперь уже резавшим плечи и подталкивавшим его частыми ударами в спину, но сила сильнее, чем эта тяжесть и эта прыть заставила его еще отчаянней прижаться к стене этого глухого дома, где жили дети Хуврона-брадобрея; и он стоял, не шевелясь, пока не вынесли носилки, обернутые чапаном, пока впереди них не вышли в распахнутые ворота подпоясанные Расул и Хоким, а с ними и одноглазый Фатхулла, и домком Сатыбалды, и сын Оппок-ойим – Кувандык, и пьянчужка Мефодий-юрфак, и Наби-однорук, и слепой старик Гумер, и преемник Кучкара-чека – Осман Бесфамильный, и Толиб-мясник, и старший участковый Кара-Мусаев младший, и Кун-охун, и еще много людей, и, неся эти носилки на плечах, они скрылись за углом дома Хуврона.
Тогда он бросился к другому углу, и, добежав до конца соседнего переулка, увидел процессию уже перед самой железной дорогой. Люди шли, меняясь под носилками, и даже машинист Акмолин остановил свой станционный маневровый паровоз, и, высунувшись из окошечка, глядел, как процессия переходит через пути, как те, кто стояли на станции, несутся к этой процессии и становятся под носилки, а потом, уступая место другим, сами тихо возвращаются опять к своим местам. Наконец, не смея оставить свой паровоз, он дал на всякий случай долгий и хриплый гудок, который и заставил мальчика споткнуться от неожиданности о рельсу. Мальчик бежал за процессией, и ранец больно бил его по спине, когда, вскочив, он стал перепрыгивать через рельсы, наконец, процессия вышла на дорогу, и спешно прошла мимо его школы, и мальчик, пробегая мимо своей школы, опять взглянул на тот пустырь за рядком тополей – ему казалось, что он увидит там учителя истории, стоящего над арыком, но пустырь был пуст, и если бы не длинная, жгучая, тоскливая песня, едва слышимая оттуда, то…
Мальчик чуть задержался, а процессия тем временем быстро удалялась. Останавливались встречные машины, выходили шоферы и вставали под носилки на десяток-другой шагов, потом опять садились в машины и неслышно отъезжали, вернее, как-то оплывали, а процессия шла и шла. Торопились успеть до заката. Солнце уже скакало между дувалами и домами, потом между тутовой, беспорядочной посадкой, потом еще раз между дворами, и, наконец, процессия свернула на кладбище.
Мальчик, запыхавшись, подбежал к уже закрытым воротам, в которых раскрыв калитку, заставляла ее кирпичом какая-то женщина. Он опешил от неожиданности, так попадают в чужие дворы, но внезапно распрямившаяся женщина опешила не меньше его, и еще больше растерялась, когда он пролепетал: «Ман… уларни…» – «Да, да, да…» – и женщина быстро-быстро пошла вглубь кладбищенского двора и вошла к себе в дом, здесь же, на кладбище. Мальчик стоял ни жив, ни мертв. Казалось, и она уже была посвящена во все, и оттого ожидание ее решения было мучительным и бесконечным. Но она не выходила.
И тогда мальчик безоглядно устремился внутрь кладбища, туда, где в разукрашенной росписью цветов и птиц беседке стояли несколько носилок наподобие тех, за которыми он бежал. Он оглянулся назад. Женщины не было. Он осмотрелся и между мраморными надгробиями да железными решетками в отдалении увидел поднимавшую кетменями и лопатами могильную пыль свою процессию. Когда бы не ранец, он дополз бы дотуда, но с этой ношей за спиной надо было идти в обход за низеньким, полуразвалившимся дувалом к глубокому арыку на противоположной стороне, а уж от арыка, заросшего ивняком, до толпы было рукой подать.
Когда он добрался дотуда, процессия уже сидела на корточках и Гаранг-мулла читал свою глухую молитву. От непонятности ее слов, она была еще тоскливей, такой тоскливой, как дуновение ветерка над сухой травинкой или как отчаяние последнего мураша, все взбирающегося и взбирающегося на ее пыльный, колючий, бесплодный стебель. Наконец он дошел в своей молитве до того места, где в свое тоскливое завывание должен был вплести имя покойного, и… вдруг остановился, отчего мальчику стало так страшно, что он готов был упасть в воду и не выплывать из нее, он так бы и поступил, когда бы Гаранг-мулла не спросил у сидящих: «Рахматликнинг оти нима эди? [19]19
«Как звали покойного?»
[Закрыть]» Сатыбалды-домком густо закряхтел, но все остальные зашептали: «Хашим, Хашим…» Глухой домулла переспросил несколько раз, прикладывая ладонь к уху, и когда Фатхулла-фронтовик своим зычным, командирским голосом гаркнул: «Хошим эди!», домла вздрогнул, но как будто бы дожидался именно этой вести, внезапно обернулся к толпе, хмыкнул и сказал:
– Э-э, так это тот самый Хашим, что водил тетю-Фатхуллу в гости к Бойкуш?
И все разом грохнули. Смех стоял над кладбищем. Сам Гаранг-домулла исходился мелким бесом, смеялся могильщик и домком, и даже сам Фатхулла прослезился и зрячим, и слепым глазом.
Мальчик дважды слышал эту историю и знал ее наизусть, как все то, что рассказывалось дедом. Вернее, дедчимом, поскольку собственного деда, как говорила бабушка, расстреляли ещё до войны. Правда, оба раза история рассказывалась дедом по-разному поводу и в разных словах, но, впрочем дед всё рассказывал так – как впервые.
С Фатхуллой дед приехал в Гилас почти одновременно, когда весь Гилас умещался на одной улице, идущей от железнодорожной станции и вглубь, к тугаям Зах-арыка. Как они остановились на одной станции – один, возвращающийся контуженным и раненным с войны, другой – выбирающийся из тыла – никто не знает, хотя бабушка, сидя со старушкой Зеби, иногда нехотя вспоминала про артель Папанина, где они шили под началом дяди Изи солдатские телогрейки – семнадцать молодаек, оставшихся – кто с детьми, кто с похоронками. И ещё как они раз в сутки выходили на поезд с хлебным вагоном, вынося кто что мог на обмен, кто ведро зелёных яблок, кто – внеурочную телогрейку, а Бойкуш ещё помидоры и картошку – зажиточная была старушка – будь земля ей пухом!. Вот так и поселились в Гиласе тринадцать мужчин – Толиб-мясник женился разом на двоих, а Оппок-ойим не захотела обзаводиться новым пришельцем, ждя бесполезно возвращения своего мужа – Муллы Ульмаса-Куккуза. И Бойкуш – будь земля ей пухом – так и осталась тогда без мужа. За этим бабушка всегда начинала пересчитывать по пальцам гиласских пришлецов, но всегда насчитывала их двенадцать; когда же мальчик напоминал ей о деде, она сердилась и бурчала:
– Вот и твоя мать убедила меня, что он мне муж!
Мужчины быстро сошлись друг с другом, как разом нашли себе и занятия. Хашаром, то что потом стали звать субботником, построили себе наискосок от артели чайхану и, выбрав деда чайханщиком, проводили всё свое свободное послевоенное время за пиалкой чая и неторопливой, сладкой беседой.
И вот тогда, в эти сладкие голодные годы первого покоя, сидя вечером в чайхане, кто-то помечтал, что хорошо бы жениться на Бойкуш. Скорее всего это был Толиб-мясник, чьё прозвище пришло к нему впоследствии, вместе с появлением мяса, а тогда он был как и все – станционным рабочим у дорожных дел мастера Белкова, и обеспечивать двух жён с их довоенными детьми, без подобных мечтаний было и впрямь трудно. Кто-то, подзадоривая Толиба-ещё не мясника, сказал, что его мужества на трёх женщин не хватит, тем более на подслеповатую Бойкуш, которая уж если схватит, то оторвёт с корнями! – Все расхохотались, как хохотали всегда, когда дед рассказывал эту историю, и мальчик не понимал, над чем они смеются, и глядя на серьёзного деда, ещё более терялся в догадках; и тогда Али-шапак – впоследствии базарком после Оппок-ойим, сказал, что лучше бы об этом мечтал Фатхулла: ни тот, ни та не заметят – что отхватили! И все опять хохотали. Тогда мальчик глядел на старика Фатхуллу, и видя его одинокий смеющийся глаз, успокаивался, как успокаивается ребёнок, заглядывая в конец непонятной сказки. Тогда Али-шапак обратился к деду, дескать, уж он бы посватал соседку за соседа, ведь говорит пословица: «Кушнинг кур булса кузингни кис!» Дед поклонился в ответ и удалился. Через некоторое время он вошёл в чайхану с большим узлом и сказал, что через три четверти часа Бойкуш ждёт его с Фатхуллой на плов. Дескать, он распорядился. Только вот ради такого экстренного угощения надо выполнить одно условие. О чём же разговор?! – ведь в те годы плов за три четверти часа могла позволить себе лишь Бойкуш, мужчинам даже всей чайханой приходилось готовиться к пловоедству неделю-другую: достать всё необходимое – от морковки на Кок-терекском базаре и до немецкого трофейного риса из города, куда надо было идти с утра, самого утра, а это значит – не выходить на работу, и поскольку отпрашиваться тогда не было принято, а не выходить на работу – и подавно, то… Словом, там, где был плов, отпадали сами по себе всякие условия.
Подбадриваемый всеми Фатхулла, прошествовал с узелком по ту сторону самовара, и там, за бязевой ширмочкой перед ним был развязан этот заветный узелок. В нём были: женское необъятное платье – бабушка и тогда была как проходящий поезд, – говаривал дед, черный с застиранными цветочками кашмирский платок, – потом им бабушка в жаркие дни будет занавешивать единственное окно, и в какой-то красной и душной темноте мальчик ощутит себя сидящим у Бойкуш Фатхуллой – и он прикроет один глаз, и эта красная и душная темнота перекочует, просочится в этот закрытый глаз и расплывётся кочанами капусты; – но там в узле была не капуста, а кривая и толстая по двум краям, как огромная изогнутая гантель, тыква. Её дед приделал Фатхулле вместо грудей, хотя Фатхулла здесь стал уже потихоньку противиться. Но слово мужчины есть слово, и дед накинул на него вместо чачвана сам узелок, а сверху чапан, и уже следовало бы говорить «накинул на неё», как добавлял дед и слушающий вместе со всеми Фатхулла начинал топорщить свои косматые усы. Но дед был настоящим другом, он не стал показывать Фатхуллу в этом виде в чайхане – ещё бы – женщина и в чайхане! – а сквозь маленькую заднюю дверцу, через которую забрасывали в чайхану привезённые на телеге дрова, без четверти часа до положенного срока, он вывел фронтового разведчика в глухой переулок.
Густой и щекочущий запах жареного лука и мяса пробивался и сквозь чачван – бязевую накидку на лице, и если бы не кривая тыква, привязанная за пазуху, то Фатхулла – и он признавался в этом – дышал бы ароматом в полную грудь. Проходя мимо собственного дома, дед, естественно, ускорил шаг, чем чуть не привёл к аварии с непредсказуемыми последствиями и уважаемую Фатхуллу-биби – в платье и платке собственной жены, но к счастью, дразнящий запах жареного мяса и лука загнал всю махаллю по домам к керосиновым лампам N10, тускло светившим в окнах да к атале – мучной похлёбке в запёкшихся от однообразия казанах.
Зайдя за угол, откуда обычно выбегал Фатхулла и беспомощно мотал своей огнедышащей головой, не замечая мальчишек под вишнями Хуврона-брадобрея, они ещё раз огляделись с ног до головы, и когда дед попытался поправить явно покривевшую кривую тыкву, ее владелица даже шлёпнула деда по рукам, и это было весьма кстати, потому как волосатые руки Фатхуллы могли бы доставить неприятности Бойкуш при приветствиях: в обнимку, положив головы друг дружке на плечи и похлопывая друг дружку по спине, а потом ещё пожимая руки. Последнее решено было не делать, и дед воскликнув: «Бисмилло!» – постучался в калитку дома, стоящего бок о бок с домом Фатхуллы. Через некоторое время Бойкуш заскрипела цепями и засовами, и калитка открылась.
Именно так, через много лет, эта калитка заскрипит и перед мальчиком появится Таджи-Мурад, сын Бойкуш в матросской тельняшке, которую он купил вместе с бескозыркой за 12 рублей, высланных ему на возвращение из армейского стройбата Бойкуш, и тогда мальчик почувствует себя перед этим моряком Тихоокеанского флота на какое-то мгновение и дедом, и Фатхуллой, и ещё кем-то, незримо присутствующим над этой скрипящей цепями калиткой, но это будет потом, а тогда дед скажет:
– Мана, Бойкуш-кушни, Андижондан Сиззи истаб келган холайзди олиб келдик… – то есть, вот, соседушка Бойкуш, привели мы у Вам Вашу тётушку из Андижана…
– Я онемел, – вставлял тут своим зычным голосом Фатхулла, а дед как будто обижался:
– Впрочем, нет худа без добра, по крайней мере, Вы, уважаемая, ничего не испортили своим «Равняйсь! Смирно!»
– Вот, милейшая, встречайте свою тётушку. Она, говорит, знала вас ещё вот-такусенькой девочкой, когда вы ещё лежали в люлечке-бешике. Ах, время… время…
На подслеповатые глаза густо здоровающейся Бойкуш уже навернулись слёзы, и дед без опаски мог показывать Фатхулле, как себя вести. Но Бойкуш и впрямь была из тех, кто, схватив что-либо, с трудом выпускает его из своих рук – она попеременно вскладывая тяжёлую как тыква, голову то на одно, то на другое плечо Фатхуллы, пересказывала всю свою горестную жизнь, оживив в памяти всех, кого помнила с возраста, когда лежала в бешике, и особенно тех, поскольку, как она понимала, именно с тех пор её и тётушкины жизни разошлись в столь далёкие стороны, что вот только такой случай, счастливый и неожиданный случай, о котором сообщил три четверти часа назад Хашимджан… Может быть боясь, говорил впоследствии дед, что в ответ на её расспросы тётушка примется рассказывать ещё большую свою биографию, Бойкуш плавно перешла на сегодняшний день, переспрашивая о здоровье тётушки, о пути-дороге, и ещё обо многом, пока дед не почувствовал своим опытным чайханским носом тонкую струю горечи в столь богатом на ароматы цветнике запахов готовящегося плова.
– Соседушка, у вас что-то горит, – пытался он втиснуться в потоки бытового красноречия накопившейся Бойкуш, но она в это время только начала оборот:
– Оллохга шукрки, ойнинг ун беши коронгу булса, ун беши ёрук экан, мана бизлар хам кунимизнинг бир насибасини икки киламиз деб, кенг дастархондан сочилган майда ушокдак шунча узокларда… да, да, как маленькие крошки просыпанные с большого стола, в такой дали пытаемся из участи сделать долю, и ведь впрямь говорит, что если пятнадцать дней месяца темны, то пятнадцать следующих полны света, и слава Аллаху… – дед говорил это без умолку, и на середине долгой фразы Бойкуш всех разбирал смех.
– Путь этой фразы был столь же далёк, как и путь тётушки к плову, – заключал дед, а потом добавлял: – вот и пришлось мне пуститься на крайнее средство – просто крикнуть: «У вас чайник расплавился!» Бойкуш мигом отрезвела и обернулась к деду:
– Вы что-то сказали?
– Она глухая, говорите громче, драгоценная…
Он прокричал это, как бы показывая, как следует говорить и, пользуясь вниманием Бойкуш, тут же пригласил «тётушку»:
– Проходите, уважаемая, самое высокое место в этом доме принадлежит вам, не правда ли, драгоценная Бойкуш? – И уже по привычке, пользуясь непросматриваемой стороной Фатхуллы, как через два десятка лет будут пользоваться тем же самым, давя на первый звонок в округе и убегая, пацаны махалли, дед делал знаки мудрой Бойкуш.
– Бойкушхон, даже голодный человек ищет не еды, но человека, – философствовал дед через четверть часа за дастарханом, сказочным по тем временам. Мальчик всякий раз силился представить, что там могло быть. Наверное черешня «бычье сердце», которую можно есть с хрустом – целыми гроздьями; персики – такие, что когда надавливаешь по их шерстистым бокам, чтобы поделить надвое, в лунке проступает капелька сока, наподобие росинки, а потом уже открывается его жаркое нутро; потом конечно же дыня, нарезанная «верблюжьими горбами», и наверное… Нет, ананаса там быть не могло. Не зря же дед привёз его из Москвы и всего один раз.
На этом месте мальчик дважды заставал себя на том, что дед уже рассказывает, как они, съев жирный плов, уже подбирают рисинки – соберешь семь штук и проживёшь семьдесят лет. Мальчик давно уже вёл тайно ото всех свой счёт и если даже дед иногда ругал его за пловом за малоедство, но уж семь уроненных рисинок мальчик собирал за собой аккуратно и в очередной раз съедал их, обретая себе новые и новые годы.
Так и дед подбирал свои семь рисинок. Фатхулла ел плов из-под чачвана – бязевой накидки, которая потом сменила ширмочку в чайхане, и два огромных жирных пятна на ней говорили о том, как усы мешали ему в тот вечер, но именно в тот вечер его усы приобрели тот самый блеск, который пропал лишь с сединой цвета бязевого чачвана. Он сидел в этом чачване, поскольку хитроумным дедом было внушено Бойкуш, что нравы в Андижане мало изменились с тех пор, когда она лежала ещё в бешике, и тётушка из-за чачвана рассматривала ее пухленькие щёки. Вообще, с немого позволения тётушки – она довольно притомилась и даже осипла в дороге, расспрашивая у всякого встречного, где живёт её драгоценная племянница, – обо всех андижанских новостях, услышанных в чайхане, рассказывал дед, а Бойкуш слушала, изредка перебивая и прося угощаться, и дед, уже наевшийся, воспринимал это как недоверие к сообщаемым новостям, отчего переходил к еще более завораживающим.
– Вы знаете, драгоценная, от Андижана будто бы проложили железную дорогу до Оша, и теперь эта дорога стала как лестница, которую облепили муравьи. Сплошной поток идёт по ней, дабы поклониться священной Сулейман-горе…
– Берите, угощайтесь, – говорила Бойкуш.
– А теперь, поскольку по дороге не ходят поезда, то вообще будто бы есть грандиозный план по перенесению Сулейман-горы на середину между Ошом и Андижаном…
– Берите, плов остывает, – вставляла подслеповатая Бойкуш.
– … будто бы народ Андижана объедает народ Оша и топчет его землю…
– Вы совсем не берёте… – жаловалась Бойкуш.
Дед, впихивая насилу в себя очередную горсть плова, облизывал пальчики и собирался продолжить, как… вдруг заметил, что тётушка из Андижана, с таким трудом добравшаяся до своей гиласской племянницы, теперь наевшись плова, тихонько посапывала под чачваном. Мудрая Бойкуш, заворожённая то ли рассказом тётушки со слов Хашимджона, то ли еще чем-то, вдруг стала вращать своей бесшеей головой, как сова, почуявшая мышь. Мышь приближалась и увеличивалась в размерах и каждый ее шаг, величиной со вздох, делал подслеповатые глаза Бойкуш всё более напряженными и затачивающимися. Но дед, сидящий за дастарханом напротив тётушки, видел большее – с каждым вздохом, как будто всё это время пережёвываемый плов опускается всё ниже и ниже – всё ниже и ниже опускалась изначально косая грудь тётушки, и внезапно она оказалась на коленях, сидящей скрестив ноги почтенной гостьи. Срыв оказался столь резким, что Фатхулла вздрогнул, и своим просаженным от фронтовой махры голосом гаркнул: «Ё пирай!»
На этом месте для мальчика кончалось все веселое в этой истории о покойной старушке Бойкуш. Теперь они лежали почти рядом, между ними был еще Джебраль – отец Хуврона-брадобрея, да Угилой – одна из жен Толиба-мясника, которую затащил под себя, прихватив за широкое и крепкое платье, проходящий товарняк… Вот и теперь оставшийся одиноким на кладбище Фатхулла, воскликнув свое «Ё пирай!» – поправлял и поправлял кетменем тот холмик, под которым лежал старик. Потом Фатхулла стал озираться кругом, сначала в сторону удалившейся за Гаранг-муллой процессии, а следом и в сторону, где стоял мальчик. Тогда мальчику на мгновение показалось, что он ищет его, как ищет и не может найти под вишнями Хуврона, с отцом которого – персиянином и отшельником Джебралем он дружил, и эта дружба в глазах у пацанвы приобретала какой-то таинственный смысл оттого, что один глаз Джебраля – ровно противоположный слепому глазу Фатхуллы – был стеклянным…
Мальчик вспоминал это, пока Фатхулла поочередно почтил могилы Джебраля и мудрой Бойкуш, и снова огляделся вокруг, как будто пытаясь и не умея найти себе место в этом кругу, и, наконец, пошел своей грузной походкой по той тропинке, куда ушли люди, ведомые Гаранг-домуллой. Мальчик теперь видел, как аккуратно – крошка к крошке, притоптана, прибита земля дедовского холмика, и ему вдруг стало нестерпимо стыдно за все проделки со звонком, как если бы Фатхулла все это время знал имя того, кто это делал, но молчал, непонятно из каких соображений, а может быть просто из доброты, и вертел всякий раз головой так, как бы для острастки, как на его месте вертел бы головой любой…
Мальчик сидел над могилой и наблюдал за муравьиной дорожкой, вдруг выбившейся с самого краю этого холмика, почти что под самыми ногами – муравьи обходили, обнюхивая его ботинки, здороваясь на каждом шагу друг с дружкой, с теми, кто шел навстречу, и пропадали у других, покрытых колючками могил, там, куда между ног, почти просунув голову, смотрел мальчик. От того, что он перегнулся – слетел через голову ранец, и тогда мальчик опять вспомнил Фатхуллу, и опять ему стало невыносимо стыдно, как если бы все это время Фатхулла наблюдал за ним, подобно тому, как он сейчас за мурашами, и тогда, проглотив стыдливую слюну, он стал вспоминать слова молитвы, которой учила его бабушка, и стал читать ее вслух, и слыша сам себя, чувствовал всю торопливую неестественность непонятных слов, что посыпались на мурашей, неудобство, что передавалось мурашами в затекшие ноги…








