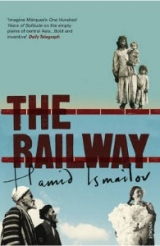
Текст книги "Железная дорога"
Автор книги: Хамид Исмайлов
Соавторы: Алтаэр Магди
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Глава 9
Как любили в это время Бахриддина-певца!
Наверняка никогда и никого так не любили, как его! В чайхане у сына Умарали-судхура появилась афиша, на которой эта «море веры» – а именно так переводится его имя – вырастал из музыкальной шкатулки, сделанной в виде мусульманской Каабы, а может быть наоборот – из Каабы, замаскированной под черную шкатулку с драгоценностями нации. Словом, весь Гилас, якобы за квелыми лепешками, ходил смотреть на афишу азиатского Рашида Бейбутова.
Оппок-ойим, купившая к тому времени место гиласской паспортистки, и за этим набравшая столько денег, что пожелай – могла бы прикупить и место директора филармонии, к которой якобы относился всеобщий любимец, и та потеряла от любви свою поседевшую, а потому скрасившую ее альбиноскость голову. В перерывах между штемпелями, каждый из которых стоил две пенсии Октама-большевика, доживающего свой коммунистический век в доме престарелых, она размышляла о поводе, дабы устроить здесь любое пиршество – да хотя бы славные большевистские похороны брата, чтобы пригласить на это пиршество Бахриддина, и принародно, при всем Гиласе выйти в круг и надеть на него златотканый халат, и подвязать его златотканым шёлковым поясом, и по этому случаю, вернее, за этим случаем хоть однажды в жизни, принародно, прилюдно обнять его, подержать его на мгновение в своих объятиях, а потом уже хоть и сама умирай, не дожидаясь беглого мужа…
Но, увы, Октам не умирал из большевистской принципиальности, дожидаясь победы коммунизма, дочери же Оппок повыходили в городе замуж «по-комсомольски» – без пиршеств и угощений, втихую – в студенческих столовых, сын ее – слесарь автобазы – Кувандык – женился и вовсе на русской, пристрастившись поначалу к их водке. Что возьмешь с племянника своего дяди – тоже не повод для свадьбы, а потом и сам Бахриддин оказался не шибко уловимым.
Только придумала было Оппок-ойим повод – муж ее Мулла Ульмас-куккуз, вернувшийся из лагерей, был назначен на должность «носителя вымирающих языков» в городской институт, как из того же самого Города пришла страшная весть, будто бы Бахриддин, ее любимый Бахриддин – море её веры – с такими же, как и он, знаменитостями, дескать, устроил публичный дом из оркестранток под управлением некоего то ли Согинча, то ли Севинча, пропади они пропадом! Будто бы в этом доме все ходили в чем мать родила, распевая между делом, или как самое дело – своими ангельскими голосами лучшие песни своих репертуаров. И вот, как рассказывали, туда же попал однажды некий министр каких-то дел, и оказался, что называется, не у дел: то ли слишком громко пели эти нагие ангелы, а министр проходил мимоходом в дом по соседству, но как бы то ни было из Города пришла страшная весть, что с Бахриддина сняли там же все, что на нем оставалось: звания, лауреатства, регалии, и отправили его отбывать культссылку на берега начавшего уже подсыхать Аральского моря.
Прошло несколько лет и Оппок-ойим, сохранившая верность своему кумиру среди наплодившихся голосов и голосят, лишь прослышала через племянника Пинхаса Шаломая, замещавшего Бахриддина теперь на свадьбах, что племяничий Устоз возвращается из ссылки, как тут же через специального посланника, снаряженного в город, решила предложить Певцу устраивать те самые «ангельские песнопения и радения» здесь, в Гиласе, благо, через своего ставленника на Кок-терекском базаре – через того самого досрочного пенсионера Али-шапака, она купила и обставила целый весовой зал, куда директор медучилища нагнал якобы для практики по анатомии и физиологии человека целый курс молоденьких медичек, но, увы! К тому времени Бахриддин окончательно, как оказалось, остыл к девочкам и перешел будто бы на собак.
Специальный посланник, пропавший на неделю, потом две недели рассказывал всему Гиласу, что Бахриддин – это море веры, купил у казахов 4 холма и одну лощину за Черняевкой у Шараб-хоны, что на один холм садится он сам, на другой сажает своего противника под навесом, по двум оставшимся рассаживает судей, секундантов и болельщиков, а посередине – в лощине устраивает этот самый свирепый собачий бой.
Рассказывали, что несколько лет и месяцев понадобилось для того, чтобы пес Бахриддина по кличке Лабон стал необоримым в округе от Арала и до Урала, от Памира и до Приморья, после чего он заклал своего непобедимого Лабона среди четырех холмов Шараб-хоны, и по указанию первого секретаря этих мест, выправившего свой бюджет, благодаря нахлыву болельщиков, породивших новую инфраструктуру и рабочие места, четыре холма вместе с лощиной посередине были оцеплены навсегда надписью «Стой! Опасная зона!»
И вот теперь, когда Оппок-ойим, слушая по радио обагренный нечеловеческой тоской голос кумира:
Итингдурман, сочинг занжирини буйнимга махкам кил [30]30
«Я твоя собака, привяжи покрепче к цепи своих волос» (Бабур)
[Закрыть] …надумала собрать к себе лучших собаководов среди местных корейцев, дабы хоть как-то помянуть изысканной собачьей кухней короля псов, закланного королем песен, и опять отправила гонца в Город – оказалось, что Бахриддин – гордость веры, удалился теперь в гордое отшельничество. Он никого не принимал, читая день и ночь классические тексты, которые он раньше пел на свадьбах за деньги, за деньги – назначенные хозяином свадьбы, за деньги – всовываемые в карманы, за пояс, под тюбетейку и даже в резонаторскую дырку его тара, как в почтовый ящик, за деньги – дождимые над ним его бесчисленными обожателями всех трех полов.
Теперь он читал старинные рукописи и понимал их сокровенный смысл, раскрывающий ему глаза, казалось бы на себя самого… Три года и три месяца читал он эти толстенные книги, собранные им по всем кишлакам и аулам, пока не стал разбираться в них лучше всех филологических институтов и музыкальных училищ во главе с Хамидом Сулейманом и Юнусом Раджаби. Он поседел от своего знания и решил поведать это знание людям…
При его собранных манускриптах будто бы создали институт рукописей, а он обернул их смысл в голую оболочку своего измудревшего голоса. Время его решения пришлось как раз на отъезд Муллы Ульмаса-куккуза в Америку по тому самому настоянию Пинхаса Шаломая и по той самой рекомендации учителя математики Солженицына. Раздираемая каверзной проделкой этого проныры Пинхаса, заплатившего ей в свое время за паспорт на имя Петра Михайловича Шолох-Маева золотыми украшениями с последней жены бухарского Эмира, обнищавшей в Кермине, а теперь вот отплатившего ей выкраденным мужем и через своего племянника последней вестью о том, что будто бы Устоз покрасил волосы иранской басмой и опять вышел в люди; так вот, раздираемая этими двумя чувствами, постаревшая, но не сдавшаяся гиласская паспортистка Оппок-ойим – родная сестра видного большевика Октама-уруса, заработавшего к тому времени за долголетие Орден Дружбы Народов, решила объединить эти два противоречивых чувства в одном: она вышла на пенсию, и чтобы оплакать все разом, опять послала гонца к Бахриддину, поставив на кон то самое золото с последней жены бухарского эмира, полученное ею за зарубежный предпоследний паспорт Шолох-Маева.
И вы знаете, по всему Гиласу, как молния, как гудок стародавнего кагановичского паровоза, разлетелась, разгромыхалась, распростерлась эта новость: Бахриддин – море Оппок-ойимовской веры – едет в Гилас! Срочно разменивались деньги на мелкие, дабы большее количество раз подходить к кумиру с порцией признательности за талант – вот тогда-то побочный сын Умарали-судхура от жены Кучкара-чека – Эргаш-Юлдаш и набрал свои два мешка тысячерублевых купюр, которые потом, через семь с половиной лет горели при пожаре, покрывая Гилас запахом влаги и плесени…
Сама Оппок-ойим пригнала с шерстьфабрики бригаду татарок во главе с Закией-ногайкой на побелку и покраску дома, двора, деревьев. Закия-ногай – дочка видного джадида из Крыма, приехавшая в свое время сюда обучать местных женщин грамоте и новой жизни, но кончившая свою собственную непутевую – мойщицей на шерстьфабрике, почему-то вспомнила, что когда к ним в Крым на заре века приезжал к её отцу выдающийся певец этих мест – Домла Халим, её отец купил по такому случаю рояль, который весьма понравился хофизу: между педалей он ставил свою палку, на пюпитр складывал очки и четки, а на саму огромную поверхность – чалму и чапан; и тогда воодушевленная Оппок-ойим сняла с хлопзавода бригаду грузчиков-осетин и выторговала у директора капланбекской свинофермы корейца Чень-Дука, которого она в свое время сделала казахом Ченьдукбаевым, рояль «Рёниш-1911» доставшийся тому вместе с правлением свинофермы от местного немца, высланного после войны в Германию.
Пока осетины доставляли этот рояль, отвезя взамен в опустевший кабинет Ченьдукбаева биллиардный стол из гиласской библиотеки, рядом с благородной надписью «Рёниш-1911» появилась еще и другая: «Хацунай-196…», выцарапанная кривым осетинским ножом. Впрочем, Закия-ногайка забелила и ту, и другую надписи, покрыв весь рояль вместе с 64 клавишами белоснежной автомобильной краской. Особо тщательно она выбелила коротенькие и выступающие черные клавиши, на которых так легко воспроизводились ее нехитрые татарские песни из образованной и избывшейся юности…
И вот когда деньги были наменяны, а карманы тех, у кого с ними было не особенно густо, углублены в штанах настолько, что в них можно было прокопаться весь вечер, будто бы ища ту самую запропастившуюся пачку, приговаривая при этом вбок: «Да, Бахриддин сегодня не тот! Вот запереть бы его один на один и записать на магнитофон под самое утро!», когда, наконец, краска потолка, штакетника, скамеек на 2375 взрослых жителей Гиласа, кроме того, и белоснежная краска закрашенного рояля «Рёниш-Хацунай» подсохла, утром того дня, впервые в истории Гиласа, разыскивая дом Оппок-ойим, который знала всякая собака, на новенькой ГАЗ-21 у чайханы сына Умарали-судхура появился гонец Бахриддина. И через два часа по Гиласу разнеслась весть об инсульте Оппок-ойим. Но это отдельная история.
Здесь же осталось рассказать, что ей после случившегося полупарализовало ноги, и когда она достигла глубокой старости, так и не дождавшись ни Бахриддина, ни Муллы Ульмаса-куккуза, можно было видеть, как преданная ей Закия, восстановившая благодаря Оппок-ойим фамилию своего знаменитого отца, и теперь получавшая специальную пенсию с месячным продовольственным пайком из макарон, тушёнки и черного перца, возила старушку в детской коляске вдоль по всему Гиласу, и даже на Кок-терекский базар по воскресеньям, и Оппок-ойим, обвязанная по всем своим 360 жилам тряпочками, платочками, бинтиками с деньгами, развязывала их то у киоска газ-воды толстухи Фроськи, по которой сохло все мужское население Г иласа, то у мясника Толиба, подкладывавшего за расспросами о житье-бытье собачью кость в середку демонстрируемой мякоти – и то в отместку за своего пенсионера-брата, то у сапожника Юсуфа, писавшего все время вскрытную за будку Хуврона-брадобрея, так что будка поросла сперва мохом, а теперь плющом, так и развязывала Оппок-ойим то одну, то другую подвязочку, рассчитываясь с этим миром и все более облегчаясь наподобие священного дерева, и возвращаясь все в той же детской коляске, подталкиваемой поперёк рельс, а потом по кривым гиласским переулкам Закией-ногайкой, и вернувшись домой, но, не выгружаясь из коляски, Оппок-ойим брала в руки то фотографию и единственное письмо своего скиталого мужа Муллы Ульмаса-куккуза, обреченного учить могучий русский на Брайтон-бич, а то свой единственный и неизменный паспорт с фотографией, на которой она была бела от природы, но не от старости, и плакала сухими глазами, пока Закия, негнущимися и дрожащими от Паркинсона пальцами, тыкала по проступившим от времени черным клавишам, набирая нехитрые татарские мелодии своей далекой юности…
Глава 10
В зарослях тутовника, простиравшихся между тонкой линией первых домов улицы Папанина с одной стороны, и корейской махаллёй с другой, было несколько инжировых кустов, о которых знала лишь старушка Бойкуш (ее некогда заводил сюда Толиб-мясник) и её соседка Зеби – жена одноглазого Фатхуллы-фронтовика – ума, совести и чести махалли. И вот когда они вскрытную ото всех пробрались будто бы справить свою нужду, а на самом деле стали наслаждаться этими райскими плодами, под которыми Толиб-мясник рассказывал подслеповатой Бойкуш историю Адама и Евы, издалека их окликнули. То была кореянка Вера. А может быть Люба. Или Надя.
– Улгур, бу ердаям топиптия! [31]31
– Треклятая, и здесь разыскала!
[Закрыть]– выругалась Бойкуш. И мгновение спустя громким голосом позвала:
– Хай, буёкка келинг! Бирга анжир еймиз [32]32
– Хей, идите сюда. Будем вместе есть инжир!
[Закрыть]! – и тихо добавила, обернувшись к Зеби:
– Всё равно сама уже идет…
Глава 11
… Этот бесконечный разговор стариков убаюкивал мальчика своей потусторонностью, подобной тому сонному свету, который зависал зимними ночами над керосиновой лампой, когда они всей семьей садились выщипывать семена из хлопка, и бабушка, примеряя обрезок сатина к медленно растущей кучке ваты, тихо напевала:
Гунохим бора-бора тогдин ошди,
Киемат кун мани шарманда килма…
Грехи мои тихо-тихо выросли выше гор,
В судный день меня не опозорь…
и эта полушёпотная песня влекла ко сну, ещё более мягкому, чем вата в медленных пальцах, и еще более тихому, чем свет от начищенной мальчиком лампы № 10. Но теперь мальчик боялся уснуть, и сон ему казался тем же, чем и еда для домашних, а может быть еще более недопустимым и грешным, потому что пенять было не на кого, и тогда он стал очищать от налипшей соломы свою байковую школьную униформу, – китель, как называет ее дед, то есть теперь уже называл, и называл её так потому, что чего бы он сам не носил – он всё называл кителем, так что однажды, когда он еще только начал ездить в Москву по железной дороге, он привез как-то то, что он назвал летним кителем, и на другой же день надел его – этот тонкий, полосатый как матрац «китель», а еще точно такие же полосатые штаны, которые заправил в свои бессменные брезентовые красные сапоги, и сколько его не уговаривали и не пристыживали почуявшие неладное женщины дома, поехал таки в этой пижаме, как назвал ее дядя Изя-индпошив, вправленной к тому же в сапоги – в город…
И этот «китель», такой же позорный, как и пижама на деде, этот ненавистный китель с единственным достоинством: прольешь на него чернила и ничего не заметишь – был еще более ненавистен мальчику оттого, что им наградила его школа, и этот позор, когда на «линейке», посвященной дню рождения Ленина, косая Аннушка объявила, что ему вручается форма за отличную учебу и примерное поведение, а потом еще, несмотря на его побег с этой проклятой и позорной «линейки», передала эту гнусную форму через набитую Мошку, а бабушка даже стала при той припоминать, что ее детям такого не давали, так вот, этот самый позор заставил его впервые убежать из дому.
Впереди были майские праздники, и эти праздники одним своим существованием заставляли радоваться тому, что в эти дни не надо ходить в школу, но это же самое вдруг отдавалось в сердце мальчика щемящей тоской: кого из ребят отыщешь теперь на школьном стадике…
Но и все равно, – думал мальчик, – домой он не вернется, отыщет ушедшего чуть раньше деда, будет жить как придется, но домой не вернется ни за что. Как быть со школой, он еще не решил, но после позора на линейке… И теперь, очищая свой китель от налипшей соломы, он ненавидел эту униформу вдвойне: и за позор перед всей школой, и еще больше за то, что теперь, вспоминая день ее получения как позор, он, тем не менее, видел его с ненавистью на себе – этот весь облипший соломой, висячий, интернатовско-детдомовский халат.
Бабушка сказала: «Вот видишь, и школа тебя пожалела, форму тебе дала, а вот мать твоя ходила в школу в платье из мешковины. Я ей сшила сама в артели… Вату для фуфаек присылали в мешках, и вот один из них разорвался… Бедная моя дочка…», – и она заплакала, или даже нет, заплакал ее голос, а она сама продолжала складывать эту форму, разглаживая болтающиеся рукава и застегивая две крайние, металлические со звездочками, пуговицы.
Он наотрез отказался носить эту подачку, тогда бабушка вместо того, чтобы оставить его в покое, стала приплетать к маме еще и деда, сказав, что нельзя быть таким чистоплюем, и если дед чистоплюй, то ведь и он ему неродной…
И этого уже мальчик снести не мог, поскольку какое-то кружение внутри, наподобие воды, заполняющей бутылек под быстрой струей, то кружение, выплеснувшее из глаз совсем неожиданные слезы, оглушило уши звоном, и не задержалось на этом, а закружило его самого и вынесло за ворота и по переулку, мимо высоких дувалов крепости Хуврона-брадобрея, к железнодорожной насыпи, и опять свернуло его в сторону пристанционного базарчика, и понесло по шпалам железной дороги, куда-то вверх, к пакгаузам. Он шел тупо и долго, пока дошел дотуда, где ничего кругом не было знакомо, где кончились все его слюни, сплевываемые под каждые десять ненавистных «чис-то-плю-ев», и даже это обидное слово теперь не казалось ему обидным как прежде, но сухая горечь на языке осталась, и она становилась еще горше от ветра, которым несло издалека, из-за вывороченной у насыпи земли, из-за придорожных зарослей джиды, откуда-то из горьких полынных степей.
И странную свободу почувствовал мальчик, как если бы на этой вечереющей и пустой земле он остался совсем один, один без обидных слов, без позора и страха, без нужды в друзьях, которые уедут с родителями на праздники в город, без этого города, куда и он должен был ехать с бабушкой, но совсем за другим – за леденцовыми петушками, чтобы торговать ими потом в Г иласе, – и он теперь мог делать все, что ему вздумается, кричать во весь голос: «Ма-ма, ма-мочка, а тебя люблю!» – и пугаться своего голоса только в первый раз, когда из-за развороченных куч земли вылетела испуганная ворона, и, перепугав его, улетела, недовольно каркая вдоль столбов, можно было взять камень и швырнуть вслед этой вороне, просто так, из-за того, что и это можно было сделать, можно было делать что угодно, но делать было совсем нечего. Мальчика поразила эта скудость, очень похожая на небо, которое на глазах опускалось, сворачивая, казалось бы, беспредельную землю с одной стороны на другую, совсем как бабушка сворачивает супру [33]33
клеенчатая скатерть для теста
[Закрыть]после того, как мальчик поотбивает тесто кулаками, и тогда она ставит таз с тестом в сторону, чтобы мальчик укрыл его скатертью и одеялами, а сама начинает сворачивать супру, оббивая ее с обратной стороны, так что мука сыплется с клеенки на другую ее сторону, как и сейчас с одной стороны, кажется, посыплются мучнистые звезды.
Мальчик так загляделся в небо, что внезапно раздавшийся гудок поезда напугал его не меньше вороны, и он метнулся с насыпи раньше, чем понял, что это поезд, и что машинисты решили, быть может, просто подшутить над ним, стоящим там, где никогда никто не стоял. Он был в этом почти убежден, особенно когда над его головой метнулся яркий луч, и только глянув вслед ему, мальчик понял, что это закат, отраженный стеклами тепловоза, но и все равно вылезать из-под бугра земли ему не хотелось, пока совсем рядом с ним не раздался еще раз гудок, от которого задрожала земля, и тепловоз загремел тяжелыми колесами где-то впереди. Тогда он вылез из вороньего укрытия, чтобы, может быть, как этой улетевшей вороне, помахать кулаком вслед этому тепловозу, но, увидев, что поезд пассажирский, он опешил. Прятаться было поздно, да и не хотелось, тем более что изо всех окон смотрели на полевой закат люди, но и стоять перед ними, едущими откуда-то и куда-то, он не мог, и не мог потому, что они помешали ему, а не он – им, они ворвались в его жизнь, а не он, но, думая о том, что бы им сделать такого, он увидел, что никто, оказывается, и не смотрит на закат, каждый занят у окон своим делом: кто стелет постель, разворачивая ее, как бабушка супру, кто чего-то ест, кто – пьет. А особенно в вагоне-ресторане…
И вот когда мальчик уже раздосадовал, что некому отомстить за все, в одном из последних вагонов за открытой дверью тамбура стояла девочка и вправду смотрела на поле и на закат. Она была единственной с этой стороны, кто не за окном, и тогда мальчик решил, что отыграется за всех на ней, он судорожно думал, что бы сделать – запустить ли глиной, расстегнуть ширинку или совсем стянуть с себя штаны…, и когда вагон сравнялся с ним, он вконец растерялся, и неловко поцеловав кончики своих пальцев, бросил этот поцелуй в сторону девочки; та, опешившая, стояла и улыбалась, и даже не стала вертеть пальцем у виска, а высовывалась из тамбура, держась за поручень и глядела в его сторону. И это совсем сбило его с толку и даже бросило в краску, а потом, когда поезд увез свой хвостовой красный свет за далекий поворот, стыд мальчика все еще гудел в рельсах, теплых от красного солнца, гревшего их целый день, и этот гуд передавался через пылающие щеки и в сердце, отстукивавшее как поезд по рельсам свой быстрый бег.
И мальчик крикнул: «Девочка, я тебя люблю», и на этот раз не испугался уже ничего, потому что знал, что его голос в спустившейся темноте не долетит дальше этой вывороченной земли, дальше зарослей джиды, дальше этой пустоты, которая теперь была его личной, собственной, помеченной и наполненной им, наполненной настолько, что ее хотелось побыстрее оставить, как взбитое до конца тесто, когда оно уже не вмещается в таз; и он быстрым шагом пошел по шпалам обратно.
Когда он дошел до первых корейских домиков с соломенными крышами, было уже темно. Где-то вдалеке, наверное, в совхозном винограднике, лаяли собаки. Если бы не собаки, которых пораспустил совхозный сторож Наби-однорук, тем временем как сам воровал хлопковые семена из-под вагонов, можно было бы пойти туда, в этот виноградник; там, у старого, разваленного дувала под орешиной сброшено все сено, которым укрывали виноград на зиму. Из этого виноградника они всю прошлую осень возили на тачке домой сухолом, вернее сухорез – обрезанные по весне лозы, – ими бабушка топила тандыр [34]34
глиняная печь для выпечки лепешек
[Закрыть], и тогда это сено лежало, высушенное за лето на солнце, а виноградник, обобранный и засохший, таил под сухими листьями малюсенькие хрустящие гроздья, которыми оно объедались под орешиной на этом самом сене, а однажды они взяли с собой и жадину Минталипа с его братишкой – Минтахиром, и этот Минталип, вместо того чтобы собирать сухорез, полез на эту орешину и набрал на ней полную майку орехов, и все ему казалось мало, даже когда они кончили есть виноград и стали собираться катить свою полную тачку к дому. И тогда Минталип потянулся за последним на дереве орехом, и вдруг треснула ветка и он, вопя, грохнулся с этой высоты на землю рядом с кучей сена, а они даже не заметили как его тут же следом накрыла обломанная ветвь, так был сладок хрустящий виноград, а когда обернулись, то услышали из-под этой ветви его голос: «Мин – та – хир… Мин-та-хи-ир…» и какое-то бормотание, похожее на хрипы. Они бросились к нему, перепугавшись до смерти возможного, и когда стащили эту лапистую ветвь, Минталип лежал плашмя и зовя из последних сил своего брата: «Минта-а-хи-ир…» – пересчитывал за пазухой свои нерастерянные орехи: «Биряв, икяв, ущяв…»
А дальше, за совхозным виноградником, начинались поля, разрезанные двумя или тремя многокилометровыми арыками, по неровным берегам которых они собирали по весне мяту, и каждую весну бабушка отделяла от теста, предназначенного для базарных лепешек, один катыш и последний тандыр оставляла на самсу [35]35
печеные пирожки
[Закрыть]из этой мяты, съев которую, можно было весь год ходить здоровым. Зелень эта помогала во многом, и она, как говорила бабушка, была лучшим «погонщиком хлеба», уступая лишь к маю это право сначала зеленому урюку, а потом и зеленым яблокам.
Можно было бы и сейчас, вернувшись на станцию, пробраться незаметно в переулок, откуда всегда выбегал старый Фатхулла, и через дувал забраться на яблоню, полную этих яблок, но их кислота, только представленная кончиком языка, уже заставила урчать горящий живот.
Он на секунду остановился на рельсе, по которой шёл, и даже не потому, что на подступах к станции она раздваивалась у самой первой стрелки, а потому что ему показалось, что он забыл нечто мелькнувшее секундой раньше в памяти, то, что секундой позже, перейди он на другую, уходящую к краю полотна рельсу, безвозвратно забудется, и он обернулся назад, где в темноте, сверкая от лунного света, убегали вдаль коротенькие рельсы, а потом посмотрел по сторонам, и в этом лунном свете с высоты железнодорожной насыпи увидел за низенькими корейскими домишками бескрайние поля, окаймлённые лишь во-он там Зах-арыком.
Там, на Зах-арыке Сабир и Сабит утопили Хосейна – внука Джебраля в день обрезания мальчика. Мальчик шёл по рельсе мимо пустой и окраинной пристанционной башни, в которой прятался брат Хосейна – убийца Эзраэль с брадобрейским лезвием отца в руках в тот самый день, когда вся станция знала, что Сабира и Сабита привезёт не Мусаев, а городская милиция, и из их дому – такой же, как и корейские камышокрышие халупы – развалины за этой башней, поведут к Зах-арыку, но даже когда кто-то, кажется, однорукий дядя Наби принёс попутную весть о том, что видел их у Зах-арыка, Эзраэль всё равно не уходил из этой башни, так и простояв в белом парикмахерском халате дотемна. И теперь, озираясь на башню, и заметив промельк в её чёрном проёме, мальчик содрогнулся от ощущения, что Эзраэль всё ещё стоит там и ждёт своего часа, от этого ощущения мальчику стало так жутко, что он побежал на другую сторону железной дороги, к пакхаузам, где как всегда стояли отцепленные вагоны.
…Вспоминая это теперь, когда замолкли старики, мальчику нестерпимо захотелось крикнуть им или позвать кого-нибудь хоть откуда, и он даже вскочил со своего места, но, ударившись головой о балку стропил, завыл и уселся обратно на сено. Странно, что и тогда, пустившись в безотчётном испуге под вагон, он разогнулся чуть раньше времени и так хрястнулся спиной о какую-то железку, что так и лёг животом на рельсу посередине колёс вагона и лежал, не двигаясь, как теперь сидел, и ему вдруг всё стало настолько безразличным и однообразным, что он стал лизать языком острые насыпные камни полотна. Поедь сейчас маневровый поезд и зацепи этот вагон, он так бы и остался лежать наперевес через рельсу, а утром его бы нашли перерезанного надвое и занесли бы обе эти половинки домой, бабушке, а ещё лучше, если одну половину отдали бы косой Аннушке, которая всю жизнь его преследует и жаждет, чтобы он жил у неё…
И лёжа на этой рельсе, где его пустой живот наконец нашёл успокоение, мальчик думал разом обо всём, что окружало эту железную дорогу с этой стороны станции: о пункте Белялова, куда каждое лето они устраивались всей улицей колотить реечные ящики по тринадцать копеек за штуку, и об этом гнусном Белялове, не выдавшем мальчику ни копейки за последнюю неделю работы, за которую он сколотил двести семь ящиков, и о пакхаузе, где во всякое другое время можно было найти работу: весной – грузить в вагоны капусту, осенью – арбузы – по рублю за тонну, где они с Сашкой Ахтёмовым брали вагон, а потом собирали под своё начало ещё пацанву и начиналась работа: тонна – рубль, машина без побитых арбузов – рубль с водителя, проданный на поезд арбуз – рубль с пассажира, но и здесь их дурили, как могли, а попробуй – заикнись – сразу грозились сообщить в школу, домой…
Угроз о доме мальчик не боялся, бабушка знала и поощряла эту работу, а вот если расскажут в школе… Словом, мерзко дурачили! Они-то с Сашкой – ладно, получали по своей десятке за день, а вот эта мелочь пузатая – Кутр, Витёк и другие, кроме съеденных в вагоне арбузов ничего и не получали, так что приходилось делиться ещё и с ними.
А потом, бабушка, которой мальчик отдавал все заработанные деньги, взяла и купила мешок семечек на городском базаре, и когда кончились арбузы, стала их жарить и заставлять мальчика торговать ими на базаре своей станции, оставшемся там, в стороне ног мальчика.
Он со жгучим стыдом и отвращением вспоминал тот первый день, когда базаркомша Озода – племянница Оппок-ойим подошла обилечивать его, и впервые увидев его не с выпеченными лепёшками, которые она покупала вперёд всех, а с тазиком семечек, сначала удивилась, а потом при всех завсегдатаях базара: при старушке Тыртык, торгующей кислым молоком, при Олмахон, привозящей из города помидоры и огурцы, при Кули-бобо, торгующем куртом и свистульками, при Банат, выносящей горячие татарские беляши, словом при всех усмехнулась и произнесла: «Это что, у вас тандыр никак обгорел?» И все рассмеялись, но не как старики смеются в чайхане, как они смеются и сейчас, когда под животом дрожит балка, едва замазанная глиной и посыпанная соломой, а каждая в свою варежку, ехидно и зло, а ещё угодливо для этой Озоды, как будто за этот смех она сегодня освободит их от оборов… От отвращения, которое он безуспешно пытался протолкнуть комом слюны в горло, задрожала рельса, как сейчас задрожала от смеха балка, и он даже обрадовался тому, что может быть уже поужинавший Акмолин двинул свой маневровый тепловоз, и теперь взял путь сюда, но ничего кругом не слышалось, и тогда он понял, что воздух со слюною гуляет по его животу, и от неудержимого пучения его шатает на этой врезывающейся в живот рельсе.
Он не умел перечить бабушке, совсем, совсем не зная почему, и всякий раз, когда он ещё дома, у тандыра отказывался выносить на базар лепёшки, бабушка не ругала, не проклинала его, но молча, со слезами на глазах брала сават с горячими лепёшками и, не сбрасывая своего засаленного брезентового халата, в котором пекла лепёшки в огнедышащем тандыре, шла, ковыляя на своих больных ногах, и мальчик, всякий раз чуть не плача от бессилья, догонял её у калитки и выхватывал из её рук сават – плоскую плетёную корзинку, чтобы здесь же в переулке постараться распродать лепёшки прохожим, а потом, если получится, то зайти в чайхану, там, по крайней мере, нет никого из школы, если не считать учителя узбекского языка – Киргизбая-казаха – который, оказывается, учился ещё с мамой, и как говорила бабушка: «Сам только ещё вчера выносил к поезду пучками зелень»; но когда лепёшки не раскупались и там, то приходилось идти на базар и платить Озоде за сбор первыми двумя лепёшками и смотреть во все глаза – не появится ли кто из школы. А появись какое угодно знакомое лицо – он тут же бросал свой сават и уходил к газ-будке или к водопроводу, а когда появлялись учителя, то просто за угол, и дожидался пока они неспешно пройдутся по всему базарчику и почти всегда, уже привычно, отберут из савата лепёшек и бросят на тряпочку мелочь, да медленно пройдут…
Вот так случилось и с семечками. Легендарному Зуеву вздумалось их пощёлкать, а в это время вышла зачем-то на базар бабушка. Попробуй ей объяснить, что… а что ей объяснять, когда она, схватив этот тазик с семечками, несёт его домой, как уносила сават с лепёшками к калитке, и сколько за ней ни беги, она не вернёт этих семечек, и тогда мальчик выхватил тазик из её рук, как выхватывал сават с горячими лепёшками и со слезами отчаянья пошёл от неё на базар, а она так и осталась стоять, смотря вслед ему такими же глазами, с какими она забирала от самого тандыра сават с лепёшками.








